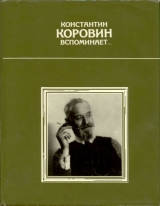
Текст книги "Константин Коровин вспоминает…"
Автор книги: Илья Зильберштейн
Соавторы: Владимир Самков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 53 страниц)
– Версты четыре отселе… из деревни, бедный он, все сам через себя. Потому – с дурью он. Почитай что полгода по каталажкам сидит. От дури… То за лес – ворует, ума эстолько нет. Рубит у дороги, не хоронясь… Через лошадь свою все. Дерево выберет ядреное, а ей не свезти… Сидит. Пилит, рубит дуром. В непогоду надо, в ночь, когда ветер воет. А он прямо вот… тихо, кругом слыхать. Прямо на виду. Дурак, значит, выходит – куда ему! Ну и сидит… На станции жандару, – смеясь, говорил Феоктист, – жандару сказал: «Во, – говорит, – што. Царя, когда увидишь ежели, скажи, – говорит, – ему: полно воевать-то, на кой она ляд, война-то…» Ну што ж, его земской вызвал – ну, сидел в тюрьме, с месяц сидел. Видют – дурак, ну и отпустили.
– Ну что за охота говорить о дураках? Вот я приехал на охоту, – сказал мой приятель артист. – Хорошо бы узнать, где здесь водопой.
– Водопой? – переспросил Ленька. – Какой такой водопой?
– Ну, какой водопой, ну где лоси и олени здесь воду пьют:
– Ну, это неизвестно, – сказал я, – река здесь кругом и болота, ручьи… Много воды, кто ж их знает, где они пьют, где их водопой…
– Хороши охотники, – заметил, огорчаясь, артист. – А я был уверен, что на водопое возьму лося.
– Да ведь есть такое место, – сказал Феоктист.
– А где же? – спросил я.
– Да вот, – уверял Феоктист, – есть. Много про то я слыхал. Тут недалече, на Ремже, повыше мельницы, с версту отседа, не боле. Там, под кручей, видали лосев – по ночам пьют воду, мельник сказывал. Там лоси завсегда держутся… Глухо место, и днем нипочем не пролезешь, заросль такая и топь… беда. Там, в версте, лесник этот самый, что поймал Кузьму, живет. Вы знаете его, Кинстинтин Лисеич, вы у него картину списывали.
– Как же, знаю, – ответил я. – Андрей Иванович, человек хороший.
– Пойдемте к нему, – предложил артист.
– Ночь тихая, – говорю я, – что ж, пойдемте.
Было еще не поздно. Мутная осенняя ночь, тишь кругом. Пахло сырым листом, землей, когда мы шли краем леса у речки. Сапоги вязли в разрыхленной тропинке. Темнели леса, потеряв покров листьев. Серое небо светилось в тучах, за которыми прятался месяц. За ветхим мостом через речку показался стеной большой темный лес. Широкий проселок поворачивал кверху, и лес все становился больше и больше. С краю его мы увидели огонек в доме лесничего.
Приветливо нас встретил Андрей Иванович, захлопотала жена ставить самовар. К столу подали меду, лепешки, грибы.
– Вот рад! – говорил лесник.
– Мы к вам ночью норовили, – сказал артист. – Слышал я, что здесь недалеко водопой, лоси пить приходят.
– Есть, есть… – сказал лесник, – это точно. Только где ж – пройти туда невозможно. Топь. Пытали. Вот Казаков со станции тоже хотел лося стрельнуть. Нет, не подойдешь… он сам едва из топи живой ушел. Ведь там глубь какая… А вот лосям можно, они знают, как где прыгнуть. А где ж человеку до их… Я ведь видал, он чисто стрела махнет; глядеть красиво: рога-то на спину кладет и летит – чисто птица. Ну и краса…
– А я надеюсь пройти, – сказал актер. – Опасность – это моя стихия… Люблю жить на краю гибели.
Лесник посмотрел на него пристально и заметил:
– Барин, видать, что вы франтовой. Только нет, не пройти и вам. Прямо нипочем – утянет. Там ступил – ну и прощай, и нет тебя. Глубина…
– Андрей Иванович, – спросил я, – а что Кузьма Никольский осину, говорят, свистнул у тебя в лесу. А теперь, говорят, ему штраф?
– Э-э… кто тебе сказал? – удивился лесник.
– Да он сам, – говорю я.
– Эка дура, ах ты, господи. Это ведь я его пужаю… Что с него взять? Завтра велю ему ее увезти… Чуден мужик… Да он и не мужик. Кровь-то его чья – нивесть, он ведь из шпитального дома. Раздают оттеле детев-то по деревне… Незаконный. Чуден… У него и надела нет – все купи, арендуй, где ж справиться… А еще язык у него, прямо вредный. Ведь это чего – пришел в Караш к попу: «Вот, – говорит, – ты, батюшка, грамотей, напиши письмо царю». А поп ему: «Что ты, царю писать?… Кто ты такой?… Нешто знатный…» А тот говорит: «Нет, я никакой, а вот пиши, потому я, – говорит, – тожа его подданный, пиши ему – пошто войну ведет, потому што его обманывают все… Пущай, – говорит, – приезжает, дак я покажу, сколько земли порожней – и счету нет. На кой ему чужая земля нужна, когда со своей не управишься… вот на етой-то животине, што у меня, што напашешь?… У меня сын был, а теперь, – говорит, – чужую землю забирать пошел…» Этакий человек, возьми его. Ну, опять сажали. Посидит – отпустят. Тут свидетели говорят тоже, што лес тащит. Не за лес ему влетает – язык больно долгий, вот что.
После чаю и беседы, взяв ружья, мы пошли с лесничим посмотреть то место, которое придумал мой приятель артист, – водопой, где лоси. Ласково проглядывала сквозь облака полная луна. Какой-то печалью далекого края, обещанием и заманом тайны манила к себе дорога в темном лесу, в таинственных лучах сияния луны. Мы шли и в тихой ночи слышали шаги друг друга.
Лесничий остановился. Ниже под нами был сплошной и далеко идущий мутный лес, пропадающий во мгле дали. Тихо кругом. Мы стояли и слушали.
– Вот… – сказал тихо лесничий, – во-о-н подале, где светится маленько… это и есть место…
– Пойдемте… – сказал артист.
Мы спустились с пригорка между кустов и чащей зарослей и подошли к краю. Виден был кочкарник и кривые деревья ольхи. Шагнув вперед, артист упал на бок, поднялся. Я попробовал ногой – нога тонула между кочек.
– Не пройти… – сказал лесничий.
Мой слуга Ленька тоже пошел и свалился на кочку.
– Нет, не пройти, – сказал Ленька громко.
Вдали послышался треск… что-то шумело по воде, уносясь дальше и дальше.
– Слышь… – тихо сказал лесничий, – были… Слышь… лоси…
Мы слышали вдали треск сучьев. Настала тишина… – Ушли… – сказал лесничий. – Ну-ка, вот ты и возьми их… Они тоже знают…
Дом честной
В июльский день, когда уже нивами полной и желтой ржи покрыты холмы и долы России, и синие васильки радостно мигают в ней, когда жужжат мухи, и раскаты далеких гроз носятся в небесах, и дождь свежит жаркий день, – я ехал на мельницу ловить рыбу удочкой. На мельницу глухую, в лесу, на реке Нерли. По краям, обросшим ольхой, ехал я в места, похожие на рай, и, право, это был рай земной – старая мельница. Вез меня знакомый крестьянин Иван Васильевич Баторин, человек хороший, рассудительный, серьезный, так сказать, настоящий крестьянин. Семейство большое, трое сыновей и трое дочерей. Сам он старший был в семье.
Ехали мы лугами… День, красота! По обе стороны овсы и рожь, и трава около проселочной дороги покрыта цветами кашки. Дикая рябина в цвету, в небе весело, синее оно, и кучами клубятся белые облака. Ах, как хорошо на свете жить, как хороши простые раздольные долины родины моей России!
– Ноне у нас праздник храмовой, – сказал Иван Васильевич, – Пречистая, приход-то наш. И я ездил, раннюю отстоял. Да вот потом к вам приехал.
– То-то, Иван Васильевич, – говорю я, – нынче ты нарядный. Картуз новый и рубаха голубая. Я думал – ишь принарядился! Так из церкви? Ну, поздравляю с праздником. Что же из дому уехал, поди у вас веселье сегодня?
– Да, в деревне праздник. Я-то не пью. Ноне угощение у нас-то. Да мне что! Завтра успею, завтра родня придет. Ну, а ноне я с вами поехал. Тоже повадно с вами-то. Я ведь любитель погулять этак по охоте.
– Тпру!… – остановил вдруг лошадь Иван Васильевич. – Слепень одолевает…
Он слез с тарантаса и стал поправлять подпругу и дугу.
За ним и я вылез из тарантаса и сел на бугорке у дороги. В это время подошел к нам прохожий. Я узнал в нем крестьянина той же деревни Павла. Поздоровались. Павел попросил как-то у меня работы – послужить, зимой ведь дела нет в деревне, – и я устроил его дворником в Москве. Человек он был кроткий и робкий. Как спросишь его что-нибудь, раньше чем ответит – поднимет плечи и переступает на одном месте, потом уж говорит.
– Откуда идешь, Павел? – спросил я.
– Да вот с карьера, от мастера железнодорожного, – показал он на длинные расчетные книжки, которые держал под мышкой. – За подписями еду в деревню, подписи набирать.
– Какие подписи?
– Какие! Мошенство, вот какие. Так значит: кто грамотный и пишет – такой-то, ну и получает за это десять копеек. Вроде как он работал, выходит. А он и на карьере-то не был, и на ремонте не был. Остальное получает главный мастер. Наживает. Конечно, плутовство одно. Ну что ж – посылают…
– Но ведь это мошенничество? – говорю я.
– Вестимо, плутня. Да кто скажет? Гривенник получает ни за что. Нешто скажет!
Мы сели в тарантас, поехали дальше.
– Хорошо было сегодня в Пречистом, – обратился ко мне Иван Васильевич. – Певчие были, облачение новое, боголепие.
– Что ж, Иван Васильевич, певчие были, молитвы пели по случаю праздника храмового-то?
– Да, всякое разное пели.
– А ну, какие молитвы?
– Как сказать, Кинстинтин Лисеич, ведь не упомнишь.
– Но все же, что-нибудь торжественное?
– Все вполне хорошо, только не по-нашему.
– Как не по-нашему?
– Нет, верно. Вот поют «аллилуйя, аллилуйя, двери, двери», а чего это – неведомо. А один на станции этак говорит мне: «Новую молитву знаешь?», а я говорю: «Какую?» А он говорит – новая молитва: «Отыми у всех, господи, отдай мне».
– Кто это тебе сказал? Что ты? Это тебе нарочно.
– Да вот, нарочно! А он говорит – есть…
– Удивил ты меня, Иван Васильевич, нешто можно такой молитве быть? Совсем ты чудное говоришь, даже странно слушать.
– Верно, я-то неграмотный, а вот этот-то человек, что встречный, Павел этот – ах, скажу вам – грамотный, но беду дому нашему сделал вот какую! Сестру мою через него в молодости в землю отдали. Вот какой человек. Глядеть-то тихий, а лиходей. Вот, – продолжал он, у нас в деревне, по осени повадные вечером собираются в избе – парни, девки. Ну – и танцы, гармонь, пряники, угощения. Моя сестра на возрасте, семнадцати годов. И она на повадные ходит, как и все прочие. Но вот отец Павла посылает сватьев. Значит, за Павла сестру мою прочат. Да Павлово дело крестьянское слабо. Он все больше по станции да по службе норовит. Не крестьянин он. Лошадь плохая, коровы нет, хозяйства нет настоящего. Значит – отказ. И просватали ее в Покров за вдовца, человека крепкого, молодого еще, двадцати шести годов, богатого крестьянина. Все как надо, свадьбу сыграли богатую. Гостей что было!… А через ночь одну он и подъезжает к дому нашему тройкой и входит с женой-то в дом к нам. Мы все обедаем. Вошел, перекрестился, за руку ее берет, ставит посреди горницы и говорит: «Берите ее себе, – говорит, – мне такой в жены не надо. Она порчена». Сел на тройку и уехал… В эту ночь-то у нас крыльцо все дегтем крашено, прямо вся деревня видит. Понять надоть, чего тут! И кто той чести рад. Спасибо этому-то, что встретили! Вот этому-то тихому крестьянину, грамотному.
Он задумался.
– Ну вот, значит, дом наш бесчестный. Деревня знает. К колодцу сестрам пойти нельзя воды взять. Смеются. Ночью парни стучат в окно, приговаривают: «Выходи, милашка Аннушка, погулять». Ну что тут, похабство одно! Она, значит, сознается нам. А дальше что?… Первый бил отец, потом я, братья. Мать не хотела, уходила в сарай, плакала. Ну, били. Крепка была сестра Анна! Вот, Кинстинтин Лисеич, вот и посейчас слезы из глаз идут. Она, сердяга, мне говорит: «Ваня, чего ты, бей меня по сердцу, по голове, скорей кончусь. Братец, не бей по грудям!» И вот, били-месяц, другой. Крепка была. Наконец, кровь пошла у ней горлом. Легла и стонать зачала. Видно, скоро конец. Не били уже больше. Померла через две недели – сама, значит, по себе. Соборовали. Прощения просила, поцеловалась со всеми: «Простите, – говорит, – горе вам принесла, не зная того».
– Вы – убийцы! – сказал я.
– А-а, да… Убивцы, да. Да нет! Ну а сестры, а вся деревня? Ведь ежели это так, то надо допущать. Тогда что? Честь-то дому какая? Эх, убивцы! Вон он, убивца-то, пошел – тихой. Уби-ив-цы… тоже вы скажете… А как же жить в этаком обмане? Дураком все его крестить кругом будут. А он-то, прохожий с карьера, Павел, прямо в лицо смеяться будет. Да, убивцы! А сестры что? Кто возьмет их в дом в жены-то себе? Этаких-то? А дети-то чьи пойдут в этаком разе? Чье дитя-то? – повернулся ко мне Иван Васильевич и глядел на меня. – Убивцы, говоришь? А что ты делать должон с эдакой-то? Что ей дом твой, муж, отец, на что? Какой совет мужу от ее или радость жисти какая? Какая вера ей, какая правда от ее? Не-ет! Этаких правильному крестьянину не надоть. Он ее правильно отдал, ему не надоть такой. Чего, чего! Последнее дело – чести нет, шабаш. На эвтом весь дом держится, да и все.
– Да ведь он брал ее, Павел-то, посылал к вам сватов. Вы ведь отказали?
– Чего ж он? Бери ее, уводи, венчайся. Нет, он тоже свадьбу править хотел с нами. Ровней быть. А он кто такой – матыга! Как же это до венца невесту в полюбовницы определять, где же тут венец честной? Ну-ка, скажи! Пропала сестра Анна.
Иван Васильевич снял картуз, перекрестился, сказав: «Прости ей, господи, а нам простить никак невозможно. Дом честной дороже жисти».
* * *
В 1915 году я заехал в дом крестьянина Баторина. В доме я застал Екатерину, мать семьи Баториных. Состарившаяся Екатерина Ивановна стряпала на столе в избе творожники. Увидав меня, она ласково обрадовалась:
– Здравствуй, родной Кинстинтин Лисеич, как бог милует? Все ли здоровы?
– Где же Иван Васильевич? – спрашиваю я.
– Тоже на войне. Вот Григорий радость принес: убили на войне, за землю постоял, за нас, родимый. Убили. Пишут письмо-то полчане: на штыках повис у их, с лошади сняли. Конногвардейский он был.
Катерина вытерла нос фартуком и ушла за печку. Я молчал. Выйдя из-за печки с заплаканными глазами, сказала, обратись ко мне:
– Убили ништо – за честь, а вот жалко мне Анну-то, дочь. – Катерина заплакала. – Пошто сгибла?
– Что же ты, Катерина, – говорю я, – не защитила? Отправила бы ее.
– Да как? Ведь две-то дочери. Еще ведь их замуж надо отдавать. Теперь отдали хорошо, уж внучата есть. А то, поди, кто возьмет? А ему-то. Павлу, я сто двадцать рублев давала, что за жисть скопила тихонько. А он туда-сюда! Говорит, мало! Слабый он. Ах, горе! Кажинную ночь во сне Аннушку вижу. И венец на ней смертный. Ну вот как заря утреня – пунцовый.
В деревне
Сияет звезда вечерняя. Кругом на поля легла мгла. Тени ночи наступают. Тихо засыпают поля ржи. Прошел жаркий день. Усталый иду я с охоты по сухим тропинкам. Слышу – далеко едет телега и кто-то поет:
Э, да не велят Маше за реченьку ходить.
Не– е и-и веля-ят Маше молодчиков любить.
Ка– а-кова э любовь на свете горяча…
Стоит Машенька, запла-а-а…
Заплаканы глаза-а-а.
Льется песня в просторе полей. Подхожу к проселку. Встречаю телегу.
– Серега, – говорю я, увидав знакомого парня. – А ловко ты поешь, хорошо.
– А ну-ка, знать, Лисеич, ничего не настрелил. Запоздался.
– Жарко днем было, – отвечаю. – Да, мало настрелял.
– Ты вот, слышь. Я ехал у Любилок. Так прямо вот, у дороги, что на Вепрево идет, тетеревьев вылетело – бесперечь летят. Тебе бы туда. Недалеко. Ступай с утра завтра. Охапку набьешь. А то Казаков как узнает, все-ех прищелкает. Дай-ка закурить.
Взяв папиросу и прикуривая у меня, Сергей рассмеялся.
– Чего ты?
– Вот, до чего чудно, – смеясь, говорил парень, – Казаков-то с женою не живет. А женился по ту весну. Чудно. Вишь, она ничего себе, вполне как надо. «Только чудно-то, – как говорит Казаков, – ночью ее вблизи смотреть нельзя. Когда спать-то ложусь. Вот у ней рожа такая, – кажет, – никак невозможно глядеть. Чисто черт». Вот и поди. Чего тут. Чего рассказывает. Бабы-то наши смеются, А он серчает. И в охоту через то ударился. Все время в ей проводит. В охоте-то… И домой зайдет на час-другой – и опять прощай.
– Чудно, – говорю я.
– Верно, что чудно. Я тоже стал глядеть Таньку свою. Только не-е-ет этого в ней. Вот она прямо ночью, что и к утру, хороша, что вот звезда эта. А вот Семен Горохов говорит, – глядел на свою жену. Говорит, – тоже неладно кажет. Все-е глядеть-то спосля такого раза зачали на жен своих. Вот что.
– Ну, – говорю, – что надумаете. Дурацкое дело не хитрость.
– Эй не говори. Ну, а вот Стрекачев, Николай, пить до чего зачал. От бабы. От жены. Сам говорил: через ее язык запил. «Хороша, – говорит, – у меня баба. Но язык – хошь отрезай». Ну, язык такой – беда. Чего только говорит про всех. Нет у ней никого. Все, говорит, жулики, знахачи, а родные все – шаматоны и больше ничего… Всех кроет. Праздник христов – а к ним никто не идет. Ни родные – никто. Знают ейный язык-то. Кому надо слухать про себя эдакое, всякое.
– Не заметил я такого ничего. Женщина хорошая, учтивая.
– Эх, ты, – смеется Сергей. – Ну вот, мы косили во лугу, под Грезиным. Вот она тебя шила. И приятелев твоих. «Он-то планты сымает, а потом землю себе отберет». А про твоих-то приятелев говорит: «Им, – говорит, – ягоду носить никак невозможно: хоша платят хорошо, только запременно щупать зачинают».
– Вот дура, – говорю я. – Что врет. У меня нет таких знакомых.
– Да. А она говорит – есть. Один ее по грибы будто то ли, се ли – в лес звал.
– Кто же это?
– А Борис Николаич.
– Не может быть.
– Хто знает. Нешто скажут. Это верно – язык у ней вредный. Но баба хороша, неча говорить.
– Ты куда едешь-то, Сергей?
– На кузницу. Да поздно уж. Садись, я домой вернусь. Подвезу тебя.
Трусит телега. Едем рысцой. Сергей – парень разговорчивый.
– Верно ль то, вот скажи, Кинстинтин Лисеич, – говорит он, – будто что ты вот сымаешь краской картину, а посля того царь ее глядит.
– Многие глядят. На выставку ставлю. И царь видал.
– Ну, вот. Верно, значит. Говорят у нас про тебя, что ты спишешь тут – он тебе все это и отдаст. Царь-то.
– Нет, неверно. Нешто можно.
– То-то. Нешто он станет чужое отдавать. А вот говорят.
– Дураки говорят.
– Это верно, что дураки… – Сергей засмеялся. – Надысь ты от ворот у саду месяц списывал. Я глядел – как царю быть? Как он его отдать может тебе. Никак нельзя. И тебе на кой он? Аль моховое болото ты списывал, помню. Кому его надо. Чертям нешто. Сейчас завернем, эвона у тебя в дому огонек светит – значит, есть хто.
У крыльца стоит Валентин Александрович Серов.
– Куда ты с утра пропал? – окликнул он меня. – Я уехать хотел. Тощища одному. А где же дичь?
– Жара, – говорю. – Вот настрелял немного.
– Здравствуйте, Левантин Александрыч, давно вас не было, – поздоровался с Серовым Сергей. – Помните, со станции я вез вас сюда с Шаляпиным. Эх, ну и барин! Вот сила. Как на горе-то у Некрасихи спускались, круча там, он как гаркнет: «Держи!» да так-то и так-то меня. Во-о голос. Ужасти. Урядник по мостку вниз шел, так тот и чубрик в воду. А У Любилок в болоте, эвона где, утки поднялись стаей, кричат, думают: что такое? Урядник еще опосля говорил на станции: «Он, – говорит, – мне в перепонную барабанку попал».
Сергей получил на чай и поехал, смеясь и качая головой. Дед-сторож поставил самовар, принес лепешки деревенские, молоко, яйца, жареного тетерева.
– Ну и жара сегодня была днем, – сказал Серов. – Писал там внизу, у речки, в сарае. Пастух подошел. «Дай, – говорит, – мне, господин барин, красной красочки». Я ему дал. Он барану ею рога выкрасил. И смеется. «Это, – пастух говорит, – Серегин баран. Не сказывай. Он теперь всем говорить будет, что у него баран чертом стал».
– Пожалуй, и поверят… – добавил Серов.
– Беспременно поверят, – подтвердил сторож-дед, смеясь. – Так уж, хотя что тут – а поверят. Пастух – плут. А Серега-то даром, что дурноват, больно врать здоров. Пастуху-то скушно, пасет у реки, по лугу, и видит – идет Серега, вот этот самый. Пастух кнутовищем и зачал по воде хлестать. Серега думает: «Почто он по воде так хлещет?» А пастух ему и говорит: «Во, сейчас водяной с рогами выглядывал из воды. Все на твою корову глядит. Я отогнал. Угостил бы ты, Сережа, меня, а то быть беде». Серега ему водки да капустки несет. Прост. А опосля того вся деревня знает – водяной в реке завелся. Серега сам видал.
На другой день утром, когда Серов писал с натуры у речки сарай, к нему подошел Серега.
– В реке здесь водяной живет. Пастух-то видал. И я тоже. Вот страшенный.
– Нет никаких водяных.
– Как – нету? Это вам, господам, он не кажет себя, боится. А мы так видывали не однова.
Сергей ушел, а к вечеру принес нам белых грибов. Говорит – жена прислала Левантину Александрычу жарить чтоб.
– Садись, Сергей, чай пить, – предлагаю я.
Он сел у края стола. Лицо у него длинное. Брови подняты. Смотрит на Серова, откусывая кусочек сахара. Вприкуску пьет чай. И так деловито спрашивает:
– Вот, Левантин Александры, вы с меня в тот раз списывали. Я у лошади стоял. А теперь – в сарае сымали корову мою. Куда это теперь пойдет?
– Серега, – говорю ему я. – Валентин Александрович Серов и самого царя списывал…
– Да неужто? – удивился Серега. – Вот, поди, страху-то натерпелся.
– Нет, ничего, – отвечает Серов.
– Ведь царь-то – это что! Сердитый, поди.
– Нет, не сердитый.
– Как не сердитый! А когда он начальников неверных али плутов плетью порет? Так серчает, поди…
– Он никого… не порет.
– Ну, полно, а кто же порет-то? Неужто другим велит? Нешто можно это. Другие-то легонько отдерут, толку-то и не будет. Меня отец драл. Ну и порол. У-ух ты!
– За что же, Сергей, это он тебя?
– А вот за что… Двенадцати годов это я цигарку свернул и курю. А увидал. Ну и порол, и-х-ты. Здорово. И мою сестру Анку тоже порол.
– Ее-то – за что же?
– Вот за что. Она наберет малины, да на станцию. И продает по вагонам. Которые едут по машине. А себе потом ленту голубую купит али красную. И в косу вплетет. И перед парнями фронт держит. Отец увидал. «Ну, молода ты, – говорит, – вертеться перед парнями-то». Ну, и драл. Тут не вышло у него. За нее-то все бабы да девки вступились. Ну, отца повалили. Кто за ноги, кто за руки держут. Вот пороли его – ужасти. Бабы злы драть. Вот царю-то поглядеть. Поучился бы, как порют-то… Еле оттащили. А то – запороли бы насмерть. Ну и драка была. Вся деревня дралась. И гости дрались. Один жалобиться к исправнику поехал. Ну и его драли опосля – не жалобься.
– Хороши рассказы, – рассмеялся Серов.
Увидав, что рассказы нам нравятся, Серега как-то радостно спросил:
– А неужто вас отец не порол?
– Нет, – ответили мы, – не порол.
– Вот оно и видать.
– Почему? – спросили мы, смеясь.
– Почему. Ну, вот хоша то взять, в шапке в доме сидишь и чай пьешь. Это чего ж. Пообедал – не хрестишься.
У Серова на голове был белый берет.
– А его вот взять, Лисеича, вот сам я видел. Собак-то своих охотницких, видал я, прямо в морду целовал. Это что же такое? Последнюю тварь…
– Постой, – сказал тут сторож-дед. – Мели, Емеля, твоя неделя. Только погоди маленько. Эка дура. Заврался. Собаку оставь. Собака – друг верный. Это брось. Собаке дом беречь надоть. Гнездо человечье не трожь. Когда скажут – отымай дом, тогда все прощай. Жисти не будет никому. Все по свету побегут – куда кто. Прощай жисть. Собаки много знают. Может – более людев. Погрызутся собаки маненько, а вот пороть друг дружку – этого у них нет. Ум плетью не поставишь. И собаку взять, ежели порют которую. Глядеть на нее – одна жалость. Порчена. Робеет. Вот когда она последняя тварь станет…
Вскоре Серега ушел.
Дед ворчал:
– Серега-то с дурью. Теперь будет по деревне гудеть: «В шапке едят, лоб не хрестят, собак в морду цалуют, царя ругают». И вот чего наврет. Вредный он, сплетюга. Хоша его и пороли – все же дурак. Говорю – кнутом ума не вставишь.
– Ну, что, – говорю я деду. – Чудак он. Любит поговорить. Не сердись.
Серов чистил палитру на столе и как-то про себя сказал:
– А жутковатая штука.
– Что жутковато? – спросил я, ложась на тахту.
– Деревня, мужики да и Россия…
Мы замолчали. Уже стояла глубокая ночь.
[О животных]
Собаки и барсук
Замечательный народ охотники, и все они очень разны, но в одном пункте одинаковы – это когда начинаются рассказы про охоту. Так как я тоже был охотник, то, сознаюсь, любил про охоту поговорить. Не знаю, как другие, а я, рассказывая разные случаи, немного привирал. Такая экзажерация[503] находила на меня, чтобы рассказ выходил ярче. Все грешили тем же, и знали все, что привирают, но уж так водилось.
В молодости у меня бывало много охотников и рыболовов[504]. Рыболовы привирали тоже, но умеренно. Только вот, когда кто из рыболовов показывал, какого размера рыбу поймал, размеры выходили неправдоподобные, и вес тоже: окунь – восемь фунтов, карась – двадцать.
Один такой, скульптор Бродский, царство ему небесное, покойнику, говорил:
– Щуку взял на два пуда шестнадцать фунтов.
– Где?
– На Сенеже.
– Ну, врешь.
А он ничего, не обижается.
Другой мой приятель, гофмейстер, уверял, что на перелете у Ладоги подстрелил гуся в два с половиною пуда. Все слушатели молчали: неловко, все же гофмейстер. Надо сознаться, что прежде все были как-то скромнее: только помалкивали, не желая обидеть приятеля в большом чине.
Тоже был у меня в молодости друг, мужчина серьезный, охотник Дубинин. Жил он на краю города Вышний Волочек в маленьком покосившемся домишке. Любил я его всей душой. Я-то мальчишка был, а он средних лет, худой, лицо все в складках. Сам вроде как из военных. По весне пускал себе кровь из жил, брил бороду, оставлял только усы, а когда смеялся, то шипел, вроде как гири у часов передвигались. Человек был спокойный, наблюдательный, говорил всегда серьезно и все как-то особенно.
Сижу я у него с приятелем своим Колей Хитровым в его низенькой лачужке, чай пьем, а у печки в уголке в соседней комнатушке лежит сука Дианка, и сосут ее пятеро маленьких щенят. Милые, добрые глаза Дианки смотрят на нас. Она – пойнтер. Смотрит мать-собака и как бы говорит: «Вот вам для утехи родила детей-собак, на охоту ходить будут и стеречь вас будут». И довольна Дианка, что не бросили детей ее в реку, и благодарна.
– Андрей Иванович, – говорю я Дубинину, – дашь мне кобелька от Дианки?
– Чего ж, можно, – подумав, ответил Дубинин. – Молоды вы только.
– А что же?
– Да то. Вот она тварь душевная, за ней тоже внимание обязательно; должно, чтобы она видела к себе его. А ваше дело молодое: ушел, бросил, ну какая тогда жисть ее.
Видим мы – щенки у Дианки как-то засуетились, бросили мать, поползли, и один даже чудно так залаял.
– Глядите, – сказал, встав Дубинин, – вот что сейчас будет.
Он сел на лавку с нами и сказал:
– Сидите смирно и смотрите. Они прозрели, слепые были, теперь глядят. Вот сидите, они нас увидят, что будет – чудеса…
Мы сидели и смотрели на щенят. Дубинин потушил папиросу.
– В первый раз они свет увидели и свою мать, ишь по ней лазают. Гляди, что будет.
Один щенок обернулся в нашу сторону, остановился и смотрел маленькими молочно-серыми глазками, потом сразу, падая, побежал прямо к нам, к Дубинину; за ним другой и все к Дубинину полезли, на сапог подымались к нему, падали, и все вертели в радости маленькими хвостами.
– Видишь что, – сказал Дубинин, – не чудо ли это? Не боятся, идут к человеку, только прозрев, к другу идут, и не страшно им. А посмотреть-то на человека – страшен ведь он, на ногах ходит, голый, без шерсти, личность, глаза, рот; ушей вроде как нет. И заметьте – они все ко мне, хозяин, значит. Ну-ка, кто им сказал? Вот оно что в жисти есть, какое правильное чудо, а?!. Отчего это? Это любовь и вера в человека, понять надо. А у людев по-другому: дитя на руках, а другой его поласкать хочет, «деточка, деточка» – говорит, а он нет, в слезы, боится. Вложено, значит, другое: «Не верь!» Не больно хорошо это. Значит, знает душа-то, что много горя и слез смертных встретит он в жизни потом от друга-то своего, человека…
* * *
Надолго остались у меня в душе слова Дубинина. Потом я видал щенят своих собак, и все они, прозрев, тоже бежали ко мне.
Здесь в Париже у моего фокса Тоби родились щенята. Увидав меня, они, шатаясь, поползли ко мне, вертя приветливо от радости хвостиками. Мать, увидев это, в беспокойстве таскала их от меня за шиворот обратно в уголок, где родила их. Но фоксы не унимались, лезли ко мне. Спустя некоторое время мать просто утром принесла их всех по одному на постель ко мне – решила, чтобы вообще всем вместе быть и спать. Пришел и отец – Тоби…
Какие милые существа собаки. Маленькое сердце щенка, как горошина, полно любви к человеку и такта. Тоби-отец не обращает внимания на детей – их воспитывает мать. Но, видимо, он рад, что есть у него семейство. Когда щенята подросли, то мать кусала и дразнила их всех по очереди – ужасно. Они в злобе бросались на мать. Видимо, она была довольна.
– Этак она из них собак делает, – объяснил мне приятель, – чтобы могли себя защитить в жизни…
* * *
– А вот, – рассказывал мне когда-то Дубинин, – у меня ручной барсук был, ну и затейник. До того ко мне привык, прямо не идет от меня, но погладить если его захочешь – кусается. Кусается не дай бог как, зубы – беда. Что же вы думаете, какой это зверь? Человеку он ничего не верит и собаку мою – сеттерок такой был у меня – заметьте, испортил вот как. Значит, живет это он у меня и все себя чистит; такой чистюга, как кошка, ну вот прямо барин.
Сделал он себе нору под крыльцом, вот тут, – показал Дубинин на дверь, – и все туда тащит, и у собаки ворует, и все себе. Поглядел это я в его нору без него, чудеса прямо: в норе-то вроде комнаты, чисто и полки из земли; и лежат там чередом, как в овощной лавке, орехи и баранки, мятный пряник и хлеб, и лекарство мое в капсюльках. Я-то думаю – куда лекарствие делось, а он своровал. И тащит он все крадучи, а показывает, будто ест.
Так вот, собака у меня была, сеттерок, он у барсука и перенял все тащить себе, тоже прячет под сарай, все носом зарывает на случай – не верит человеку, что прокормит его, не надеется. Вот он ей, собаке, какое в душу горе вложил. Сказал, значит: «Не надейся на человека, он тебя с голоду уморит, погоди». И заметьте – собака Трезор другая стала, скушная. Вот это какой сукин сын, барсук, был.
Я сам думать стал, тоже смотрю, хотел рубашку сшить – нет, думаю, погожу, ситец припрятал. Стучит прохожий в окно, христа ради, значит, просит. Бывало, дашь краюху, а вспомнишь барсука – жалко станет. Говорю: «Бог подаст».
– Барсукам без этого никак нельзя, это они на зиму запасаются, а то с голоду помрут, – заметил мой приятель Коля Хитров.
– Да, это правильно, – согласился рассеянно Дубинин. – Им никак нельзя, тварь такая. На бога надейся, а сам не плошай. Как у людев. Я сам стал подумывать о себе, жизнь моя бедная, домишко плохой. Что я – одинокий, помрешь один, вот заболеть боюсь, кто собаку прокормит, кому она попадет – бить будут. Охотой как прожить? По зиме-то худо, зайцев не всегда возьмешь. Один трактирщик и говорит мне: «Вот, Андрей, барыня – генеральская дочь велела тебе, чтоб тетеревов достал, настреляй, значит».








