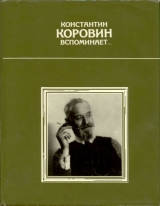
Текст книги "Константин Коровин вспоминает…"
Автор книги: Илья Зильберштейн
Соавторы: Владимир Самков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 53 страниц)
– Пожалте в участок.
Мы остановились.
– Пожалте сичас, нече тут…
– Почему? – говорим мы.
Городовой, ничего не отвечая, вставил в губы блестящий свисток, и на всю улицу раздался его дребезжащий свист. Из калиток ворот соседних домов бежали дворники. Нас окружили и повели в участок. Это было так неожиданно, что мы подумали, что нас приняли за каких-то других людей.
Вышли на Сущевскую площадь, где была каланча пожарной части. Нас ввели в ворота и, по лестнице, во второй этаж дома. Через душный коридор проводили в большую комнату.
На потолке висела лампа, а сбоку сидели трое за столом и что-то писали. Когда нас ввели, то они бросили писать и смотрели на нас. Из двери соседней комнаты вышел в расстегнутом сюртуке, небольшого роста квартальный, с сердитым лицом, стриженный бобриком, и, став против нас, смотрел на нас молча. Потом сказал:
– Чего это? Дайте-ка сюда…
И, протянув руку, он взял у нас папки с рисунками, открыл их на столе и смотрел. Один из писарей, увидав рисунки, сел на стол и захохотал. Квартальный смотрел то на нас, то на рисунки, так строго смотрел, в недоумении. Писаря прямо ржали от хохота. Фонарщик глядел, открыв рот.
– Чего вы? – сказал квартальный. – Смешного здесь ровным счетом ничего нет. Который руки хотел на себя наложить? Слышь, ты, который? – спросил квартальный.
Писаря тихонько фыркали и отвернулись к окну.
– Брось, Григорь, чего смешного? Который, спрашиваю, к фонарю ладился?
– Вот этот, – сказал, закашлявшись, фонарщик, показав на меня.
– Вы кто будете? – спросил нас квартальный.
Мы рассказали, что шли с занятий и вот пошутили, сказав фонарщику пустяки.
– Ну и шутки!… – сказал квартальный, покачав головой. – А это что за картины такие, неприличные… Гольем все?
– Да это в школе рисуем, классная работа… это натурщики.
Квартальный сел и писал, так серьезно и долго. Потом спросил:
– Ваше удостоверение личности?
Я ответил, что живу здесь, недалеко, рядом почти, в доме Орлова. Он посмотрел на меня и спросил:
– Это вот, эдакие картины вы в Училище рисуете?
Писаря расхохотались.
– Да что вы, черти, чему радуетесь? – крикнул квартальный. – А ежели это самое показать дочери али жене, сыну, ну, что тогда, каким колесом они пойдут?!
Квартальный опять неодобрительно посмотрел на нас и на рисунки.
– Потрудитесь подписать протокол!
Мы подошли и, не читая, подписали свои имена.
– Картины эти останутся здесь, а я пойду с вами до дому, тут недалеко дом Орлова, – проверить правильность вашего показания.
Он ушел в дверь соседней комнаты. Наступило молчание.
Квартальный вернулся в пальто, мигнул городовому, пошел с нами, а также и городовой.
– Послушайте, господин надзиратель, – говорил дорогой Щербиновский, – поверьте, что это недоразумение, уверяю вас.
– Какие недоразумения? Что за шутки! Свидетели говорили: вынул из кармана веревку, на фонарь накидывает. Этот, говорит, фонарик хорош, подходящий, чтобы повеситься… Хороши шутки!
В это время в тихой осенней ночи раздался голос. Кто-то пел:
Не тоска, друзья-товарищи.
В грудь запала глубоко -
Дни веселия, дни радости
Отлетели далеко…
Когда квартальный вошел ко мне в комнату, увидел на стене висящие этюды красками и рисунки гипсовых голов, нагих натурщиков и всю обстановку, то сел за стол и долго смотрел.
– Послушайте, молодые люди, я тоже несу на себе службу. Вижу я вот на стене картины. Вижу, что верно – это дело учения. И все же я ума не приложу, к чему это голые-то… Ум раскорячивается, понять нельзя… Боже мой, сколько их! Зачем это?
– Да ведь как же для чего – как же мерки снимать, – сказал Щербиновский. – Человек-то ведь голый, все люди-то голые… Вот на вас мундир – видно, что надзиратель. На губернаторе другой, а на генерал-губернаторе третий. А ведь если так взять, то все голые люди-то…
– Это верно, – согласился квартальный. – Да-к вот что оно! Так бы и сказали. Теперь я понял…
– Ну да, – подтвердил Щербиновский, – на всех мундиры делать будут потом.
– А когда на обмундировку поступите? – спросил квартальный.
– На будущий год, – ответил Щербиновский, – когда курс кончим.
– Ну, вот, хорошо. Теперь все ясно. Значит, при должности будете. Хорошо. И вот старушка рада будет, – показал он на мою мать. – Вы, матушка, не волнуйтесь, я ведь не обижать их пришел…
– Скажите, господин надзиратель, – спросил я, – кто это пел там? Слышно, голос хороший. Вот сегодня, когда сюда шли, слышали.
– Как же, э-э-э… знаю. Арестант поет в остроге. Поет хорошо, все его жалеют. Ну вот – попал.
– Да за что же? – спросили мы.
– Да вот… тоже молодой… за девчонку попал!… Приют был такой дворянский, а там девицы в обучении, сироты дворянские. Ну и одна ему на ум попала… Влюбимши, значит, был. Ну, значит, он и подкупил печника, да и пришел в приют за него печи топить, туды, в приют-то. Да что, спрятался там, да ночью ее оттуда, из приюта-то, скрасть хотел. Значит, оба убежать хотели. А заперто кругом. Через забор пробовали, а на заборе-то гвозди. Он в ворота, а сторож, дворник, значит, ну, тут ему – стой, куда? Да хотел в свисток свистнуть. А тот ему «свистнул», да прямо в висок. Ну, и наповал убил. Убег. Но поймали. На машине хотели уехать… Судили, и вот… песни поет…
Воспоминания детства
Многим бы хотелось видеть Пушкина. А бабушка моя, Екатерина Ивановна Волкова, видела его. И много говорила мне и брату моему, когда мы были детьми. Говорила об Александре Сергеевиче Пушкине, что это был самый умный человек России. И часто говорила нам о нем. И мне представлялся он красавцем, на белом коне, как наша лошадь Сметанка, и каске с перьями. – А бабушка сказала мне, что нет, он был маленького роста, сгорбленный, курчавый блондин, с голубыми большими глазами, блестящими, будто на них были слезы. Серьезный, никогда не смеялся. Одет был франтом, носил большое кольцо на пальце и смотрел в золотой лорнет[456]. Зачем это, подумал я, маленького роста? Неправда, что бы мне ни говорили. Мой дед, Михаил Емельянович, был огромного роста, и мне хотелось бы, чтоб и Пушкин был такой же и приносил бы мне игрушки. Но мне всегда нравилось, когда бабушка читала мне Пушкина. И я, слушая, сидя на лежанке, думал: а ведь его убили. Как это гадко!
Несказанно я любил слушать бабушку, когда она читала Пушкина. И все как-то было полно им: и вечер, и зимняя дорога, тройка, когда меня взял с собой мой дед в Ярославль, дорога, остановка на постоялом дворе, калачи, поросенок, икра, и месяц, и страшный лес на дороге. И нравился мне Пушкин. Как верно и хорошо он написал про что-то, все самое мое любимое.
И я знал уже много его стихов наизусть. Из дома деда, на Рогожской улице, уходил на соседний большой двор, к ямщикам, в ямскую избу, где было тепло, пахло щами. Такие хорошие ямщики – отдыхали, сидели, пили чай. Ели баранки, ситный. И любили меня, хозяйского внука. Я всей душой любил ямщиков. Я им говорил наизусть:
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит…
И видел – нравилось ямщикам.
– Ну-ка, – говорили они мне, – скажи, Костя, вот ему… про разгулье удалое аль сердешную тоску… Как это, скажи-ка…
Ямщики слушали.
Один из них, Игнат, с черной бородой, часто просил меня:
– Скажи про старушку родную…
Тогда я ему говорил стихи:
Буря мглою небо кроет…
Игнат плакал. Всегда плакал.
Поразило меня однажды, что приятель отца моего, судебный следователь Поляков, сказал про Пушкина: барин, камер-юнкер. И что-то нехорошо говорил. Я сказал бабушке, Екатерине Ивановне:
– Поляков не любит Пушкина.
– Да, – ответила она, – не слушай его. Он нигилист.
Я не понял, но подумал: нигилист это, должно быть, вроде дурака.
Странно, что Ларион Михайлович Прянишников, впоследствии художник, родственник наш, часто бывая в доме у нас, тоже не любил Пушкина, тоже сказал: камер-юнкер!
Мой дед был именинник. Лежал в постели, прихварывал. Утром я пришел к нему и сказал стихи:
Птичка божия не знает…
Он меня погладил по голове и, смотря добрыми глазами, сказал мне:
– Это, Костя, хороший барин сочинил.
Потом, вздохнув, сказал:
– Эх, грехи, грехи. Ты, Костя, когда молишься на ночь, то поминай и его. Он ведь был добрый, как божий серафим. Мученик – ведь его убили.
«Вот, – думал я, – что такое».
– Дедушка, – говорю я, – а Игнат… я ему сказал стихи, а он заплакал.
– Ишь ты, – удивился дед. – Он, Игнат, хороший мужик. Бедный, бездомный. Пьет только частенько…
Почему– то дед запретил мне ходить в ямщицкую.
– Есть, – говорит, – запойные… Всякого наслушаешься. Не надо, – говорит, – ходить тебе туда.
Когда дед умер, то после я сказал своей няне Тане:
– Вот дед мне велел молиться о Пушкине.
– А кто он тебе доводится? – спросила няня Таня.
– Он серафим от бога был, камер-юнкер убитый.
– Ишь ты, – вздохнула няня.
А потом няня сказала:
– Молись так: «Помяни, господи, во царствии твоем раба твоего камер-юнкера Серафима».
Я на ночь, стоя на коленях в постели, поминал деда, покойную сестру и доброго убиенного «камер-юнкера Серафима».
«Этот самый Пушкин…»
Зима. Вся Москва покрылась пушистым снегом. Белым-бело. На Садовой улице в сумерках горят уличные фонари, уходя вдаль. Свет их освещает ветви деревьев, покрытых густым инеем. За палисадником улицы прячутся потемнелые в ночи дома. В освещенных окнах чувствуется какой-то тихий покой. И будто там уютно и счастливо. Зима в Москве вначале всегда была так нова, так заманчива, и от нее пахло миром и покоем. По улицам едут в санях москвичи. Зима все изменила. Не слышно больше шума колес. Потемнели тумбы тротуаров, и весело мчится тройка по Тверской-Ямской, звеня бубенцами, и замирает в дали улицы веселый смех седоков.
Еду я на извозчике поздно, еду с Тверской из Английского клуба[457], где ужинал в компании с Александром Александровичем Пушкиным, сыном Александра Сергеевича, великого поэта[458]. Александр Александрович, одетый в заштатную генеральскую форму, был скромный человек. Говорил про отца своего, которого он помнил смутно, так как был мал, но помнил его ласки и его панталоны в клетку, и его красноватый сюртук с большим воротником. Помнил мать в широких платьях, помнил, что кто-то говорил, кажется, отец, что любит зиму и Москву. Помнил переднюю в доме, отца и мать, когда они приезжали с картонками, раздевались в передней и ему подарили игрушку-петушка, который пищал.
– Да вот в Москве, – сказал Александр Александрович, – знают отца, читают. И в Петербурге тоже. А то и не знают вовсе…
– Да что вы? – удивился я.
– Да, да, – сказал Александр Александрович Пушкин. – Уверяю вас – не знают. И студенты не знают. Спросите у любого из них: читали? – Мало. Ну «Капитанскую дочку» знают, нравится. А другое – не знают.
– Знать трудно, конечно, но я как-то не слыхал… все знают Пушкина.
Александр Александрович как-то наклонил голову, опустил глаза, и на больших белках его глаз был синеватый оттенок Востока.
– А в вашем образе, в лице, в глазах, есть черты Африки, – говорю я ему.
Он посмотрел на меня, улыбнувшись добрыми и прекрасными глазами, и сказал мне:
– Ну, это нет! Я вот какой африканец: так люблю Москву за то, что в ней настоящая зима, все покроется инеем и такой зачарованный покой. В Петербурге у нас не то. Я терпеть не могу жары. Я бывал и в Италии, и на Ривьере, бывало – жду не дождусь, когда опять приеду в суровую Россию. Вот тоже – не люблю я пальмы эти. Не знаю, отчего это их ставят все всюду в ресторанах? Неужели елка, березка хуже пальмы? Нет, лучше. Я когда читаю про тропические леса – меня берет ужас. Эти лианы!… Нет, наш русский лес лучше… Вот я остановился здесь у дальних родственников. Кот там – таких русских серых котов больше нигде нет. Какой друг дома! Там лежанка, сядешь погреться – он ко мне всегда придет, мурлычет. Есть ли в Африке коты? – спросил Александр Александрович.
Как– то, помню, в библиотеке Английского клуба, где он любил бывать, я увидел его. Он вынимал из высокого стеклянного шкафа старые французские книги и перелистывал их. В его образе, в голове, когда он читал страницы книги, было что-то другое: лицо его было внимательно и задумчиво-кротко. В лице был какой-то дервиш и что-то тихое, благородное и робкое. И образ великого отца его вставал передо мной.
Как– то, помню, сказал мне Александр Александрович, что отец его, конечно, много наговорил на себя. Писал о любви -это опасно! А сам он как я слышал в своей молодости, сам он был сговорчивый и скромный. Странно то: восемнадцатилетним юношей он написал стихотворение «Прелестнице». Надо удивляться, как это можно думать так в восемнадцать лет!
Не привлечешь питомца музы
Ты на предательскую грудь…
Ведь это так глубоко, такое постижение в такие годы…
Возвращаясь на извозчике из Английского клуба к себе в мастерскую на Долгоруковскую улицу, я все думал о Пушкине, и мне казалось, что много было непонимания, которое тушило огонь души его.
Моя потерянная младость…
Как много в словах этих, в смысле их, тяжкого, глубокого горя…
Странно. Что-то есть, вот-вот около… Около жизни. Юность… но есть рядом, тут, около скорбь… Отсутствие счастья… что-то мешает тайне прекрасного, какое-то непонимание. В печали тайной гаснет непонятый мой верный идеал…
В мастерской на Долгоруковской улице, когда я вошел к себе, я застал М. А. Врубеля, который жил со мной. Он проснулся, когда я вошел. Я рассказал ему, что был в клубе и видел сына Пушкина – Александра Александровича.
– А знаешь что, – сказал мне Врубель, – Пушкин не был счастлив, и вряд ли он нравился им…
– Кому им? – спросил я.
– Женщинам. Цыгане, Алеко… Странное что-то есть… Посмотри впереди себя, – сказал Врубель, – я здесь сегодня вечером работал.
И Врубель отвернул большой холст.
На нем я увидел как-то остро и смело написанные в твердом рисунке ветви деревьев, покрытые инеем. В окне они были видны. Какой ковер – в особенном ритме. А форма рисунка деревьев…
– Завтра надо будет мне написать тут сверху, – сказал Врубель, – «Кондитер Шульц. Мороженое».
– Что ты? Зачем? – удивился я.
– Да, да, – сказал Врубель. – Это вот там сбоку на улице, на углу, живет немец. Он просил меня – ему нужно.
– Отдай ему без этой надписи. Это так красиво.
– Н-е-ет, ему нужна она. Он платит мне двадцать пять рублей.
Долго я не мог заснуть. В углу моей большой мастерской горела зеленая лампада. На кушетке, свернувшись под пледом, спал Михаил Александрович Врубель – великий художник, кончивший Петербургский университет, два факультета, с золотыми медалями. И вот – он никому не нужен… Никто как-то не понимал его созданий. Как-то делалось одиноко, жутко. Зачем все академии художеств, искусства? Брань невежественных газет, критиков. А завтра он будет своей изящной, дивной формой писать на этой картине вывеску «Кондитер Шульц»… Что-то в этом есть жестокое и жуткое…
Утром рано я ушел в Школу живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, где я был преподавателем в высшей мастерской оканчивающих учеников.
– Ваша очередь, – сказал мне инспектор, – задать эскиз на тему историческую или, словом, какую вы хотите.
В канцелярии школы я написал на листе бумаги: «Зима в произведениях Александра Сергеевича Пушкина», и лист этот с написанной темой был повешен в классной мастерской.
Придя в мастерскую, я заметил, что ученики недовольны темой, и объяснили мне: что же это, все стихи? Лучше бы Пугачева в «Капитанской дочке». А вечером родственники мои, студенты Московского университета, мне определенно сказали, что Некрасов гораздо лучше Пушкина, что у Пушкина все вздохи и ахи про любовь, потому что этот камер-юнкер нравился в то время кисейным барышням и только.
Когда я был у Антона Павловича Чехова, то рассказал ему об этом, о встрече с Александром Александровичем. Антон Павлович как-то сразу наклонил голову и засмеялся, сказав:
– Верно. До чего верно. Кисейным барышням, ахи, охи про любовь… Верно, все верно… – и он засмеялся.
* * *
После спектакля в Большом театре я наверху, в огромной мастерской под крышей писал декорацию к опере «Руслан и Людмила»[459]. Старший мастер Василий Белов составлял колера в больших тазах. Я сижу напротив, на лавочке.
– Кто, – спрашиваю я, – сочинил «Руслана и Людмилу»? Знаешь, Василий?
Василий Белов так серьезно посмотрел на меня и по-солдатски ответил:
– Этот самый Пушкин, что с Тверского бульвара. От Страшного Монастыря.
– Это памятник ему, – говорю я.
– Знаем, сочинитель. Его вот застрелили…
– Зря, – говорю я, – дуэль была.
– Эх, да, – сказал Василий, рукой взял себя за рот и так значительно серьезно сказал: – Ну да, скажут вам… Господа-то не скажут правду-то… а мы-то знаем… Он такие песни начал сочинять, прямо вот беда. А студенты народ озорной, только дай им, сейчас запоют. Ну, и вот его за это шабаш…
– А ты знаешь, что он написал? Ну, хоть одну песню.
– А как же, – ответил Василий. – Нас училка в деревне всех выучила:
Прибежали в избу дети.
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».
Эх, ловко это она научила. Под ее все теперь у нас, парни, девки, кадриль танцуют. – «И в распухнувшее тело раки черные впились…» Ловко каково! А вот отчего он без шапки стоит, знаете ли вы? – вдруг спросил меня Василий и, смотря на меня, прищурил хитро один глаз.
– Нет, не знаю, – удивился я. – Отчего?
– А вот потому и голову наклонил, и без шапки, значит, снял, и говорит, значит: «Прости, говорит, меня, народ православный…»
– Что ты, Василий. Кто это тебе сказал?
– Чего сказал… Там написано, на памятнике сбоку.
– Да что ты, Василий, где? Там это не написано…
– Нет, написано. Слух пройдет по всему народу, вот что. А ты уж смекай, как знаешь.
Двадцать лет со мной работал Василий Белов. Он был колорист, маляр. Я ценил его. Он составлял цвета по моим эскизам и готовил краски. Любил поговорить. Но ничего с ним не поделаешь: на все у него был свой взгляд. Особенный, уверенный. После февраля 1917 года Василий Белов пришел ко мне и сказал:
– Вот теперя вашему Пушкину шапку наденут…
– А почему? – спросил я.
– Полно шапку ломать… Теперь слобода всем вышла…
Человечек за забором
В России – в нашей прежней России – было одно странное явление, изумлявшее меня с ранних лет. Это было – как бы сказать? – какое-то особое «общественное мнение». Я его слышал постоянно – этот торжествующий голос «общественного мнения», и он казался мне голосом какого-то маленького и противного человечка за забором… Жил человечек где-то там, за забором, и таким уверенным голоском коротко и определенно говорил свое мнение, а за ним, как попугаи, повторяли все, и начинали кричать газеты.
Эта российская странность была поистине особенная и отвратительная. Но откуда брался этот господин из-за забора, с уверенным голоском?
Н. А. Римский-Корсаков создает свои чудесные оперы – «Снегурочку», «Псковитянку», «Садко».
– Не годится, – говорил человек за забором, – не нужно, плохо…
И опер не ставят. Комитет императорского театра находит их «неподходящими». Пусть ставит их в своем частном театре Савва Мамонтов. Голос за забором твердит: «Не годится».
За ним тараторят попугаи: «Мамонтов зря деньги тратит, купец не солидный» «…»
Другие примеры: Чехов Антон Павлович, писатель глубокий. А господин за забором сказал:
– Лавочник!
Или вот Левитан – поэт пейзажа русского, подлинный художник, мастер, а тот же голосок шепотком на ухо:
– Жид.
И пошла сплетня: и Школы-то Левитан не кончил, и пейзажи-то Левитана не пейзажи, а так, какие-то цветные штаны (остроумно, лучше не придумать!).
Да разве один Левитан? И Головин, и аз грешный тоже «не годились». Человечек за забором отрезал:
– Декаденты.
И поехало. А что такое «декаденты» – неизвестно. Новое, уничижительное. Вот и крестил им человечек кого попало. А когда приехал в Москву Врубель, так прямо завыли: «Декадентщина, спасите, страна гибнет!» Суворин[460], Грингмут, «Русские ведомости» – все хором…
Видно, человек за забором вовсю работал.
А вот и Шаляпин. Поет он в Частной опере – ставят для него «Псковитянку», «Хованщину», «Моцарта и Сальери», «Опричника», «Рогнеду». Но голос за забором хихикает:
– Пьет Шаляпин…
Лишь бы выдумать ему что-нибудь свое, позлее, попошлее, погаже – ведь он все знает, все понимает…
И кому кадил он, этот человечек, кому угождал – неизвестно. Но деятельность его была плодовита. Он поселял в порожних головах многих злобу, и она отравляла ядовитой слюной всех и вся…
Когда я поступил художником в императорский театр, господин за забором оказался тут как тут. При первых же моих оперных и балетных постановках на меня полились, как из ушата, помои в расчете на поддержку «общественного мнения». Газеты хором неистовствовали… «Новое время» и «Русские ведомости» заодно с «Московскими». Красота! Человечек за забором работал.
А в театре лица артистов были унылы. Малый театр волновался, балетные рвали на себе новые туники. Не нравились «декадентские» костюмы. Плакали, падали в обморок…
Артист Южин[461] в «Отелло», по укоренившейся традиции, выходил в цветном кафтане с золотыми позументами и почему-то в ярко-красных гамашах – похож был на гуся лапчатого. Я попросил его изменить цвет гамаш. Он обиделся, а успокоился только тогда, когда я заявил:
– У Сальвини[462] – белые, как же вам в красных?
Поверивши, он долго жал мне руку:
– Пожалуй, вы правы, но все так против…
«Все» – вот оно, «общественное мнение».
Вспоминаю я еще случай. В Большом театре в «Демоне» Рубинштейна грузинам почему-то полагалось быть в турецких фесках – назывались они «бершовцами», по имени Бершова, заведующего постановочной частью.
Бершов мужчина был «сурьезный», из военных[463]. На репетициях держал себя, как брандмайор на пожарах, и, осматривая новую постановку, выкрикивал: «Декораторы, на сцену!» Декораторы выходили из-за кулис, опустивши голову, попарно. Было похоже на выход пленных в «Аиде» на гневные очи победителя.
– Отблековать повеселей, – кричал Бершов. – В небо лазури поддай!…
Он был в вицмундире, в белом галстуке, при орденах, и расторопностью хотел понравиться Теляковскому, новому директору. Но произошел случай, который его расстроил навсегда. В этом случае повинен я.
Неизвестно, с какой стати в постановке «Руслан и Людмила» в пещере финна ставили большой глобус, тот же, что и в первой картине «Фауста».
Придя в Большой театр на репетицию «Руслана», я позвал Бершова и спросил его:
– Кто такой финн и почему у него в пещере глобус?
Бершов только посмотрел на меня стеклянными глазами, а машинист, которого звали Карлушка, ответил за него:
– Глобус ставят финну, потому он волшебник-с, как и Фауст.
– Уберите со сцены глобус, – сказал я рабочему-бутафору.
Когда бутафоры уносили глобус, артисты, хор, режиссеры смотрели на меня и на глобус с боязливым удивлением и любопытством. Потом шепотом говорили, что, пожалуй, верно, глобус не при чем у финна. А режиссеры из молодых, окрыленные моей смелостью, доказывали, что и при Фаусте не было глобусов. Перестали ставить глобус и в лабораторию Фауста[464].
Но человечек за забором продолжал работать. И вот «Русские ведомости», профессорская газета, с апломбом поставила точку над «i» – воспользовалась первым поводом для уличения меня в полном невежестве.
Дело было так. При постановке «Демона» Рубинштейна я поехал на Кавказ и писал этюды в горах по Военно-Грузинской дороге. Эскизы мои изображали серые огромные глыбы гор ночью: скалы, ущелья, где Синодал видит Демона и умирает, сраженный пулей осетина…
Мне хотелось сделать мрачными теснины ущелья и согласовать пейзаж с фантастической фигурой Демона, которого так мастерски исполнял Шаляпин. Высокую фигуру Шаляпина я старался всеми способами сделать еще выше. И действительно, артист в моем гриме, на фоне такого пейзажа казался зловеще-величественным и торжественным[465].
Тогда– то «Русские ведомости» и написали свою злостную критику:
«На постановку „Демона“ тратятся казной деньги, на Кавказ посылается художник Коровин, а он даже не удосужился прочесть поэму нашего гениального поэта Лермонтова. В поэме „Демон“ слуга обращается к князю Синодалу:
Здесь под чинарой бурку расстелю.
И, уснув, во сне Тамару узришь ты свою…
А Коровин чинары не изобразил. Какая дерзость так относиться к величайшему поэту земли русской! Вот какое невежество приходится терпеть от новых управителей образцового театра»[466].
Конечно, все это было чистейшим вздором: денег на поездку я не брал, а ездил на свой счет. Но дело не в этом. Ошеломил меня больше всего упрек в незнании и Лермонтова, и я написал в редакцию «Русских ведомостей» письмо, в котором выражал свое удивление и огорчение – как могла профессорская газета принять вышеприведенные вирши оперного либреттиста за поэму Лермонтова?[467]. Тогда приехал ко мне Н. Е. Эфрос[468] и просил забыть эту «ошибку».
Однако «Русское слово», к великому конфузу «Русских ведомостей», письмо мое напечатало[469]. А вслед за тем получил я повестку, приглашающую меня в отдел министерства внутренних дел…
Во дворе большого дома, напротив Страстного монастыря, – крыльцо. Звоню. Дверь открывает жандарм. Я показываю ему повестку.
– Пожалуйте, – говорит жандарм и ведет меня по коридору, по обе стороны которого – двери; одна из них отперта, и в комнате сидит дама в глубоком трауре, а перед ней жандармы роются в чемоданах.
В конце коридора мне показали на дверь.
– Пожалуйте!
Я вошел в большую комнату. Ковер, письменный стол. Прекрасно одетый господин с баками встает из-за стола, с любезной и сладкой улыбкой рассыпается в приветствиях.
– Очень рад, ну вот, Константин Алексеевич, так-с!
– Я получил от вас повестку, – начинаю я.
– Ну да. Так-с. Но это не я писал. Пустяки-с. Маленькая о вас справочка из Петербурга. Вы так нашумели, все газеты кричат. Вот, например, статья Александра Павловича Ленского…
И он сделал серьезное лицо.
– Вы ведь знаете Александра Павловича? Артист божией милостью. Как играет. Боже мой! Я, знаете, плбчу. И вот он – тоже, Карл Федорович Вальц, маг и волшебник – тоже…[470]. Согласитесь! Ах, что ж это я? Садитесь, пожалуйста…
– Так вот, – продолжал он, – от вас нужно нам маленькое разъяснение… Сигары курите?
И он пододвинул мне серебряный ящик с сигарами и сам закурил.
«Какой любезный человек, – подумал я. – Как расчесан, какая приветливость! Приятный господин!» А в голове мелькнуло: «Не этот ли и есть человек за забором?»
– Нам нужно от вас, Константин Алексеевич, – как ни в чем не бывало заговорил он опять, – узнать…
Тут он многозначительно запнулся и затем медленно докончил:
– Какая разница между импрессионизмом и социализмом?
По правде сказать, я не знал, что такое социализм, а импрессионистами, мы, художники, называли отличных французских мастеров, писавших с натуры картины, полные жизненной правды и радости. Знал я, конечно, также про существование разных социальных учений, но никак не подозревал, что между тем и другим есть что-нибудь общее[471].
Так я приблизительно и ответил.
– Ну вот, так и запишем, – сказал мой собеседник и стал писать.
– А скажите, – обратился он ко мне опять, – почему импрессионизм явился как раз в одно время с социализмом?
Я ответил: «Не знаю». И с досады пошутил:
– Впрочем, может быть, открытие Пастером сыворотки от укуса бешеных собак как раз совпадает с днем вашей свадьбы? Почему бы?
– Так-с, – ответил он. – Но я бы просил вас быть искреннее.
Он встал и быстро зашагал взад и вперед по комнате.
– Я тут не при чем, – повторил он. – Но вот-с, запросец из Петербурга. Согласитесь, могут быть осложнения. Вам это не будет приятно.
– Что же это: допрос? – осведомился я.
– Ну, допрос, не допрос, а… разъяснение. Вот видите, и «Русские ведомости» – тоже. Даже они-с, согласитесь! И весь театр и Грингмут. Согласитесь! Ленский – тоже. Вот что-с. Прошу вас, к завтрашнему утру приготовьте в письменной форме ваше определение импрессионизма и социализма и принесите мне. Напишите кратко, по вашему разумению. Ну-с, а теперь до свиданья. На дорожку сигару? Отличная сигара, кого-нибудь угостите.
Теляковский, бывший уже управляющим императорских театров, когда я рассказал ему об этом допросе, посмотрел на меня своими серыми солдатскими глазами и сказал:
– Вот оно, понимание красоты и искусства!
Он добавил:
– Подождите, я сейчас оденусь. Поедемте вместе.
В зале дома генерал-губернатора к нам вышел великий князь Сергей Александрович, высокий, бледный, больной. Теляковский говорил с ним по-английски.
Великий князь обратился ко мне:
– Вы вошли в театр, где было болото интриг, рутина, и, конечно вызвали зависть прежних. Ничего не отвечайте в министерство…
Через день ко мне приехал какой-то репортер и привез статью для «Московских ведомостей», написанную в защиту моего направления. Эту чью-то статью я должен был подписать, якобы в свое «разъяснение».
Я оставил статью у себя для просмотра – против чего долго возражал репортер, – а на утро послал ее через нотариуса в редакцию «Московских ведомостей» с просьбой не писать от моего имени провокаторских статей[472].
Репортер примчался ко мне взволнованный и, горячась, объяснил, что писал статью он по указанию самого Грингмута.
– Не шутите с Грингмутом, вы его не знаете. О, разве возможно! Это столп! Патриот! С кем вы спорите, берегитесь!
«Вот он, милый человечек за забором», – подумал я опять.
А милый человечек все продолжал работать, неустанно хлопотал, развернулся вовсю: лгал, клеветал, доносил, все знал и жил, вероятно неплохо. И поклонников у него была уйма…
Ах, как скучно на свете, на прекрасной земле нашей, от этого человечка за забором!
Недоразумение
Я долго хворал и не выходил. Доктор говорит:
– С правой стороны тут у вас уплотненьице в легком, выходить нельзя. Небольшая температура.
Тоска. Ночью не спится. Почитаешь газету – еще хуже. Получил письмо. Читает его мне мой приятель Коля Петушков:
«Многоуважаемый и дорогой. Я еще из Москвы помню вас. Помню, восхищался картинами, и была у меня ваша картина „Розы в Крыму“ – синее море и розы. А по морю несется парус одинокий. Мятежный, ищет бури. Ну, я в самую бурю и уехал. А теперь – ура – вы писатель. И мы все читаем – как вы описываете природу, охоту, тетушку Афросинью… А я охотник. И вот что – если у вас в воскресенье есть свободный денек, приходите ко мне отдохнуть. Буду рад, расскажу вам про охоту, и я уверен, что вы все опишете. В убытке не будете. Все мы – я, жена и две дочери мои взрослые, будем вам рады. Посажу вас на диван, дочери мои музыкантши: одна на рояле, другая на скрипке. Послушаете – утешитесь. Забудем, что мы на чужбине и будем себя чувствовать, как в Москве».
Прочитав мне это письмо, мой приятель Коля Петушков, тоже москвич, сказал:
– Вот хороший человек тебе пишет. Видно, что москвич. Широкая душа. Надо, знаешь, ответить. Живет как раз на той же улице, где и я. Здесь, у Порт Сен Клу.








