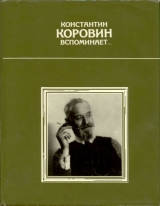
Текст книги "Константин Коровин вспоминает…"
Автор книги: Илья Зильберштейн
Соавторы: Владимир Самков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 53 страниц)
Я поехал к Малиновской, которая управляла государственными театрами[362]. Она мне сказала:
– Поезжайте. Вам давно советовал Луначарский уехать.
На Виндавском вокзале меня, сына и жену[363] посадили в вагон с иностранцами. Проехав несколько станций, я увидал того человека, который у меня был утром. Он не показал вида, что меня знает.
Наступила ночь. Мой неизвестный благодетель подошел ко мне и, наклонившись, тихо сказал:
– Какие у вас бумаги?
Я отдал ему бумаги, которые у меня были.
– Не выходите никуда из вагона.
Недалеко от границы он позвал кондуктора, и тот взял наши чемоданы. Поезд шел медленно, и я заснул. Когда я проснулся, чемоданы были снова на месте. Поезд подходил к Риге.
Я вышел на вокзал. Было раннее утро. Ноябрь. Я был в валенках. Носильщик проводил нас пешком до гостиницы.
Своего благожелателя я больше никогда не видал. А бумаги, взятые им у меня, нашел в Берлине, разбирая чемодан, под вещами, на дне[364].
Первая встреча в Париже
Мой сын простудился и заболел сильным плевритом.
Я писал небольшие эскизы для балета и театральных постановок. Их у меня быстро приобретали.
Как– то утром я получил письмо от Шаляпина следующего содержания:
Париж, 1923, сентябрь
Костя! Дорогой Костя!
Как ты меня обрадовал, мой дорогой друг, твоим письмишком. Тоже, братик, скитаюсь. Одинок ведь! Даже в 35-этажном американском Hфtel’е, набитом телами, – одинок.
Как бы хотел тебя повидать, подурачиться, спеть тебе что-нибудь отвратительное и отвратительным голосом (в интонации). Знаю и вижу, как бы это тебя раздражило! А я бы хохотал и радовался – идиот!… Ведь я бываю иногда несносный идиот – не правда ли?
Оно, конечно, хорошо – есть и фунты, и доллары, и франки, а нет моей дорогой России и моих несравненных друзей. Эх-ма! Сейчас опять еду на «золотые прииски», в Амер., а… толку-то!
А ты? Что же ты сидишь в Германии? Нужно ехать в Париж! Нью-Йорк! Лондон! Эй, встряхнись! Целую тебя, друже, и люблю.
Как всегда, твой Федор Шаляпин .
Я не мог поехать в Париж, так как сын был сильно болен. Приехав в Гейдельберг, остановился в гостинице в лесу, неподалеку от Брокена. А вечером, идя по коридору гостиницы, увидел перед собой Горького. Он тотчас же попросил меня зайти к нему.
– Вот, пишу здесь воспоминания, – сказал он, – хотел бы их вам прочитать.
Я пришел вечером к Горькому. С ним был сын его Максим[365], жена сына[366] и его секретарь[367]. Горький читал свой рассказ «Мыловар», потом «Человек с пауком» и еще «Отшельник»[368]. Горький был в халате с тюбетейкой на голове.
– А где Федор? – спросил он.
– В Париже. Я получил от него письмо.
Когда я выходил гулять с сыном по лесу, к нам присоединялся Горький. Но нам не давали остаться наедине: тотчас же, как из-под земли, появлялись жена Максима и секретарь Горького.
Осенью доктора посоветовали мне увезти сына на юг Франции или Италии. И я, приехав в Париж, увидел Федора Ивановича. У него был свой дом на авеню д’Эйлау.
Шаляпин был мрачно настроен. Показывал мне гобелены, которые вывез из России, несколько моих картин, старинное елизаветинское серебро. Он собирался ехать в Америку, в которой ранее провел уже почти год. Я рассказал ему, что встретил Горького в Гейдельберге «…»
Настроение было тяжелое. Я никогда не видал Шаляпина и в России в столь мрачном настроении. Что-то непонятное было в его душе. Это так не сочеталось с обстановкой, роскошью, которой он был окружен. Сидевшие ранее за столом его дети – все молча ушли.
– «…» Я еще покажу… Ты знаешь женщин? Женщин же нельзя любить! Детей я люблю…
И Шаляпин, вдруг наклонив голову и закрыв лицо руками, заплакал.
– Как я люблю детей!…
– Иди, Федя, спать. Пора, поздно. Я иду домой.
– Оставайся у меня ночевать, куда тебе идти?…
– Мне утром надо по делу…
Странное впечатление произвел на меня Шаляпин за границей. В нем не осталось и следа былого веселья.
Дегустатор
Болезнь моего сына заставила меня уехать на юг. Я почти год жил на берегу моря – в Вильфранш.
По приезде моем в Париж Шаляпин приехал ко мне на рю де Риволи и позвал меня к себе обедать.
За обедом, когда все ушли, вынул из кармана ключик, куда-то вышел и вернулся с пыльными бутылками старого вина.
– Вот, видишь ли, вино. Хорошее вино. Мы сейчас выпьем. Я покупаю эти бутылки в разных местах. Эта вот – четыреста пятьдесят франков, а эта – двести пятьдесят, а эта – триста. Посмотри, какая история.
Он приказал слуге позвать кого-то. Через мгновение в комнату вошел небольшого роста француз, плотный, с черными усами. Бутылки откупорили. Шаляпин налил ему из одной бутылки немного вина в стакан. Тот взял, пригубил вино и сказал:
– Бордо 1902 года, «Шато Лароз».
Шаляпин вынул из кармана бумагу и посмотрел в нее под столом.
– Верно.
То же повторилось и с другими винами.
Шаляпин удивлялся. И, налив мне и себе по три стакана вина из разных бутылок, сказал:
– Пей.
Когда я выпил одно, другое, то он спросил:
– Какое лучше?
Все вина были прекрасны.
– Как будто это лучше всех, – сказал я, показав на бутылку.
– Вот и неверно. Это самое дешевое. Постой, я сам, кажется, спутал.
Он опять налил вина французу дегустатору, и тот определил цену каждой бутылки.
– Это черт знает что такое, – кипятился Шаляпин. – В чем дело, не могу понять! Я ведь тихонько покупаю, в разных местах. Как же он узнает. Смотри по списку – ведь верно! Понимаешь, я до этого дойти не могу…
Когда мы, закусывая сыром, кончили вино, Шаляпин повеселел.
– Послушай, еще не поздно, – сказал он, – пойдем куда-нибудь.
Мы захватили с собой дегустатора и поехали.
Дегустатор привез нас в небольшой ресторан и что-то сказал хозяину.
Подали старый шартрез. Бутылку откупорили, точно священнодействуя. Присутствовали и хозяин, и гарсоны, супруга хозяина и дочь.
Первому налили Шаляпину. Попробовав, он посидел некоторое время с открытым ртом и сказал:
– Да, это шартрез.
Видно было, что он желал показать себя знатоком, богатым человеком.
Шартрез стоил дорого.
– Федя, – сказал я, – ты, должно быть, очень богат. Прежде ты не тратил деньги.
– А ты знаешь, я действительно богат. Я, в сущности, хорошо не знаю, сколько у меня всего. Но много. Ты знаешь ли, если продать картины из моего дома, дадут огромную цену…
Странный концерт
Разговорившись, Шаляпин поведал мне о своем блистательном турне по Америке, где заработал большие деньги.
Мне запомнился его рассказ о южноамериканских нравах:
– Мне предложили петь у какого-то короля цирков на званом обеде. Я согласился и спросил десять тысяч долларов. Меня привезли на яхте к пустынному берегу. Была страшная жара. На берегу, недалеко от моря, дом каменный стоял с белой крышей – скучный дом, вроде фабрики. Кругом дома росли ровные пальмы. Какие-то неестественные, ярко-зеленые. Меня встретили на пароходе четверо слуг и два негра, которые несли мои вещи. Дом был пустой. Мне отвели комнату в верхнем этаже. Я умылся с дороги, принял ванну. Пил какой-то мусс. Вышел на балкон и достал рукой ветку пальмы. Представь себе – она была сделана из железа и выкрашена зеленой краской.
Через час подошел пароход с хозяином и гостями. Обед был сервирован в нижнем огромном зале. Суетилась приехавшая на пароходе прислуга; с пароходом доставили весь обед. Я смотрел с балкона на всю эту суету. Меня ни с кем не познакомили. Через несколько мгновений ко мне пришел человек во фраке, вроде негра, и сказал: «Пожалуйте петь». Я пошел за ним. В зале меня уже ждал великолепный пианист. Он знал мой репертуар. Я встал около рояля. Люди в зале обедали, громко беседуя и не обращая на меня внимания. Пианист мне сказал: «Начинаем». В эту минуту ко мне подошел какой-то человек. В руках у него был поднос, на котором лежали доллары. Я их взял. Он просил сосчитать деньги и расписаться в получении. Я положил деньги в карман, пианист снова сказал: «Начинаем». И я стал петь. Никаких аплодисментов. Когда я спел почти весь репертуар, намеченный мной, гости встали из-за стола, вышли из зала и отправились на пароход. Так я и не видел того, кто меня пригласил. И никто со мной не простился. Даже пианист не зашел ко мне в комнату и не пожал мне руку на прощанье. Он уехал с ними. Негры собрали мои вещи, взяли чемоданы и проводили до яхты. Я один возвращался обратно. Как это непохоже на Россию… Удивительный народ! Пригласил меня какой-то богач на охоту. У него огромные земли и заповедники, где содержатся звери. «Вы можете убить носорога», – написано было в приглашении. «Ну, – подумал я, – с носорогом лучше не связываться». И не поехал. И, представь, мне пришлось встретиться в одном американском доме именно с владельцем этих заповедников. Очень милый человек. Худой, невзрачный, но богатый. Я напомнил ему о его приглашении на охоту. Он очень смутился и сказал мне: «Я сам не охотник и никогда там не бывал. Меня представляет там один из моих друзей. Мне только представляют список известных людей, и я отправляю приглашения. Вероятно, вас считали любителем охоты. Носорог, говорите вы. Да разве они есть, носороги, а я и не знал…» Как тебе это нравится?…
Телеграмма
В 1932 году исполнилось пятидесятилетие моей художественной деятельности. Русская колония пожелала отметить мой юбилей концертом. Образовался комитет. И в зале Гаво был дан концерт[369].
Во время концерта меня вывели на сцену как юбиляра. А. Н. Бенуа читал мне адрес[370]. В это время подошел ко мне А. В. Жуковский и сказал мне на ухо:
– Шаляпин прислал телеграмму. Но телеграмма неприличная. Я не знаю, можно ли ее прочесть.
Я не знал, что ответить. Подумал: «Что же это он написал?» Телеграмма была следующего содержания:
«Sijou seitchas douchoy stoboiou riadom hot troudno sest douchoy avsioj sijou ne zadom no vdaleke v provinhii v toulouze bez drouga tchouvstvouiou sebia kak char billardny v louze spasene lich odno sa zdravie tvoie tchetviortouiou boutyl bordosskago vina ouj pomestchaiou v pouze loubliou tebia tzelouiou jelaiou zdorovia chaliapine»[371].
Когда Шаляпин узнал, что не прочли его телеграмму, он ужасно рассердился и сказал:
– Ничего не понимают. Это обидно[372].
Русалка
В театре Елисейских полей готовили «Русалку» Даргомыжского. На репетиции Шаляпин был раздражен, постоянно делал замечания дирижеру.
Подошел день спектакля. На сцене я увидел большую перемену в Шаляпине. В его исполнении была какая-то настойчивость, как бы приказание себя слушать и нескрываемое неудовольствие окружением. Он пел, подчеркивая свое великое мастерство. Это нервировало слушателя. Он как бы подчеркивал свое значение публике. И в игре его не было меры: он плакал в сцене «Какой я мельник? Я – ворон».
Как– то придя к нему утром, я увидел, что он греет над свечкой какую-то жидкость в пробирке:
– Вот видишь – мутная. Это сахар.
Ноги у него были худые, глаза углубились, лицо покрыто морщинами. Он казался стариком. Внутри морщин была краснота.
Исполняя часто партии Грозного, Галицкого, Бориса Годунова и переживая волнения и страсти своих героев, Шаляпин в последние годы жизни и сам стал походить на них. Был гневен, как Грозный, разгулен, как Галицкий, и трагичен, как Борис.
Впрочем, со встречными людьми он никогда не был прост – всегда играл. Никогда я не видел его со знакомыми таким, каким он был, когда приезжал ко мне в деревню.
Вспышка гнева
Когда наступили старость и болезнь и когда стал потухать огонь небесного вдохновенья, Шаляпин забеспокоился и стал еще более раздражителен, чем прежде.
Он много работал и пел все с большим мастерством, стараясь заменить недостаток голоса совершенством исполнения. Но уже не было того изумительного тембра, которым он поражал всех. Знавшим его ранее тяжело было на него смотреть.
Как– то после спектакля у Шаляпина был ужин. Приехало много гостей, русских артистов и иностранцев. Много дам. В прекрасной столовой блестели люстры и наряды дам. Шаляпин сидел посередине. Был молчалив и хмур.
Один из молодых людей, сидевший поодаль в элегантном фраке около дам-иностранок, спросил его:
– А как вы думаете, Мусоргский был гений?
– Да, – ответил Шаляпин, – Мусоргский большой человек. Гений?… Может быть, и гений.
– А почему, – перебил его молодой человек, – в корчме Варлаам поет: «Едет он»? Эта песня целиком заимствована у народа.
Шаляпин пристально посмотрел на молодого человека и ничего не ответил.
– А скажите, Федор Иванович, – опять спросил молодой человек, – Кусевицкий[373] – гений?
Шаляпин долго смотрел на молодого человека и вдруг взревел:
– Да ты кто такой?
Все мгновенно стихли. Шаляпин помутившимися глазами оглядел гостей – гнев захлестнул его:
– Откуда он взялся? Да ты с кем разговариваешь? Кто ты такой? Что со мной делают!…
Молодой человек испуганно вскочил из-за стола. Дамы бросились к выходу.
– Что такое? – бушевал Шаляпин. – Кто эти люди?
К нему подошли другие гости, стали его уговаривать.
– Что вы мне говорите? – грохотал Шаляпин. – Кто этот мальчишка? «Мусоргский заимствует…» Это же жить нельзя. Куда уйти от этих людей?
Я попытался успокоить его:
– Что же ты на всякую ерунду раздражаешься?
– Не могу! Меня это бесит. Он же с Шаляпиным говорит, стерва! Боже, как я несчастен.
Шаляпин сел и закрыл лицо руками.
– Конечно, не стоило ему отвечать, но я не могу. Я не хочу этого. Себя показывают! Ничего не понимают, ничего не чувствуют. Стрелять, жечь, топить всю эту сволочь…
Шаляпин был бледен и весь трясся от волнения.
* * *
Наутро он позвал меня к себе.
– Как это глупо я вчера озлился. Мне худо. Я себя чувствую отвратительно. «На всякое чиханье не наздравствуешься». И за что они меня мучают!… И откуда они понабрались?
– Как откуда, Федя? Что ты!
– Гости! Откуда взялись они?…
Антиквар
– Ты помнишь, я говорил тебе, что Мазини, когда перестал петь, сделался антикваром, – сказал мне как-то раз, когда я был у него, Шаляпин. – Я еще не бросаю петь, но хожу по антикварам. Поедем с тобой, посмотрим мебель. Дорогб! Вот я купил столик – триста тысяч. Понимаешь? Небольшой столик!
Шаляпин повез меня на рю де ла Пэ[374], около плас Вандом[375], в магазин старой мебели в несколько этажей.
Там были прекрасные вещи. Шаляпин спрашивал цены комодам, столам, секретерам. Цены были большие. Один стол стоил восемьсот тысяч. Шаляпин предложил шестьсот. Не отдали.
Шаляпин рассердился, и мы поехали в другой магазин. Там он увидал стол, похожий на приглянувшийся ему в первом магазине. С него спросили двадцать тысяч. Он удивился. Осмотрел стол снизу и кругом. И спросил меня:
– В чем же дело?
– Это имитация, Федя.
– Постой, как имитация? Ты видишь – здесь дырочки. Это черви съели дерево.
– Вот это-то и есть имитация.
– А вот тот секретер?
– Тоже имитация.
– А этот комод?
– Настоящий.
– Почем ты знаешь?
– Да ведь видно.
– Что за черт! Постой…
Шаляпин позвал заведующего.
Тот сказал:
– Да, это старая имитация, но хорошая, а комод настоящий.
– Пойдем, – сказал Шаляпин. – Я, брат, покупаю и старое вино, коньяк. Только, понимаешь ли ты, у меня – сахар, диабет. Понимаешь ли, вино пить нельзя… Я люблю хорошее вино. Зайдем-ка в кафе, выпьем виски.
– Виски – вредно. Помнишь доктора Лазарева, он говорил, что с диабетом жить можно долго – необходимо только воздержание.
– Но я же не обжора…
– Как не обжора? Ты же съел два фунта икры салфеточной при мне сразу.
– Кстати: тут есть салфеточная икра. Поедем к Прюнье.
У Прюнье Шаляпин попробовал икру.
– Хороша.
И приказал завернуть изрядное количество.
– В чем дело? Виски пить нельзя, икры нельзя, водки нельзя… Вот эскарго, ты ешь эскарго?
– Эскарго-то эскарго, а помнишь, раки в речке Нерли какие были?
– Да, замечательные. А как эта рыбка-то? Ельцы копченые. Помню. Я раз целую корзинку у тебя съел… Как у тебя там было весело. Такой жизни не будет уже никогда. Все эти гофмейстеры, охотники, доктор Лазарев, Василий Княжев, Белов, Герасим, Кузнецов, Анчутка, шутки, озорство – неповторимо. Это было счастье русской жизни. Нигде не найти мельника Никона Осиповича. Нигде нет этой простой доброты… Там никогда не говорили о деньгах. Никто их не выпрашивал, они не составляли сути жизни. Жизнь была не для денег. А я устал выпрашивать у жизни деньги. Я знаю, что с деньгами я буду свободен и не унижен. Ты вспомни, этот Василий Княжев или Герасим – какая чистота души! Ведь там совестились говорить о деньгах… А этот лес. Новенькая мельница, водяной. Какая красота. А хижину рыбака в одно окно, убогую, у елового леса, помнишь? А рыбака Константина, который лечил твоему приятелю флюс, привязывая к щеке живого котенка? А эта монашенка, которая бегала по лесу и которую мы все боялись?
– А разбойнички, которых не было, помнишь?… А как ты с револьвером ездил? А воробьиную ночь, когда не было видно своей руки? Когда заблудились и нельзя было идти, и эхо, когда ты пел, и кругом, в разных местах повторялось твое пение, близко и далеко?
– Да, – сказал Шаляпин задумчиво, – это было действительно замечательно. Какая-то особенная симфония.
– А как голос-то снизу крикнул: «Что ты, леший, орешь?» Это уж было не эхо, помнишь?
– Помню. Там был бугор – и внизу ехали рыбаки.
– А как обиделся Павел Александрович [Тучков]?
– Павел! Ведь нигде нет такого: умер ведь он. Ведь это ты объяснил и Павла, и Герасима, и Кузнецова, а ведь я их не понимал и даже сначала немножко сторонился. А оказывается, это были презабавные и прекрасные люди.
– Все уж умерли, – сказал я. – Правда, больше такой жизни уж не будет. Вот оттого я и пишу страницы этой нашей жизни.
– Знаешь, Константин, я удивляюсь, как ты это пишешь. Черт тебя знает, кто ты такой? Откуда это взялось? Отчего ты про меня не пишешь?
– Ты же обидишься. Ты же стал «ваше высочество». А я пишу простые смешные вещи.
Шаляпин вдруг задумался.
– А ведь правда «…»
Домье
Через несколько дней я встретил Шаляпина на Шанзэлизэ[376]. Он опять направлялся к антиквару.
– Пойдем со мной, пожалуйста, – предложил он мне. Я согласился.
На улице Боэси мы остановились у антикварного магазина, и я сказал:
– Федор, вот здесь выставка художника Домье. Ты знаешь Домье?
– Нет, не знаю.
– Это великий француз. С чисто французским юмором он писал адвокатов, суд. Здесь есть небольшая картина, изображающая адвоката, который разрывается, доказывая невиновность своего подсудимого, а секретарь, разбирая бумаги, остановился и смотрит на него. Но как смотрит! Этого нельзя рассказать. Надо видеть. До чего смешно! Это какой-то Мольер в живописи.
– Зайдем, посмотрим, – сказал Шаляпин.
Мы зашли в магазин.
Хозяин, почтенный человек, вежливо сказал нам, что вчера выставку закрыли. Я попросил его, если можно, показать картину Домье, рассказав приблизительно ее содержание. Он любезно согласился, отпер шкаф в другой комнате, достал бронзовый ящик и, бережно вынув из него картину, поставил ее перед нами на мольберт.
Шаляпин долго смотрел на картину и, обернувшись ко мне, сказал:
– Это действительно смешно. В чем дело? Смешно. И зло смешно.
Он спросил у хозяина:
– Она продается?
– Да, мосье. Это редкий Домье.
– Я хочу приобрести. Что она стоит?
– Миллион двести тысяч.
– Ага, – задумался Шаляпин. – Это дорого. В чем дело? Картина не большая. Нет, я не могу ее купить…
Поблагодарив любезного хозяина, мы вышли из магазина. Шаляпин остановился на мостовой. Он был рассержен. Ударял палкой по мостовой и серьезно, подняв голову и смотря в сторону, говорил:
– Константин Алексеевич, вы представляете себе, сколько я должен за эти деньги спеть? Вот вам художники! Может быть, он теперь написал новую в неделю. А я плати миллион. В чем дело?
– Постой, Федя, да ведь Домье давно умер. Ты тогда и не родился еще. При жизни его ты бы, вероятно, купил эту картину дешево. Это бессмертный художник.
Стуча тростью по мостовой, Шаляпин расколол ее пополам. Он поднял обломок и окончательно разгневался.
– Да, художники! Картинка-то небольшая!
– Велика Федура, да дура! – засмеялся я.
– Ты что? Не про меня ли?
– Смешно, Федя.
– Тебе все смешно. Миллион двести тысяч. А ты знаешь ли, мне предложили Тициана, огромную картину, в Англии, за двести тысяч, и я ее купил.
– Молодец! Не верится только. За двести тысяч Тициана едва ли купишь.
– Увидишь.
Федор Иванович продолжал сердиться на Домье.
– Тициан, знаешь, – темный фон, по одну сторону лежат две голые женщины, а по другую сторону – одна. Вот только физиономии у них одинаковые.
– На чем лежат-то? – спросил я.
– То есть как на чем? Там просто написан темный фон. Я, в сущности, еще не вгляделся, на чем они лежат. Старинная картина. Ты что смеешься?
– Вот, Федя, если бы я написал рассказ «Тициан», ты бы и обиделся.
Шаляпин хмуро посмотрел на меня и сказал:
– Я тоже буду писать мемуары…
* * *
Федор Иванович продолжал увлекаться скупкой старинных произведений искусства. Я встретил его как-то на авеню Ваграм. Он шел один и, увидев меня, сказал:
– Пойдем.
Мы зашли в большое кафе. В нем было много народу. Шаляпин поморщился:
– Пойдем отсюда.
Мы пошли в другое кафе, небольшое. Сели за столик. Шаляпин сказал гарсону:
– Сода, виски.
– Тебе же нельзя, Федя, виски.
– Все равно. Видишь ли, я был у антиквара. Он мне такую штуку показывал. Уника мировая. Дорогая штука. Знаешь ли ты, я могу нажить шутя миллионы. Жаль, он никому не показывает, кроме меня, ты бы поглядел… Я не знаю, рискнуть, что ли? Ты что скажешь?
– Я ничего не могу сказать. Зачем ты в антикварию ударился?
– Надо же что-нибудь делать. Ведь пойми ты, что я только пою, а другие дело делают. Вот один в Аргентине купил реку и не пускает пароходы – плати. Так он в год нажил черт знает сколько… Я теперь меньше пою, а деньги идут. У меня дети. Положим, зачем я с тобой говорю, ты ничего в этом не понимаешь… А ты не пьешь сода-виски? У тебя-то ведь сахара нет!…
Он вдруг стал грустен:
– Вот, ты подумай, в какое положение я в жизни поставлен. Диабет, говорят, неизлечим.
Молебен
В это время Шаляпин перестраивал мастерскую в своем прекрасном доме на авеню д’Эйлау. Там были гипсовые украшения – какие-то амуры, раскрашенные в голубые с золотом цвета. Это было приторно. Внутри была лестница, которую он велел переделать.
Когда комната была готова, он повесил гобелены, рисунки русских художников, над камином свой портрет работы Кустодиева[377] и позвал священника освятить дом.
Не забуду тот день. Во время молебна Шаляпин пел сам. Пел столь вдохновенно, что казалось, что сам господь был перед ним в этой комнате. То было не пение, а подлинное славословие и молитва.
Служил отец Г. Спасский, который сказал за трапезой Шаляпину:
– Ваше вдохновение от благословения господа.
Болезнь
Федор Иванович часто говорил мне, что редко вспоминает Россию, но каждую ночь видит ее во сне. И всегда деревню, где он у меня гостил.
«…» – Сплю на сеновале у тебя, и подходят какие-то люди, тихо подходят и поджигают сеновал. Я вскакиваю, окруженный огнем. Не вырваться – вокруг ничего, кроме огня. Я, брат, бром принимал – не помогает.
* * *
Шаляпин все худел. Когда я к нему пришел, он лежал в постели. Потом сел и стал одеваться, напевая из «Бориса Годунова». Меня поразила худоба его ног.
– Хотят устроить мой юбилей – пятидесятилетие моей артистической деятельности. Хотели устроить теперь. Но я не согласился ускорить празднество, так как по-настоящему остался еще год. И я всегда был честным артистом. Понимаешь – честным артистом! Голоса у меня еще хватит.
В глазах его была усталость, и они глубоко сидели в орбитах. Были в них и какая-то мольба, и скупость старика.
Он хотел шутить, но тут же впадал в уныние.
– Вот ты не боялся, Константин, народа, а я боялся всегда… «Восторженных похвал пройдет минутный шум»… Ничего – вот отпою, тогда начну жить. Ты особенный человек, Константин, я всегда удивлялся твоей расточительности… Хорошо мы жили у тебя в деревне.
– Да, – согласился я.
– И вот – минулось… И я как-то не заметил, как все это прошло. Всегда думал: вот перестану петь – начну жить и с тобой поеду на озеро ловить рыбу. В Эстонии хотел купить озеро. И куплю. Еще года два попою и шабаш! Это вот грипп мне помешал. У меня после него какой-то камень лег на грудь. Что-то тут не свободно…
– Это, наверное, нервное у тебя.
Шаляпин пристально посмотрел на меня.
– Ты как находишь, я изменился?
– Нисколько, – солгал я. – Как был, так и есть.
– Разве? А я похудел. Это хорошо для сцены. Помнишь, вы дразнили меня с Серовым, что у меня живот растет? Я приходил в отчаяние. А теперь, смотри – никакого живота.
И он встал передо мной, вытянувшись. Его могучий костяк был как бы обтянут кожей. Это был больной человек.
– Мне бы хотелось выпить рюмку водки и закусить селедкой. Просто – селедкой с луком. Не дают. Кури, что ты не куришь? Мне нельзя. Задыхаюсь. Ты знаешь ли, я жалею, что нет твоего доктора – как его? Лазарева. Вот был здоровенный человек. Помнишь, как он крикнул на меня: «Молчать, я магистр наук, если я вам говорю, что не болит у вас горло, то значит – не болит». И ведь верно. «Я по звуку слышу». Все-таки были у нас хорошие доктора. Но ведь был чудак. Помнишь, любил тебя. На тебя не кричал… Савву Иваныча [Мамонтова] я вспоминаю. Не будь Саввы, пожалуй, я бы не сделал того, что я сделал. Он ведь понимал. Ты знаешь ли, я любил только одного артиста – Мазини. Меня поражало – какое чувство в нем, голос! Небесный голос. И сам он был, брат, парень хороший. Восьмидесяти лет женился. И какая женщина. Молодая, красавица. Я ее видал. Любила его. А ты знаешь, в жизни он, кажется, был бабник.
– А ты, Федя, никогда бабником не был?
В его глазах вдруг показалось веселье – прежний Федя взглянул на меня. Он рассмеялся. И так же внезапно лицо его омрачилось. Он глубоко о чем-то задумался и как бы отряхивал рукой не существующие крошки со скатерти.
– Скажи мне, – спросил он после паузы, – Юрий Сахновский жив или нет?
– Нет, давно умер. Я от кого-то слышал, уж не помню. Во время московского голода похудел, как спичка, а потом, как разрешили торговлю и вино, его в неделю опять всего раздуло.
– А отчего он умер?
– Я слышал – от ожирения сердца.
– Какие все болезни – сахар, ожирение сердца… А твой Кузнецов жив?
– Нет, тоже умер.
– Этот от чего? Он же был здоровенный парень?
– На рыбной ловле, говорят, простудился.
– Я, в сущности, не знаю, за что на меня Серов обиделся. Ты не знаешь?
– Нет, не знаю. Я спрашивал – он молчал.
– Непонятно. Как-то на меня все обижаются. Должно быть, характер у меня скверный. Дирижеры все обижаются, режиссеры тоже. Их ведь прежде не было, а потом вдруг столько появилось! И все ерунду делают… Постановки!… Они же ничего не понимают… Вот, ставили фильм «Дон Кихот». Я в этом деле не понимаю… Я послушно делал все, что мне говорили. Я бы сделал все по-другому. Помнишь, когда я пел Олоферна, ты мне показал фотографии с ассирийских фресок, как там пьет из чашки какой-то ассирийский воин. Я так и сделал. Надо, чтобы артист был – нутро артиста! А теперь артистов делают… Ну-ка, пускай закажут нового Шаляпина. Пускай заплатят. Не сделать! Да и денег не хватит. Говорят, что дорого я беру. А что это стоит – никто не знает. В сущности, ведь меня всегда эксплуатировали. Дурак был. «Императорские театры, – говорил Теляковский, – не преследуют материальных целей». Но деньги все-таки брали. А я ему говорил: «Вы мне плбтите шесть тысяч, а у вас, когда я пою, повышенные сборы. А почему не шестьдесят?» – «Не найдется публики заплатить столько». – «А тридцать?» – «Может быть, найдется». Значит, двадцать четыре-то у меня мимо рук проходили. Ты подумай, какой бы я был богатый человек. Я, конечно, теперь тоже не беден, но все же сколько же с меня содрали! Есть, брат, отчего задуматься. Ты говоришь, что я мрачен – будешь мрачен.
Федор Иванович сердился и все водил рукой по скатерти, как бы стряхивая невидимые крошки.
* * *
Прожив полжизни с Федором Ивановичем Шаляпиным и видя его часто, я всегда поражался его удивительному постижению каждого создаваемого образа… Он никогда не говорил заранее даже друзьям, как он будет петь и играть ту или иную роль. На репетициях никогда не играл, пел вполголоса, а иногда и пропускал отдельные места. И уже только на сцене потрясал зрителя новым гениальным воплощением и мощным тембром своего единственного голоса.
С каким удивлением смотрели на него иностранные певцы! Сальвини слушал Шаляпина, и на лице его было восторженное внимание. Его смотрели и слушали с удивлением, как чудо. И он был и впрямь чудо-артист.
Однажды, когда я удивлялся его исполнению, он мне сказал:
– Я не знаю, в чем дело. Просто, когда пою Варлаама, я ощущаю, что я Варлаам, когда Фарлафа, что я Фарлаф, когда Дон Кихота, что я Дон Кихот. Я просто забываю себя. Вот и все. И владею собой на сцене. Я, конечно, волнуюсь, но слышу музыку, как она льется. Я никогда не смотрю на дирижера, никогда не жду режиссера, чтобы меня выпустил. Я выхожу сам, когда нужно. Мне не нужно указывать, когда нужно вступить. Я сам слышу. Весь оркестр слышу – замечаю, как отстал фагот или альт… Музыку надо чувствовать!… Когда я пою, то я сам слушаю себя. Хочу, чтобы понравилось самому. И если я себе нравлюсь – значит пел хорошо. Ты знаешь ли, я даже забываю, что пою перед публикой… Никакой тут тайны нет. Хотя, пожалуй, некоторая и есть: нужно любить и верить в то, что делаешь. В то нечто, что и есть искусство… Я не был в консерватории. Пел с бродячими певчими, ходил пешком по селам. Узнавали, где приходской праздник, туда и шли петь. Усатов мне помог. Он учил меня ритму. Я совру, а он меня по башке нотами! – отбивает такт. Задаром учил. Я ему за это самовар ставил, чистил сапоги, в лавочку бегал за папиросами. Рахманинов тоже мне помог. Он серьезный музыкант. Понимает. Завраться не дает… И вы, художники, мне тоже помогли. Только эти все знания надо в кармане иметь, а петь надо любя, как художник – по наитию. В сущности, объяснить точно, отчего у меня выходит как-то по-другому, чем у всех, я не могу. Артиста сделать нельзя – он сам делается. Я никогда и не думал, что буду артистом. Это как-то само собой вышло. Не зайди певчие, с которыми я убежал, к отцу на праздник, то я никогда бы и не пел…
Робость
Несмотря на большую самоуверенность, в Шаляпине, как во многих русских людях, была боязнь и даже трусость. Он робел и боялся несправедливости. Был осторожен с власть имущими и избегал знакомства с ними.
В Петербурге мы однажды пришли в ресторан Кюба. Там было много офицеров, Шаляпин изменился в лице и сказал мне:
– Уйдем.
Я удивился и спросил его потом – отчего он ушел.
– Отчего? Оттого, – ответил он.
Однажды Шаляпина вызвали при мне к телефону. С кем он говорил, я не знал, но видел, что он взволновался и побледнел. Я слышал, как он говорил:
– Видите ли, ваше превосходительство…








