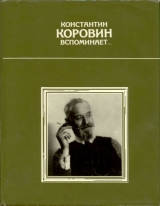
Текст книги "Константин Коровин вспоминает…"
Автор книги: Илья Зильберштейн
Соавторы: Владимир Самков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 53 страниц)
* * *
На открытие Всероссийской выставки в Нижний Новгород приехало из Петербурга много знати, министры – Витте и другие, деятели финансов и промышленных отделов, вице-президент Академии художеств граф И. И. Толстой, профессора Академии.
На территории выставки митрополитом был отслужен большой молебен. Было много народу – купцов, фабрикантов (по приглашению).
Когда молебен кончился, Мамонтов, Витте в мундире, в орденах, и многие с ним, тоже в мундирах и орденах, направились в павильон Крайнего Севера.
Мы с Шаляпиным стояли у входа в павильон.
– Вот это он делал, – сказал Мамонтов, показав на меня Витте, а также представил и Шаляпина.
Когда я объяснял экспонаты Витте, то увидел в лице его усталость. Он сказал мне:
– Я был на Мурмане. Его мало кто знает. Богатый край.
Окружающие его беспрестанно спрашивали меня то или другое про экспонаты и удивлялись. Я подумал: «Странно, они ничего не знают об огромной области России, малую часть которой мне удалось представить».
– Идите с Коровиным ко мне, – сказал, уходя, Мамонтов Шаляпину. – Вы ведь сегодня поете. Я скоро приеду.
Выйдя за ограду выставки, мы с Шаляпиным сели на извозчика. Дорогой он, смеясь, говорил:
– Эх, хорошо! Смотрите, улица-то вся из трактиров! Люблю я трактиры!
Правда, веселая была улица. Деревянные дома в разноцветных вывесках, во флагах. Пестрая толпа народа. Ломовые, везущие мешки с овсом, хлебом. Товары. Блестящие сбруи лошадей, разносчики с рыбой, баранками, пряниками. Пестрые, цветные платки женщин. А вдали – Волга. И за ней, громоздясь в гору, город Нижний Новгород. Горят купола церквей. На Волге – пароходы, барки… Какая бодрость и сила!
– Стой! – крикнул вдруг Шаляпин извозчику.
Он позвал разносчика. Тот подошел к нам и поднял с лотка ватную покрышку. Там лежали горячие пирожки.
– Вот попробуй-ка, – сказал мне на «ты» Шаляпин. – У нас в Казани такие же.
Пироги были с рыбой и визигой. Шаляпин их ел один за другим.
– У нас-то, брат, на Волге жрать умеют! У бурлаков я ел стерляжью уху в два навара. Ты не ел?
– Нет, не ел, – ответил я.
– Так вот, Витте и все, которые с ним, в орденах, лентах, такой, брат, ухи не едали! Хорошо здесь. Зайдем в трактир – съедим уху. А потом я спать поеду. Ведь я сегодня «Жизнь за царя» пою.
В трактире мы сели за стол у окна.
– Посмотри на мою Волгу, – говорил Шаляпин, показывая в окно. – Люблю Волгу. Народ другой на Волге. Не сквалыжники. Везде как-то жизнь для денег, а на Волге деньги для жизни.
Было явно: этому высокому размашистому юноше радостно – есть уху с калачом и вольно сидеть в трактире…
Там я его и оставил…
* * *
Когда я приехал к Мамонтову, тот обеспокоился, что Шаляпина нет со мной.
– Знаете, ведь он сегодня поет! Театр будет полон… Поедем к нему…
Однако в гостинице, где жил Шаляпин, мы его не застали. Нам сказали, что он поехал с барышнями кататься по Волге…
В театре, за кулисами, я увидел Труффи. Он был во фраке, завит. В зрительный зал уже собиралась публика, но Шаляпина на сцене не было, Мамонтов и Труффи волновались.
И вдруг Шаляпин появился. Он живо разделся в уборной донага и стал надевать на себя ватные толщинки. Быстро одеваясь и гримируясь, Шаляпин говорил, смеясь, Труффи:
– Ви, маэстро, не забудьте, пожалуйста, мои эффектные фермато.
Потом, положив ему руку на плечо, сказал серьезно:
– Труффочка, помнишь, – там не четыре, а пять. Помни паузу. – И острыми глазами Шаляпин строго посмотрел на дирижера.
Публика наполнила театр.
Труффи сел за пульт. Раздавались нетерпеливые хлопки публики. Началась увертюра.
После арии Сусанина «Чуют правду» публика была ошеломлена. Шаляпина вызывали без конца.
И я видел, как Ковалевский, со слезами на глазах, говорил Мамонтову:
– Кто этот Шаляпин? Я никогда не слыхал такого певца!
К Мамонтову в ложу пришли Витте и другие и выражали свой восторг. Мамонтов привел Шаляпина со сцены в ложу. Все удивлялись его молодости.
За ужином, после спектакля, на котором собрались артисты и друзья, Шаляпин сидел, окруженный артистками, и там шел несмолкаемый хохот. После ужина Шаляпин поехал с ними кататься по Волге.
– Эта такая особенная человека! – говорил Труффи. – Но такой таланта я вижу в первый раз.
В Москве
В начале театрального сезона в Москве, в Частной опере Мамонтова, мной были приготовлены к постановке оперы «Рогнеда» Серова, «Опричник» Чайковского и «Русалка» Даргомыжского.
В мастерскую на Долгоруковской улице, которую мы занимали вместе с В. А. Серовым, часто приходил Шаляпин. Если засиживался поздно, то оставался ночевать.
Шаляпин был всегда весел и остроумно передразнивал певцов русских и итальянских, изображая их движения, походку на сцене. Он совершенно точно подражал их пению. Эта тонкая карикатура была смешна.
Своей подвижностью, избытком энергии, множеством переживаний – веселье, кутежи, ссоры – он так себя утомлял, что потом засыпал на двадцать часов и разбудить его не было возможности. Особенностью его было также, что он мог постоянно есть. Он был богатырского сложения.
Я не видел Шаляпина, чтобы он когда-либо читал или учил роль. И все же – он все знал и никто так серьезно не относился к исполнению и музыке, как он. В этом была для меня какая-то неразгаданная тайна. Какой-либо романс он проглядывал один раз и уже его знал и пел.
Когда он бывал серьезно расстроен или о чем-нибудь скорбел, то делался молчалив и угрюм. Ничто не могло рассеять его дурного настроения. Он стоял у окна и стучал пальцем по стеклу или как-то рассеянно стряхивал с себя пыль или крошки со стола, которых не было.
Сначала я не понимал, что с ним происходит, и спросил однажды:
– Что с тобой?
– Как тебе сказать, – ответил он, – ты не поймешь. Я, в сущности, и объяснить как-то не могу. Понимаешь ли, как бы тебе сказать… в искусстве есть… постой, как это назвать… есть «чуть-чуть». Если это «чуть-чуть» не сделать, то нет искусства. Выходит около. Дирижеры не понимают этого, а потому у меня не выходит то, что я хочу… А если я хочу и не выходит, то как же? У них все верно, но не в этом дело. Машина какая-то. Вот многие артисты поют верно, стараются, на дирижера смотрят, считают такты – и скука!… А ты знаешь ли, что есть дирижеры, которые не знают, что такое музыка. Мне скажут: сумасшедший, а я говорю истину. Труффи следит за мной, но сделать то, что я хочу, – трудно. Ведь оркестр, музыканты играют каждый день, даже по два спектакля в воскресенье, – нельзя с них и спрашивать, играют, как на балах. Опера-то и скучна. «Если, Федя, все делать, что ты хочешь, – говорит мне Труффи, – то хотя это верно, но это требует такого напряжения, что после спектакля придется лечь в больницу». В опере есть места, где нужен эффект, его ждут – возьмет ли тенор верхнее до, а остальное так, вообще. А вот это неверно.
Стараясь мне объяснить причину своей неудовлетворенности, Шаляпин много говорил и, в конце концов, сказал:
– Знаешь, я все-таки не могу объяснить. Верно я тебе говорю, а, в сущности, не то. Все не то. Это надо чувствовать. Понимаешь, все хорошо, но запаха цветка нет. Ты сам часто говоришь, когда смотришь картину, – не то. Все сделано, все выписано, нарисовано – а не то. Цветок-то отсутствует. Можно уважать работу, удивляться труду, а любить нельзя. Работать, говорят, нужно. Верно. Но вот и бык, и вол трудится, работает двадцать часов, а он не артист. Артист думает всю жизнь, а работает иной раз полчаса. И выходит – если он артист. А как – неизвестно.
На репетиции Шаляпин пел вполголоса, часто останавливал дирижера, прося повторить, и, повторяя, пел полным голосом. Отбивал громко такт ногой, даже своему другу Труффи. Труффи не обижался и делал так, как хотел Шаляпин. Но говорил мне, смеясь:
– Этот Черт Иваныч Шаляпин – таланта огромная. Но он постоянно меняет, и всегда хорошо. Другая дирижер палочка бросит и уйдет. Но я его люблю, понимаю, какая это артист. Он чувствует музыку и понимает, что хотел композитор. Как он поет Лепорелло Моцарта. А Даргомыжского. Я, когда дирижирую, – плачу, удивляюсь и наслаждаюсь. Но я так устаю. Он требует особого внимания. Это такая великая артист…
* * *
В первый же сезон Частной оперы, когда выступал Шаляпин, вся Москва говорила уже о нем, и когда мы с ним обедали в ресторане «Эрмитаж» или «Континенталь», то вся обедающая публика смотрела на Шаляпина.
Шаляпин не любил многолюдных мест, и когда попадал в большие рестораны, то старался сесть в сторонке, чтобы не возбуждать внимания.
При большом ресторане «Эрмитаж» был сад. И в этот сад от ресторана шла большая терраса. Как-то летом мы пришли туда с Шаляпиным. Шаляпин на террасе сидеть не хотел. Мы прошли внутрь ресторана и сели сбоку от буфета, за небольшой ширмой. Посетители заметили Шаляпина и стали передвигать столы так, чтобы им было видно за ширмой Шаляпина.
Нас было трое. Третий был приятель Шаляпина – Лодыженский[275]. Одет он был странно. На голове – котелок, поддевка, повязанная серебряным кавказским поясом. И был он похож на человека, торгующего лошадьми. Таких бывало много на скачках. Шаляпин вдруг подозвал полового и приказал ему принести пяток яиц и спиртовку. Я подумал, что он хочет глотать сырые яйца – для голоса, что он иногда и делал.
Нет. Он зажег спиртовку, попросил у Лодыженского его котелок и, держа его над огнем, вылил в него яйца.
– Что ты делаешь? – возмущался Лодыженский. – Пропал котелок.
– Черт с ним! – отвечал Шаляпин.
Котелок дымил, а Шаляпин накладывает из котелка к себе на тарелку яичницу. Публика возмутилась. Особенно сердился какой-то лицеист: «Это вызов! Какой хам!»
Все посетители ресторана, услыхав, как Шаляпин готовит яичницу, подходили к буфету, будто выпить, а на самом деле – посмотреть вбок за ширму. Возвращаясь к своим столам, они громко выражали негодование. Доносились слова:
– Босяк! Невежа!…
А Шаляпин оставался серьезен и продолжал с нами разговаривать как ни в чем не бывало. Конечно, яичницу он не ел, но ловко делал вид, что ест. Таких озорных проделок за ним было немало. Впрочем, были люди, не прощавшие Шаляпину и его больших гонораров.
Как– то весной, в ресторане Крынкина на Воробьевых горах, мы сидели на террасе за столиком. Был солнечный день. Мы ели окрошку. Из окон террасы была видна Москва-река, горы в садах, и я писал маленький этюд.
Шаляпин пошел погулять. Неподалеку от меня, за столом, сидели какие-то посетители. Один был в форме телеграфиста. Он взглянул в окно на Шаляпина, который стоял у изгороди и, вздохнув, сказал приятелям:
– Хорошо ему, легко живется, споет – и пожалуйте деньги. Штука не хитрая. Правды-то нет! Голос и голос! Другое дело, может, нужней. Молчит и работает. А этот орет на всю Москву – «кто я?».
– Послушайте, – сказал я. – Вы, я вижу, люди почтенные. За что вы не любите Шаляпина? Поет он для вас. Можете взять билеты, послушать его – получите большое удовольствие.
– Поет! Мы знаем, что поет. А сколько он получает?
– И вы тоже получаете.
– Нет, сколько он получает? Это разница. Я, вот, здесь вот эти горы Воробьевы и дворец его императорского высочества обслуживаю. Понять надо! Серьезное дело! Сколько он получает и сколько я? Разница! Вот что!
Человек был в большом гневе, и я не знал, что ответить. Когда вернулся Шаляпин и сел со мной за стол, сердитые люди поднялись и стали одеваться. Уходя, они зло посмотрели в нашу сторону.
* * *
У Шаляпина образовалось много знакомств в Москве, и летом он часто гостил в деревне Путятино, у певицы Частной оперы Т. С. Любатович.
Однажды он заехал ко мне и просил меня поехать с ним к Любатович:
– Поедем. Возьми ружье, ты ведь охотник. Там дичи, наверно, много. Глушь, место замечательное. Татьяна – баба хорошая. Ты знаешь, ведь я женюсь.
– Как женишься? На ком? – удивился я.
– На Иоле Торнаги[276]. Ну, балерину у нас знаешь? Она, брат, баба хорошая, серьезная. Ты шафером будешь. Там поблизости в деревне я венчаюсь. Должно быть, Труффи приедет, Малинин, Рахманинов[277], Мамонтов. А как ты думаешь, можно мне в деревне в поддевке венчаться? Я терпеть не могу эти сюртуки, пиджаки разные, потом шляпы. Картуз же – умней, лучше. Козырек – он солнце загораживает, и ветром не сносит. В вагоне еду – я люблю смотреть в окошко. В Пушкино, к Карзинкиным недавно ехал, высунулся в окошко, у меня панама и улетела. Двадцать пять рублей заплатил…
Свадьба
У подъезда одноэтажного домика в три окошка стояли подводы. Возчики долго томились и говорили: «Пора ехать, поп дожидается».
– Федор, – говорили Шаляпину, – пора ехать.
Но Шаляпин замешкался. Встал поздно.
– Постой, сейчас, – говорил он, – только папирос набью.
Невеста, уже одетая в белое платье, и все мы, гости, уже сели на подводы. Наконец, выбежал Шаляпин и сел со мной на подводу. Он был одет в поддевку, на голове – белый чесучовый картуз.
Мы проехали мост, перекинутый через пруд. Здесь в крайней избе я жил с приятелем своим, охотником Колей Хитровым. Он выбежал из избы, подбежал к нам и сел на облучок рядом с возчиком.
– Господи, до чего я напугался! – обернувшись к нам, стал он рассказывать. – Говорят, здесь каторжник бегает. А меня вчера заставили сад сторожить – там ягоды воруют, клубнику. Вдруг слышу по мосту кто-то бежит и звякает кандалами. Мост пробежал, и ко мне! Я скорей домой, схватил ружье и стал палить из окна. Мужики сбежались, ругаются: «Что ты, из дому стреляешь, деревню зажжешь!» А я им: «Каторжник сейчас пробежал в кандалах к саду Татьяны Спиридоновны». Мужики – кто за косы, кто за вилы – ловить его. Мы все побежали к саду. Слышим: кандалами звякает за садом. «Вон он где!» – кричу я. Подбежали, и вдруг видим… лошадь, и ноги у ней спутаны цепью. Вот меня мужики ругали!…
– Замечательный парень у тебя этот Коля, – смеясь, сказал мне Шаляпин. – Откуда достаешь таких?
* * *
Ехали лесами и полями. Вдали, за лесом, послышался удар грома. Быстро набежали тучи, сверкнула молния, и нас окатил проливной дождь. Кое у кого были зонтики, но у нас зонтиков не было, и мы приехали в церковь мокрехоньки.
Начался обряд венчания. Я держал большой металлический венец, очень тяжелый. Рука скоро устала, и я тихо спросил Шаляпина:
– Ничего, если я на тебя корону надену?
– Вали, – ответил он.
Венец был велик и спустился Шаляпину прямо на уши…[278].
По окончании венчания мы пошли к священнику – на улице все еще шел дождь.
В небольшом сельском домике гости едва поместились. Матушка и дочь священника хлопотали, приготовляя чай. Мы с Шаляпиным пошли на кухню, разделись и положили на печку сушить платье.
– Нельзя ли, – спросил Шаляпин священника, – достать вина или водки?
– Водки нет, а кагор, для церкви, есть.
И мы, чтобы согреться, усердно наливали в чай кагору. Когда двинулись в обратный путь, священник наделил нас зонтиками…
У Путятина нам загородили дорогу крестьяне, протянув поперек колеи ленту. Ее держали в руках девушки и визгливо пели какую-то песню, славя жениха и невесту.
В песне этой были странные слова, которые я запомнил:
Мы видели, мы встречали
Бродягу в сюртуке, в сюртуке, в сюртуке…
Мужики просили с молодых выкуп на водку. Я вынул рублевку и дал. Бабы говорили: «Мало. А нам-то на пряники?». Другие тоже дали крестьянам денег. Лепту собрали, и мы поехали.
Вернувшись к Татьяне Спиридоновне [Любатович], мы увидели столы, обильно уставленные винами и едой. Поздравляя молодых, все целовались с ними. Кричали «горько»[279].
К вечеру Коле Хитрову опять выпал жребий сторожить сад. И когда я, распростившись, уходил к себе на деревню, Шаляпин вышел со мной.
– Пойдем, посмотрим, как твой приятель караулит…
В глубине сада, огороженного канавой с разваленным частоколом, мы увидели огонек фонаря.
Шаляпин сделал мне знак, мы легли в траву и тихо поползли к канаве. Фонарь, горевший в шалашике, покрытом рогожей, освещал испуганное лицо Коли. Вытаращив глаза, он смотрел в темную ночь.
– А этого сторожа надо зарезать! – не своим голосом сказал Шаляпин.
– Кто такой? – завопил неистово Коля. – Буду стрелять!
И, выскочив из шалаша, пустился бежать из сада.
– Держи его! – кричал Шаляпин. – Не уйдешь!…
Коля кинулся к дому Татьяны Спиридоновны. Прибежав туда, он крикнул:
– Разбойники!…
Все переполошились. Высыпали на улицу.
Подходя к дому, мы увидели Иолу Игнатьевну, молодую. В беспокойстве она говорила картавя, по русски:
– Господи! Где Федя, что с ним?…
Шаляпин был в восторге.
Частная опера
Сезон в Частной опере в Москве, в театре Мамонтова, открылся оперой «Псковитянка» Римского-Корсакова[280].
Я, помню, измерил рост Шаляпина и сделал дверь в декорации нарочно меньше его роста, чтобы он вошел в палату наклоненный и здесь выпрямился, с фразой:
– Ну, здравия желаю вам, князь Юрий, мужи псковичи, присесть позволите.
Так он казался еще огромнее, чем был на самом деле. На нем была длинная и тяжелая кольчуга из кованого серебра. Эту кольчугу, очень древнюю, я купил на Кавказе у старшины хевсур. Она плотно облегала богатырские плечи и грудь Шаляпина. И костюм Грозного сделал Шаляпину тоже я.
Шаляпин в Грозном был изумителен. Как бы вполне обрел себя в образе сурового русского царя, как бы приял в себя его неспокойную душу. Шаляпина не было на сцене, был оживший Грозный.
В публике говорили:
– Жуткий образ…
Таков же он был и в «Борисе Годунове»…
Помню первое впечатление.
Я слушал как Шаляпин пел Бориса из ложи Теляковского. Это было совершенно и восхитительно.
В антракте я пошел за кулисы. Шаляпин стоял в бармах Бориса. Я подошел к нему и сказал:
– Ну, знаешь ли, сегодня ты в ударе.
– Сегодня, – сказал Шаляпин, – понимаешь ли, я почувствовал, что я в самом деле Борис. Ей-богу! Не с ума ли я сошел?
– Не знаю, – ответил я. – Но только сходи с ума почаще…
Публика была потрясена. Вызовам, крикам и аплодисментам не было конца. Артисты это называют «войти в роль». Но Шаляпин больше, чем входил в роль, – он поистине перевоплощался. В этом была тайна его души, его гения.
Когда я в ложе рассказал Теляковскому, что Шаляпин сегодня вообразил себя подлинным Борисом, тот ответил:
– Да он изумителен сегодня. Но причина, кажется, другая. Сегодня он поссорился с Купером[281], с парикмахером, с хором, а после ссор он поет всегда, как бы утверждая свое величие… Во многом он прав. Ведь он в понимании музыки выше всех здесь.
* * *
Состав артистов Частной оперы в Москве был удивительный. В «Фаусте», например, Маргариту пела Ван-Зандт, Фауста – Анджело Мазини, Мефистофеля – Шаляпин.
Шаляпин тогда впервые выступал с Мазини, и на репетиции, помню, все посматривал на него. Мазини не пел, а только условливался с дирижером и проходил места на сцене.
По окончании репетиции Шаляпин мне сказал:
– Послушай, а Мазини какой-то особенный. Барин. Что за штука? В трио мне говорит: «Пой так», – и мы с Ван-Зандт, представь, три раза повторили. Обращается ко всем на «ты». Бевиньяни его слушается. Иола говорила, что замечательный певец. Я еще не слыхал…
Ван– Зандт, Мазини, Шаляпин… Вряд ли «Фауст» шел в таком составе где-нибудь в Европе…[282].
Шаляпин был в восторге от Мазини. Говорил: «У него особенное горло»; «Вот он умеет петь».
За ужином после спектакля, на котором Ван-Зандт не присутствовала, рядом сидели Мазини, Девойд, молодой тенор Пиццорни, Дюран и многие другие артисты, все говорили по-итальянски.
К концу ужина Мазини, не пивший шампанского, налил себе красного вина и протянул стакан Шаляпину.
– Ты замечательный артист, – сказал он. – Приезжай ко мне в Милан гостить. Я тебе покажу кое-что в нашем ремесле. Ты будешь хорошо петь.
И, встав, подошел к Шаляпину, взял его за щеки и поцеловал в лоб…
Шаляпин не забыл приглашения Мазини и весной поехал в Милан[283]. Вернувшись летом в Москву, он был полон Италией и в восторге от Мазини.
Одет был в плащ, как итальянец. Курил длинные сигары, из которых перед тем вытаскивал соломинку. А выкурив сигару, бросал окурок через плечо.
В сезоне, в «Дон Жуане» с Падилла, Шаляпин пел Лепорелло уже по-итальянски, с поразительным совершенством[284]. Да и говорил по-итальянски, как итальянец. А в голосе его появились лиризм и mezzo voce[285].
* * *
Однажды в Париже, не так давно, когда Шаляпин еще не был болен, за обедом в его доме его старший сын Борис[286], после того, как мы говорили с Шаляпиным о Мазини, спросил отца:
– А что, папа, Мазини был хороший певец?
Шаляпин, посмотрев на сына, сказал:
– Да Мазини не был певец, это вот я, ваш отец, – певец, а Мазини был серафим от бога.
Вот как Шаляпин умел ценить настоящее искусство.
Мы продолжали в тот вечер говорить о Мазини.
– Помнишь, – сказал я, – Мазини на сцене мало играл, почти не гримировался, а вот стоит перед глазами образ, который он создавал в «Фаворитке», в «Севильском цирюльнике». Какая мера!… Какое обаяние!
– Еще бы! Ведь он умен… Он мне, брат, сказал: «Бери больше, покуда поешь, а то пошлют к черту и никому не будешь нужен!» Мазини ведь пел сначала на улицах. Знал жизнь…
– А вот я встретил как-то в Венеции Мазини, он меня позвал в какой-то кабачок пить красное вино, там был какой-то старик, гитарист, он взял у него гитару и долго пел со стариком. Помню, я себя чувствовал не на земле: Мазини замечательно аккомпанировал на гитаре. В окна светила луна, и черные гондолы качались на Canale Grande[287]. Это было так красиво, – мне мнилось, будто я улетел в другой век поэзии и счастья. Никогда не забуду этого вечера.
– А я не слыхал, как он поет с гитарой. Должно быть, хорошо… А вот скажи, что это стоит – эта ночь, когда Мазини пел с гитарой? Сколько франков?
– Ну, не знаю, – ответил я. – Ничего не стоит!…
– Вот и глупо, – сказал Шаляпин.
– Почему? Он же сам жил в это время, он же артист. Он восторгался ночью.
– Да, может быть. Он был странный человек… В Милане в галерее – знаешь, там бывают артисты, певцы, кофе пьют – он мне однажды сказал: «Все они не умеют петь».
– Как же, постой… Когда я писал портрет с Мазини, отдыхая, он обычно пел с гитарой и, помню, однажды сказал мне: «Я вижу, тебе нравится, как я пою». – «Я не слыхал ничего лучше», – ответил я. – «Это что! – сказал мне Мазини. – У меня был учитель, которому я не достоин застегнуть сапоги. Это был Рубини. Он умер». И Мазини перекрестился всей рукой. – «А я слышал Рубини», – сказал я. – «Ты слышал Рубини?» – «Да, четырнадцати лет, мальчиком, я слышал Рубини[288]. Может быть, я не понял, но, по-моему, вы, Анджело, вы поете лучше». – «Неужели?» – Мазини радостно засмеялся…
– Какая несправедливость, – сказал вдруг Шаляпин, – Мазини чуть не до восьмидесяти лет пил красное вино, а я не могу. У меня же сахар нашли. И черт его знает, откуда он взялся!… А ты знаешь, что Мазини на старости сделался антикваром?… Я тоже, брат, хожу по магазинам и всякие вещи покупаю. Вот фонари купил. Может быть, придется торговать. Вот, видишь ли, я дошел до понимания Тициана. Вот это, видишь, у меня Тициан – показал он на большую картину с нагими женщинами.
И, встав из-за стола, повел меня смотреть полотно.
– Вот видишь, подписи нет, а холст Тициана. Но я отдам реставрировать, так, вероятно, найдут и подпись. Что ж ты молчишь? Это же Тициан? – тревожился Шаляпин.
– Не знаю, Федя, – сказал я. – Может быть, молодой. Но что-то мне не особенно нравится.
– Ну вот, значит меня опять надули.
Шаляпин расстроился до невозможности.
Шаляпин и Врубель
На Долгоруковской улице в Москве, в доме архитектора Червенко, была у меня мастерская.
Для Серова Червенко построил мастерскую рядом с моей. Ход был один.
Приехав из Киева, Врубель поселился у меня в мастерской.
Врубель был отрешенный от жизни человек – он весь был поглощен искусством. Часто по вечерам приходил к нам Шаляпин, иногда и после спектакля.
Тогда я посылал дворника Петра в трактир за пивом, горячей колбасой, калачами.
На мольберте стоял холст Врубеля. Большая странная голова с горящими глазами, с полуоткрытым сухим ртом. Все было сделано резкими линиями, и начало волос уходило к самому верху холста. В лице было страдание. Оно было почти белое.
Придя ко мне, Шаляпин остановился и долго смотрел на полотно:
– Это что же такое? Я ничего подобного не видал. Это же не живопись. Я не видал такого человека.
Он вопросительно смотрел на меня.
– Это кто же?
– Это вот Михаил Александрович Врубель пишет.
– Нет. Этого я не понимаю. Какой же это человек?
– А нарисовано как! – сказал Серов. – Глаза. Это, он говорит, «Неизвестный».
– Ну, знаешь, этакую картину я бы не хотел у себя повесить. Наглядишься, отведешь глаза, а он все в глазах стоит…[289]. А где же Врубель?
– Должно быть, еще в театре, а может быть, ужинает с Мамонтовым.
Шаляпин повернул мольберт к стене, чтобы не видеть головы «Неизвестного».
– Странный человек этот Врубель. Я не знаю, как с ним разговаривать. Я его спрашиваю: «Вы читали Горького?», а он: «Кто это такой?». Я говорю: «Алексей Максимович Горький, писатель». – «Не знаю». – Не угодно ли? В чем же дело? Даже не знает, что есть такой писатель и спрашивает меня: «А вы читали Гомера?». – Я говорю: «Нет». – «Почитайте, неплохо… Я всегда читаю его на ночь».
– Это верно, – говорю я, – он всегда на ночь читает. Вон, видишь, – под подушкой у него книга. Это Гомер.
Я вынул изящный небольшой томик и дал Шаляпину.
Шаляпин открыл, перелистал книгу и сказал:
– Это же не по-русски.
– Врубель знает восемь иностранных языков. Я его спрашивал, отчего он читает именно Гомера. «За день, – ответил он, – устанешь, наслушаешься всякой мерзости и скуки, а Гомер уводит…» Врубель очень хороший человек, но со странностями. Он, например, приходит в совершенное расстройство, когда манжеты его рубашки испачкаются или промнутся. Он уже не может жить спокойно. И если нет свежей под рукою, бросит работу и поедет покупать рубашку. Он час причесывается у зеркала и тщательно отделывает ногти. А в газетах утром читает только отдел спорта и скачки. Скачки он обожает, но не играет. Обожает лошадей. Ездит верхом, как жокей. Приятели у него все – спортсмены, цирковые атлеты, наездницы. Он ведь и из Киева с цирком приехал.
Отворилась дверь и вошел М. А. Врубель.
– Как странно, – сказал он – вот здесь, по-соседству, зал отдается под свадьбы и балы. Когда я подъехал и платил извозчику, я увидел, что в доме бал. А у подъезда лежит контрабас, а за ним – музыкант на тротуаре. И разыгрывается какой-то скандал. В этом было что-то невероятно смешное. Бегут городовые, драка.
– Люблю скандалы, – вскинулся Шаляпин, – пойдемте, посмотрим.
– Все кончилось, – сказал Врубель, – повезли всех в полицию.
– Послушайте, Михаил Александрович, вот вы – образованный человек, а вот здесь стояла картина ваша, такая жуткая, – что это за человек, «Неизвестный»?
– А это из лермонтовского «Маскарада» – вы же знаете, читали.
– Не помню… – сказал Шаляпин.
– Ну, забыть трудно, – ответил Врубель.
– Я бы не повесил такую картину у себя.
– Боитесь, что к вам придет такой господин? А может прийти…
– А все-таки, какой же это человек, «Неизвестный», в чем тут дело?
– А это друг ваш, которого вы обманули.
– Это все ерунда. Дружба! Обман! Все только и думают, как бы тебя обойти. Вот я делаю полные сборы, а спектакли без моего участия проходят чуть ли не при пустом зале. А что я получаю? Это же несправедливо! А говорят – Мамонтов меня любит! Если любить, плати. Вот вы Горького не знаете, а он правду говорит: «Тебя эксплуатируют». Вообще в России не любят платить… Я сказал третьего дня Мамонтову, что хочу получать не помесячно, а по спектаклям, как гастролер. Он и скис. Молчит, и я молчу.
– Да, но ведь Мамонтов зато для вас поставил все оперы, в которых вы создали себя и свою славу, он имеет тоже право на признательность.
– А каменщикам, плотникам, архитекторам, которые строили театр, я тоже должен быть признателен? И, может быть, даже им платить? В чем дело? «Псковитянка»! Я же Грозный, я делаю сборы. Трезвинский[290] не сделает. Это вы господские разговоры ведете.
– Да, я веду господские разговоры, а вот вы-то не совсем…
– Что вы мне говорите «господские»! – закричал, побледнев, Шаляпин. – Что за господа! Пороли народ и этим жили. А вы знаете, что я по паспорту крестьянин, и меня могут выпороть на конюшне?
– Это неправда, – сказал Врубель. – После реформ Александра II никого, к сожалению, не порют.
– Как, «к сожалению»? – крикнул Шаляпин. – Что это он говорит, какого барина разделывает из себя!
– Довольно, – сказал Врубель.
Что– то неприятное и тяжелое прошло в душе. Шаляпин крикнул:
– И впрямь, к черту все и эту тему!
– Мы разные люди. – Врубель оделся и ушел[291].
– Кто он такой, этот Врубель, что он говорит? – продолжал в гневе Шаляпин. – Гнилая правда.
– Да, Федор Иванович, когда разговор зайдет о деньгах, всегда какая-нибудь гадость выходит, – сказал Серов и замигал глазами. – Но Мамонтову театр тоже, кажется, много стоит. Его ведь все за театр ругают. Только вы не бойтесь, Федор Иванович, вы получите…
– Есть что-то хочется, – сказал несколько погодя Шаляпин. – Поехать в «Гурзуф» что ли, или к «Яру»? Константин, у тебя деньги есть, а то у меня только три рубля.
И он вынул из кармана свернутый трешник.
– Рублей пятнадцать… Нет – двенадцать. Этого мало.
Я обратился к Серову:
– Антон, у тебя нет денег?
– Мало, – сказал Серов и полез в карман.
У него оказалось семь рублей.
– Я ведь не поеду, вот возьмите пять рублей.
– Куда же ехать, – сказал я, – этих денег не хватит.
Поездка не состоялась и Шаляпин ушел домой.
Конец частной оперы
В характере Шаляпина произошла некоторая перемена. По утрам, просыпаясь поздно, он долго оставался в постели. Перед ним лежали все выходящие газеты, и первое, что он читал, была театральная хроника, к которой он всегда относился с большим раздражением.
– Когда ругают, – говорил он, – то неверно, а когда хвалят, то тоже неверно, потому что ничего не понимают. Кашкин еще куда ни шло[292], ну а Кругликов – это что ж! странный человек[293]. Вообще у нас критика бутербродная…
Утром приходили знакомые, поклонники, Шаляпин принимал их, лежа в постели. В это время нянька приносила к нему родившегося сына Игоря[294]. Ребенок был со светлыми кудрями, и Шаляпин играл с ним, несчетно целуя и радуясь.
Когда его спрашивали, что он намерен петь новое, он нехотя отвечал, что не знает; не знает, будет ли и вообще-то петь еще.
А мне всегда говорил серьезно и наедине:
– Ты скажи, Константин, Мамонтову, что я хочу жить лучше, что у меня, видишь ли сын, и я хочу купить дом. В сущности, в чем же дело? У всех же есть дома. Я тоже хочу иметь свой дом. Отчего мне не иметь своего дома?
Шаляпин был озабочен материальным благополучием, а Мамонтов говорил, что он требует такой оплаты какой Частный театр дать не может. Нет таких сборов. Гастроли Мазини не могут проходить целый год, так как публика не может оплатить такого сезона. Таманьо не мог сделать десять полных сборов по таким повышенным ценам.








