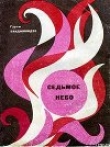Текст книги "Год активного солнца"
Автор книги: Гурам Панджикидзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 47 страниц)
– Нодар, ты кого-то любишь?
Слова Эки, словно ток высокого напряжения, прошили мое тело и молниеносно заставили меня сесть. Расслабленность исчезла без следа.
Эка, обхватив руками голову, выжидательно смотрела на меня.
Некоторое время я не сводил с нее сердитых глаз, а потом опять лег на спину, подложив под голову руки. Глаза мои вновь устремились в синеву неба. Отвечать на такой вопрос я счел излишним.
Пауза.
Честно говоря, я уже позабыл, о чем она меня спрашивала, и думаю совсем о другом. Я перескакиваю от одной мысли к другой; Внешне они как будто совершенно не связаны друг с другом, но если поднапрячься, связь между ними обнаружить можно. Это выглядит точно так же, как если бы я переходил реку, перепрыгивая с камня на камень.
– Я тебя серьезно спрашиваю, ты кого-то любишь?
Я опять подскочил и, схватив Эку за волосы, повернул к себе.
– Тебе не совестно?
– Что же, в таком случае, могло так внезапно измениться?
– Ты думаешь, внезапно?
– Ты прав! – высвободилась она из моих рук. – Я была настолько слепа, что до последнего дня не смогла угадать конца. Может, ты влюблен в кого-то? Скажи мне без утайки.
– Я никого не люблю и вряд ли полюблю в будущем. Пойми, я и сам не знаю, что со мной происходит. Ты думаешь, я охладел и не люблю тебя больше? Что ж, возможно, я действительно уже не люблю тебя, но не знаю, смогу ли жить без тебя. Понятия не имею, что со мной станется, каково мне будет, если ты бросишь меня. Я устал, смертельно устал, я выхолощен, а в душу мне закралась, ржавчина. У меня ни к чему нет интереса. Ничто меня не волнует, даже на преодоление простейшего препятствия у меня недостает энергии, и я в отчаянии. Наверное, я неточно выражаю то, что хочу сказать? Что меня утомило, что выхолостило? Я вроде бы не болен, и на бессилие жаловаться грех. Что же тогда расслабило мою душу?
Пауза.
Сигарета.
Изумленные глаза Эки.
Тень коршуна вновь прочертила гору над Арагви, потом скользнула в лощину и черным пятном растеклась по камням.
Я взглянул вверх. Коршун летел к Ананури, летел медленно, красиво, гордо, если вообще коршуны обладают чувством гордости.
– Мне никогда не пришлось пережить волнения великих страстей, и их тяжесть не обременяла мою душу. Не пришлось мне испытать и горечи больших разочарований. Для своего возраста я достиг завидных успехов в науке. Может, я ждал большего, может, стремился к большему и мною овладело чувство недостаточности? Не думаю. Величие и громкое имя никогда не привлекали меня.
Пауза.
И вновь расширенные от изумления зрачки Эки.
– Может, меня сломили царящие вокруг нас равнодушие и безразличие, порожденные выматывающим жилы напряжением современной жизни? А может, каждодневные ложь, лицемерие, вероломство смазали, поистрепали и обезличили наши эмоциональные центры? Не знаю, Эка, понимаешь, не знаю. Могу сказать только одно: все в моих глазах потеряло цену. Все сделалось ничтожным. Слышишь, Эка, нич-тож-ным!
Я чувствую, как загорелись мои глаза, как прервалось дыхание и защемило виски.
– Не думай, пожалуйста, что к этому выводу меня привело самоубийство Левана Гзиришвили. Последний отчаянный шаг моего учителя лишь подтвердил мою правоту.
В зале не меньше трехсот человек, не меньше трехсот первоклассных физиков. Трудно, почти невозможно увлечь, покорить, переключить на твою волну такое количество высокоинтеллектуальных, ультраталантливых индивидов.
Деревянная стандартная трибуна сдвинута к самому краю сцены, черная головка микрофона похожа на воробья, усевшегося передохнуть.
Академик, опершись на тяжелую ручку кресла, стоит посреди сцены. Отказавшись от трибуны и микрофона, он избрал форму дружеской беседы. Он говорит уже целых два часа, но еще ни разу не присел в кресло, которое поставили на сцену по его желанию. Может, кресло – просто деталь режиссерского замысла? Сцена задрапирована тяжелым черным занавесом, и человеку, случайно забредшему сюда, могло показаться, что академик декламирует стихи.
Он говорит неторопливо, искусно управляя своим бархатным баритоном и четко проставляя акценты. Мягкий юмор, остроумные сравнения, многозначительные паузы органично сменяют друг друга. Его высокий лоб, его глаза, светящиеся за стеклами очков, его вдохновенная, блестящая речь, искрящаяся улыбка действуют на аудиторию магически. А как мастерски владеет он руками, как лаконичны, многоречивы и пластичны его жесты! А сколько перевидали мы ораторов и даже актеров, которые никак не могли совладать со своими руками! Невооруженным глазом видно, как беспокоят их руки и они не знают, куда их девать, что с ними делать. И руки бессмысленно и неприкаянно тычутся куда попало, лихорадочно вздымаются и опадают, так и не найдя пристанища.
Академику семьдесят два года. Моложавая фигура выдает его пристрастие к спорту.
Академик знакомит аудиторию с новейшей теорией плазмы и тонкостями недавнего эксперимента. Я с напряжением слушаю сообщение о достижениях наших коллег и постепенно осознаю, что целиком нахожусь под неотразимым обаянием речи академика. До сих пор я даже представить себе не мог, что лекция по физике, пусть даже о самых сенсационных ее открытиях, сможет так перехватить горло.
Плазма не имеет ничего общего с тем, чем занимаемся мы, но о достижениях в этой области я осведомлен достаточно хорошо. Академик поведал нам о многих интереснейших новинках и до мельчайших нюансов разъяснил их научное значение. Артистизм изложения, поразительное умение очертить проблему, ритмическое разнообразие речи создавали полную иллюзию проникновения в неведомые миры. Даже уже известные вещи обернулись вдруг новыми гранями, уровнями и измерениями. Но нас увлекала не изысканная логика, даже не научная глубина, а выражение, проявление его личности. Никакое совершенство технического устройства, никакой великий научный подвиг не изумляют и не поражают меня так, как совершенство человека. И я не знаю более сложной проблемы в этом бескрайнем мире, нежели проблема человеческого Духа.
«Форен Куин в лос-аламосской лаборатории получил плазму температурой в десять миллионов градусов по шкале Кельвина и продержал ее в течение пяти миллионных долей секунды. – В голосе академика зазвучали торжественные нотки. – Американский ученый заявил: «Это лишь начало, мы должны получить плазму температурой в сто миллионов градусов и продержать ее в стабильном положении на протяжении двух третей секунды». Всего лишь два месяца тому назад, а если быть точным, 23 ноября, советские физики под руководством академика Арцимовича смогли получить плазму температурой в тридцать миллионов градусов и продержать ее в стабильном положении в течение одной пятидесятой доли секунды. Сделан еще один шаг. Человечество может быть спокойным. Энергетическая смерть не ожидает нашу планету».
Голос академика дошел до самого высокого регистра. Его рука не опирается больше на тяжелую ручку глубокого кресла. Он уже не смотрит в глаза каждому слушателю в отдельности, словно только к нему и обращается. Взор академика прорвался сквозь отделанные деревянными панелями стены уютного клуба ученых и устремился в бескрайние просторы вселенной.
…«Теперь, когда человеческий гений достиг таких высот, невероятно, что в мире еще могут существовать столь страшные явления, как расизм и колониализм. Тем более невероятно, что в эпоху торжества человеческого разума от пуль и шрапнели гибнут беззащитные женщины и дети. Представьте себе, что наша планета – гигантский воздушный корабль, на борту которого находится четыре миллиарда пассажиров. Каждый пассажир обязан бороться за безопасность своего корабля, с огромной скоростью мчащегося в безжизненной зоне. Раньше полагали, что формы жизни существуют тут же, в нашей солнечной системе, на Марсе или Венере. Но современная техника поставила нас лицом к лицу с жестокой реальностью.
Более того: теле– и радиосигналы Земли образуют расширяющееся излучение, радиус которого в космосе достигает в настоящее время двадцати световых лет. Разумные существа, коль скоро они действительно обитают в пределах указанного радиуса, должны были убедиться в существовании жизни на Земле. Однако сколько-нибудь серьезных доказательств в пользу существования обжитых планет в радиусе двадцати световых лет мы не имеем. А если это так, то, чтобы преодолеть наше одиночество в этом безбрежном пространстве, мы обязаны протянуть друг другу руку помощи. Мы еще больше должны полюбить нашу голубую планету – избранницу богов, планету разума. Духовные и культурные ценности, созданные в ее лоне, не менее удивительны, нежели непознанная и таинственная вселенная.
Наша планета – всего лишь малая ее частица, а жизнь – мгновение, но это – мгновение мыслящего человека, и оно постигает пространства в миллиарды световых лет.
По космическим масштабам, человек – ничто, но он постепенно овладевает этими масштабами, постепенно постигает содержимое их таинственных «кладовых».
«Надо выдержать натиск времени, надо верить в вечность мгновения», – говорит швейцарский писатель Макс Фриш.
Таково было мгновение, когда Толстой поставил последнюю точку в своем «Хаджи Мурате».
Таково было мгновение, когда инженер-эксперт третьего класса Эйнштейн принес в Швейцарское патентное бюро три работы для публикации. Вспомним лишь две из них: в одной была сформулирована теория относительности, а в другой – квантовая теория.
Таково было мгновение, когда Леонардо сделал последний мазок в «Джоконде».
Таково было мгновение, когда впервые взлетел в космос Юрий Гагарин.
Наверное, такое мгновение имел в виду Гёте: «Остановись, мгновение, – ты прекрасно!»
Много таких мгновений будет на нашей планете. Они будут у всех – у малых и больших, у художников и ученых, у гениев и простых людей.
«Собственное время – всегда следующее мгновение» – такова надпись на берлинской ратуше.
О следующем мгновении всегда должно заботиться все человечество. Следующий миг – завтрашний день планеты».
Физики, о чем-то оживленно переговариваясь и споря, группками стоят в вестибюле.
Мне ни с кем не хочется видеться, ни с кем не хочется говорить. Выбраться на воздух и остаться одному – вот единственное мое желание. Забраться бы в какой-нибудь парк, побродить по аллеям, унять волнение и поразмышлять в одиночестве.
Я выхожу на улицу. Холод тут же цепко схватил меня за горло. Яркое солнце, но термометр на дверях института показывает пятнадцать градусов ниже нуля. Я быстро пересек улицу Курчатова и направился было к парку Рязановского дворца, но, тут же передумав, повернул к набережной Дубны.
Вот теперь я в полном одиночестве, и ничто не отвлекает меня от раздумий. Я быстрым шагом хожу взад-вперед по стылой набережной – рад бы ходить и помедленней, но чертовски холодно. Время летит незаметно. Беспомощные лучи зимнего солнца не в силах смягчить жгучий мороз, но их прикосновение к лицу все же приятно.
Неожиданное открытие: все это время (я уже два часа меряю шагами набережную) я думаю лишь о личности нашего докладчика. Ни плазма, ни «Токамак» и ни «Гелиотроп» ни разу не отвлекли моего внимания.
Да, меня поразили вовсе не научные открытия, а личность, которая их совершила, личность, для которой решение всех земных и небесных проблем подчинено лишь одной цели – поглубже заглянуть в извилины человеческой души, облагородить и наполнить ее любовью.
Последовательное движение человечества к нравственной чистоте всегда было связано с жестокими битвами, и необратимый прогресс человечества – заслуга душевно чистых и сильных людей. Но кто знает, жизнью скольких людей, а иногда и целых поколений оплачен каждый новый шаг, приближающий нас к бесконечной вершине! На пути, который зовется гуманизмом, душевной чистотой, благородством и великодушием.
Кто знает, скольким ученым стоило жизни их стремление к истине, к познанию непознаваемого, к открытию неведомого!
Кипучая энергия и возвышенные чувства переполняли мое существо. Мое лицо, видно, выражало такую степень возбуждения, что редкие прохожие с удивлением оглядывались на меня.
Я бы наверняка не ощущал под собой ног от пьянящего восторга, если бы мороз постоянно и строго не напоминал мне о них.
В институт я вернулся поздно. У его ворот стояло необычайно много машин, во дворе суетились и возбужденно переговаривались люди. Сердце заныло от смутного предчувствия беды, и я прибавил шагу.
– Что случилось? – спрашиваю я у взволнованно бегущего молодого человека.
Он, не ответив, промчался мимо.
– Что случилось? – спрашиваю у другого, открывающего дверцу машины.
– Ты что же, ничего не знаешь? – удивился тот, запуская мотор.
– Что случилось? – задохнувшись, подбегаю я к группе сотрудников института, понуро стоящей во дворе.
Молчание. Даже не посмотрели в мою сторону.
– Вы что, оглохли? Что случилось, я спрашиваю? – ору я, не в силах сдержать ярости.
– Потише, друг! – хмуро проговорил один из них и, взяв меня под руку, отвел в сторону. – Ты что, не слышал? Академик погиб.
– Как это – погиб?
– Все очень просто. Он пошел в гостиницу пешком. С карниза одного из домов сорвалась сосулька и упала ему на голову. Скончался на месте.
– Невероятно!
– Ты прав, это и вправду невероятно, – горько вздохнул он и отошел к своим товарищам.
Какие чувства завладели мной тогда? Отчаяние? Страх? Безнадежность? Позже я пытался вспомнить свое состояние, но безуспешно. Все начисто стерлось в памяти. Видно, в ту минуту я совершенно отключился.
Потом я и Сергей сидели в небольшом ресторанчике на берегу Дубны. Я не помню, как мы встретились друг с другом. Может, он увидел меня и подошел? А может, это я окликнул его или просто бросился к нему навстречу?
Помню лишь одну фразу, сказанную Сергеем:
– Пойдем выпьем по стаканчику, не то я свихнусь!
– Представляешь? Обыкновенная сосулька, – доносится до меня девичий голос от соседнего столика.
– Говорят, он был крупнейший ученый! – отвечает парень и наливает в стакан лимонад.
– И чего это ему вздумалось идти пешком? Поехал бы на машине – ничего бы и не случилось! – тянет другой парень.
Не разобрать, как это сказано: то ли с насмешкой, то ли с горечью раздосадованного человека.
Сергей молча уставился в пол.
В памяти невольно всплывает одна история. Дядя снял крышку с улья, заледеневшего от внезапного мороза, и вытащил пустые соты. А в ящике осталась целая гора пчелиных трупиков. Я невольно представил, сколько мертвых мыслей, подобно погибшим пчелам, осталось в голове академика.
Озноб прошил мое тело. В сердце вонзились холодные клешни.
– Давай уйдем отсюда! – чуть ли не молю я Сергея.
Он растерянно взглянул на меня, не сразу поняв, в чем дело. Потом обвел взглядом ресторанный зал и резко поднялся со стула.
– Ты не говорил так, когда любил меня, Нодар!
– Вполне возможно, но это вовсе не означает, что я так не думал, не переживал того, что так мучает меня сейчас.
– Это не страшно, пройдет время – и все изменится. Обязательно появится, если уже не появилась, девушка, которая поставит с головы на ноги всю твою нынешнюю философию. И ты опять сделаешься таким же энергичным и веселым, каким был ну хотя бы еще год тому назад. Глаза твои снова наполнятся теплом, вниманием и любовью, как в былые времена, когда мы впервые встретились с тобой.
– О нет, дорогая ты моя Эка! – горько усмехаюсь я. – Такое, увы, больше не повторится.
Я лгу.
Лгу безбожно.
Но… невольно. Я не повинен в этой лжи. В ту самую минуту, когда я произношу эти слова, я абсолютно уверен, что никогда больше не смогу никого полюбить.
Может, два эти события, похожие друг на друга как близнецы, и сломили меня? Может, пройдет немного времени, и радость, вера в будущее и надежда вновь возвратятся ко мне?
Нет, нет, поверить в это невозможно.
И все же я лгу.
Все предрешено заранее.
Через каких-нибудь сорок четыре дня, то есть тридцатого августа, я познакомлюсь с одной девушкой, познакомлюсь в поезде.
Еще сегодня я даже представить не могу этого, да и как представишь? Ведь я никогда не видел ее раньше. И не увижу… до утра тридцатого августа.
Так решила судьба, наша встреча неминуема. Это случится тридцатого августа – не раньше и не позже.
Иностранный физик, которого я сопровождал в его поездке по Батуми, через два дня отправился теплоходом в Ялту.
Утомленный церемониалами многочисленных встреч, я задолго до отхода тбилисского поезда пришел на вокзал. Состав еще не подали.
Я неторопливо шагаю к концу перрона, где, как правило, и останавливается международный вагон.
Ровно в одиннадцать взревел маневровый паровоз, и состав с лязгом выстроился на первом пути. В вагон я вхожу в полном одиночестве, да это и не удивительно – на перроне пока ни души. Проводница возвращает мне билет и предупреждает, что койка уже застелена.
У меня верхнее место. Я быстро раздеваюсь и ложусь. Жарко. Я опускаю раму до самого низу, но воздух даже не шелохнется. Хочу заснуть, но ничего не получается. То и дело вытираю пот вафельным полотенцем.
А шум на перроне постепенно усиливается. Дремота наваливается на меня, но заснуть никак не удается. Я ворочаюсь на койке и опять тянусь за полотенцем.
А шум на перроне усилился. Теперь уже не заснуть. Просто не нахожу себе места.
А вот и полный набор вокзальной суеты: объяснения и поцелуи, деланное веселье и смех, пьяные песни, прощальные возгласы. И пассажиры, и провожающие по преимуществу тбилисцы.
Вагон постепенно заполняется. Бесконечные переговоры и грохот чемоданов.
В мое купе просунул голову худощавый мужчина среднего роста, беспечно бросил чемодан на полку и тут же выскочил обратно.
Высунув голову в окно, я курю. На соседнем пути стоит товарняк, груженный бревнами и новенькими автомобилями.
Я затягиваюсь в последний раз и швыряю окурок в окно. Потом ложусь на спину и натягиваю простыню.
Стараясь ни о чем не думать, я крепко смыкаю веки. А теперь спать, спать, спать.
Эпизод без меня.
Внезапно внимание вокзального люда привлекла девушка лет двадцати трех. Она неторопливо шла по перрону, направляясь к концу состава, где, по ее мнению, должен был находиться международный вагон.
Девушка, никого не замечая и глядя куда-то вдаль, гордо несла сквозь толпу красивую голову. Но это только казалось, что она никого не замечает: глаза ее незаметно скользят по лицам пассажиров, стараясь не встречаться с их взглядами. Она шла и чувствовала, как при ее появлении разом смолкают необязательные перронные разговоры и смех. Она ни разу не оглянулась назад, но знала, что ей смотрят вслед десятки глаз. Длинные ноги в джинсах ни разу не ускорили своего торжественно-неторопливого шага, ни разу не дрогнула ее гордая голова.
Она шла мягко, грациозно, легко.
Вязаная кофточка без рукавов и с глубоким вырезом ловко облегала ее высокую грудь и плоский живот.
Ее загорелое лицо матово поблескивало при свете лампионов. С левого ее плеча свисала небольшая джинсовая сумка с джинсовой же курткой сверху. Время от времени правой рукой она отбрасывала со лба темно-каштановые пряди волос, и свободный браслет ее тяжелых часов сползал чуть ли не к самому локтю.
Изнемогая от жары, я ворочаюсь на своей полке, поминутно отирая пот уже влажным полотенцем. Смотрю на часы. До отхода поезда еще целых семнадцать минут. Курить не хочется, но я все же закуриваю. Так время ожидания проходит быстрее. Пепел я стряхиваю в открытое окно.
Я увижу ее лишь под утро, когда поезд минует Гори. Ровно через восемь часов и тридцать пять минут Нана Джандиери войдет в мое купе. А до тех пор я ничего и знать не буду о ее существовании… Я с отвращением швыряю окурок под колеса товарняка и нетерпеливо смотрю на часы.
Еще одиннадцать минут.
Приблизившись к последнему вагону, девушка еще больше замедлила шаг и остановилась у самого входа в вагон.
Как правило, у входа в международный вагон пассажиров, да и провожающих собирается гораздо меньше, нежели у других. Еще одна особенность: пожилых, солидных людей здесь гораздо больше, чем молодых. Вот и сейчас у вагона все больше люди в возрасте. Мелькает лишь два-три молодых лица.
При появлении Наны Джандиери и здесь на мгновение установилась тишина. Все – и женщины, и мужчины – внимательно, с головы до пят, оглядели девушку.
Видно, что багаж уже давно водворен на свои места, успокоившиеся пассажиры вышли на перрон поболтать с провожающими. В вагоне невыносимо душно, и все предпочитают лишнюю минуту побыть на воздухе.
Нана по-прежнему стоит в сторонке и не подходит к проводнице. Отъезжающие и провожающие снова вернулись к своим разговорам. Но мужчины нет-нет да и бросают исподтишка взгляды на красавицу. Иные намеренно встали так, чтобы не пришлось оборачиваться к ней.
А Нана Джандиери все стоит и стоит. Она по-прежнему выглядит беспечной и независимой, но если присмотреться повнимательней, можно без труда заметить, как она волнуется и робко мнется: видно, никак не решится сделать первый шаг. Время от времени она бросает отчаянный взгляд на проводницу. Наконец, убедившись, что проводница освободилась, она быстро подошла и вполголоса, но довольно твердо обратилась к ней:
«Уважаемая, у меня нет билета, но мне необходимо быть завтра в Тбилиси».
Проводница с нескрываемым изумлением посмотрела на Нану, словно спрашивая: как же так, у такой красивой девушки и нет билета? Да захоти вы…
Даже мысленно проводница не осмелилась обратиться к Нане на «ты».
Нана сразу поняла ее немой вопрос.
«Не в моей привычке просить и беспокоить людей, а в билетных кассах билеты проданы на две недели вперед».
«Я бы с удовольствием взяла вас, но в такую пору свободных мест у нас не бывает».
«Ничего, я посижу в коридоре».
«Всю ночь?»
«Да, всю ночь, вы, пожалуйста, не беспокойтесь».
«Ладно, проходите. Только… что я скажу ревизору?»
«Я сама все объясню ревизору».
И Нана обезоруживающе улыбнулась проводнице. Та вздохнула и посторонилась, пропуская Нану в вагон. Но Нана кивнула ей и, отойдя в сторонку, осталась на перроне.
Проводница с грустным умилением смотрит на красивое лицо и стройную фигурку девушки. Усталой, погрузневшей, некрасивой женщине за пятьдесят приятно смотреть на эту удивительную красавицу, приятно и любопытно. Она никак не может понять одного: как такая привлекательная девушка могла остаться без билета? Неужели в Батуми не оказалось ни одного знакомого или поклонника? Да ради такой девушки каждый счел бы за честь пойти хоть к черту на рога, не то что какой-то там билет достать. И почему это никто ее не провожает? Где ее ухажеры или хотя бы подруги?
Люди, сгрудившиеся возле вагона, поняли, что девушка собирается ехать с ними. Двое юношей с улыбкой переглянулись друг с другом и незаметно перемигнулись. Другие мужчины, хотя и не выразили радости столь открыто, внутренне напряглись и почувствовали, как блаженная истома разлилась по всему телу. О чем они думали? На что надеялись? Чего ждали? Никто из них не сумел бы ответить на эти вопросы, но безотчетная радость вдруг переполнила их и ожидание застыло в глазах.
Призывный звук вокзального колокола облетел перрон и подхлестнул людей.
Все засуетились: объятия, рукопожатия, поцелуи. Потом все заспешили к вагонам.
Проводница отыскала взглядом Нану и рукой подала ей знак.
Отъезжающие сгрудились у окон и оттуда возбужденно махали остающимся.
Четверо солидных мужчин с неуместной сейчас вежливостью уступали друг другу дорогу. Внезапно один из них заметил Нану Джандиери, которой они мешали пройти в вагон. Мужчина засуетился, остальные, не сразу поняв, в чем дело, недоуменно оглянулись и вдруг все разом со смешной церемонностью посторонились, едва не отдавив друг другу ноги. Потом четыре руки одновременно предлагают красавице помощь и так же согласно повисают в воздухе.
«Благодарю», – холодно говорит девушка и легко взбегает по ступенькам.
Ее раздражает внимание пожилых мужчин. Она прекрасно знает, что оно вовсе не является проявлением их воспитанности и культуры. И сознание этого неприятно саднит ей душу.
Девушка вошла в вагон и прижалась к окну, стараясь не помешать снующим взад-вперед пассажирам. Потом, когда жара сделалась невыносимой, она до конца опустила раму и облокотилась на нее.
Поезд нехотя тронулся. Возгласы, ритмичный перестук колес, говор пассажиров – все это слилось в сознании Наны в один сплошной, неразличимый гул. Она задумчиво смотрела на череду бегущих мимо окна огней, а все остальное теперь уже мало занимало ее.
«Ну и везет же тебе! Счастливчик!» – вдруг донеслась до ее слуха произнесенная с придыханием фраза.
Нана невольно оглянулась вправо.
Высокий плотный парень с астматическим дыханием, не сводя с нее глаз, многозначительно подмигнул своему другу, стоявшему тут же, у окна.
Нана Джандиери сочла ниже своего достоинства обратить внимание и на наглую фразу толстяка, и на самодовольную улыбку его щеголеватого соседа.
Поезд неспешно набирал скорость. Далеко позади остался вокзал с его праздничной суетой и гамом. Дробный перестук колес поглотил все остальные звуки.
А вот уже не видно и Батуми. Девушка посмотрела на часы. Дело шло к двенадцати, но спать еще никто не собирался. Пассажиры, переговариваясь и дымя сигаретами, стояли в коридоре.
Проводница медленно шла от купе к купе, отбирала у пассажиров билеты, тщательно распихивая их в карманчики кожаной планшетки. Закончив эту процедуру, она принялась раздавать холщовые мешочки с постельными принадлежностями.
Седой приземистый мужчина игривым тоном обратился к своему спутнику:
«Интересно, в каком купе она едет? Послушай, а вдруг в твоем, а?»
«Как же, привалит мне такое счастье, держи карман шире!»
«Черт, вот бы узнать, с кем она едет? Может, ее хахаль в купе дожидается, как будто и вовсе с ней незнаком. А завтра утречком в Тбилиси она шасть из вагона – и поминай, как звали».
«Что-то не похожа она на такую…»
«Э-э, много ты знаешь! Ты, брат, меня не учи. Они у меня как на ладони, эти самые современные девицы. (Пауза.) Как бы разведать, в каком она купе?!»
«А тебе-то какая разница? Если ей не по душе придется, мигом билет обменяет!»
«Ты так думаешь?» – всезнающе улыбается седой.
«Во всяком случае, все зависит от того, с кем она окажется в купе. Мы-то с тобой не в счет. Видишь, какой парень возле нее увивается!»
«Ради бога, не делай поспешных выводов. Еще неизвестно, кто таким девушкам больше по сердцу – хлюсты или солидные мужчины с тугим кошельком».
Видно, себя он как раз и причислял к тем самым солидным мужчинам с тугим кошельком.
Дверь купе открылась, и в коридор выглянула супруга седого.
«Я тебе уже постелила. Иди спать».
«Чего это ты так торопишься!» – возмутился седой.
«Хороша торопливость! Полночь на дворе!»
«Ну погоди еще немножко!»
Женщина сердито хлопнула дверью.
«Так в каком же она все-таки купе?»
«Сейчас уточню».
Поджарый мужчина, давно перешагнувший за пятьдесят, привычным движением поправил галстук и направился к противоположному концу вагона. По пути он заглядывает в каждое купе. Седой, приподнявшись на цыпочки, внимательно наблюдает за маневром товарища. Поджарый аккуратно прошел мимо девушки, вышел в тамбур, взял стакан и подставил его под кран с кнопкой. Нацедив полный стакан, он осторожно поднес к губам тепловатую жидкость и стал с брезгливостью глотать ее, то и дело поглядывая на девушку. Ветерок из открытого окна трепал ее красивые густые волосы, а она даже не поправляла хлеставшие ее по лицу прядки. Поджарый отпил еще пару глотков, поставил стакан на место и двинулся в обратный путь.
«Извините», – с подчеркнутой вежливостью проговорил он, осторожно обходя девушку.
Нана Джандиери даже не слышала вежливой реплики поджарого и по-прежнему глядела в лиловатую мглу, изредка расцвечиваемую неяркими огоньками. Мысли ее были далеко отсюда.
«Ну, как дела?» – еще издали шепотом спросил друга седой.
«Мне кажется, она вообще безбилетная!»
«Не может быть! Хотя, впрочем, вот почему она не отходит от окна!»
«Кто ее знает… Может, я и ошибаюсь».
«Вот так и собирается простоять до самого Тбилиси?»
«Проводница пристроит ее куда-нибудь».
«Эх, а это уж не моя забота, – машет рукой седой. – Спокойной ночи!»
«Спокойной ночи!» – отзывается поджарый и, окинув девушку грустным взглядом, покорно открывает дверь своего купе.
«А тот хлюст, видно, подкатывается к ней», – с сожалением подумал седой, глядя на оскалившееся во сне пухлое лицо своей благоверной.
Поезд остановился в Кобулети. И здесь на вокзале царит сутолока. На к международному никто больше не подходит.
Еще несколько минут, и вот уже Кобулети остался позади. На море виднеется ярко освещенный силуэт теплохода. Постепенно уменьшаясь, он медленно удаляется в черную мглу, нависшую над морем. Вокруг темень, лишь неяркий свет, падающий из окон поезда, высвечивает прибрежную полоску моря с золотистыми гребешками волн.
Нана Джандиери чувствует, что статный красивый парень рано или поздно обязательно заговорит с ней. Нана уже знает, что парня зовут Нугзаром – так обращался к нему его толстый приятель.
Парень молчаливо и упрямо смотрит в темноту едва угадываемого моря. Он уже достаточно красноречиво дал почувствовать всему вагону, что никому не позволит даже близко подойти к девушке, но и сам пока что не осмеливается на активные действия.
А у Наны Джандиери сжалось сердце в ожидании неприятного разговора. Она решила было перейти к другому окну, но, боясь выдать свои мысли, осталась на старом месте.
Внезапно за ее спиной распахнулась дверь купе.
«Нугзар, ты где спать будешь – внизу или наверху?» – спросил у парня приятель.
«Да мне все равно!» – безразлично бросает Нугзар. Он даже не обернулся и все так же глядит вдаль.
«Что ты сказал?» – Видно, за стуком колес и шумом ветра приятель не расслышал ответа Нугзара.
«Я говорю, что мне все равно!»
На сей раз он повернулся и оглядел весь коридор. В коридоре не было ни души, если не считать мужчины в спортивной пижаме, периодически выглядывавшего из своего купе.
Нугзар подумал, что пришла пора заговорить с девушкой. Но волнение сковало его, сердце учащенно билось. Нет, только не сейчас, надо переждать, решил он про себя и, успокоившись, вздохнул с облегчением. Потом достал из кармана сигарету и закурил.
Нугзар был высок и строен. Лицо его было, пожалуй, слишком красивым для мужчины. Некоторая слащавость придавала ему неприятное выражение, которое усугублялось нагловато-самоуверенным взглядом. Но теперь он с некоторым даже изумлением не мог понять, что с ним происходит: обычно бойкий язык не слушался его, он даже слово боялся вымолвить. Видно, сама обстановка, сопутствовавшая появлению девушки в вагоне, порядком обескуражила его. Он почувствовал, что каждый из его спутников, невзирая на возраст и внешность, был бы не прочь познакомиться с девушкой, поухаживать за ней, а то и провести всю ночь в приятной беседе в пустом вагонном коридоре. Но все разошлись по своим купе, как бы молчаливо признав безоговорочное его, Нугзара, превосходство. Лишь этот слабак со впалой грудью, видимо для вящей убедительности вырядившийся в спортивный костюм, все еще отирается в коридоре, курит и исподтишка подглядывает за молодой парой. Теперь главное – побороть смущение и завести разговор.