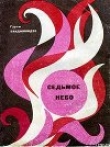Текст книги "Год активного солнца"
Автор книги: Гурам Панджикидзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 47 страниц)
ГОД АКТИВНОГО СОЛНЦА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Во сне я почувствовал, что кто-то стоит над головой и пристально смотрит на меня. Странное, пугающее чувство овладело мной. Медленно приоткрываю веки. Сначала в глаза бросается белизна полуразрушенной церкви, а потом бесформенная серая масса, приобретающая человеческие очертания.
Незнакомцу лет сорок пять, но по виду можно дать и больше. Так случается часто. Сельские жители здоровее городских, однако выражение их лиц намного опережает возраст. На левом плече незнакомца висит ружье, а мизинец левой руки покоится на кожаном ремне. В правой руке он держит сигарету и безмятежно затягивается.
Я не сразу понимаю, где нахожусь. Мое рассеянное, все еще затуманенное жарой и сном сознание, как сквозь объектив фотоаппарата, видит эту церковь, огромные стволы вязов, смутную фигуру, приобретающую человеческие очертания. Этот красивый, плывущий в июльском мареве пейзаж еще не раздражает ни единой клеточки моего мозга.
Обо всем этом я догадываюсь позже, когда туман постепенно рассеивается. А небритый незнакомец кажется продолжением бессюжетного, бесконечного сна, приснившегося мне наяву.
Пристальный взгляд этого человека и спугнул мой сон. А может, он и не смотрел на меня – просто стоял и ждал нашего пробуждения, кто знает… Но почему именно я почувствовал жжение двух лучей, пронизавших мое тело?
Я вижу полуразрушенную белую церковь.
Чувствую, как проясняется мое сознание. Сердце по-прежнему бьется еле слышно. И пульс замедлен. Но зато я отчетливо ощущаю, как переливается по жилам кровь.
Я посмотрел по сторонам. Дато и Гия спят как ни в чем не бывало.
Дато лежит навзничь, голова его покоится на узловатом корне вяза, красная разрисованная кепка наползла на самые глаза.
Гия, широко раскинув руки и ноги, уткнулся носом в землю. Левый глаз его слегка приоткрыт. Мной овладевает тревога, и я невольно ищу взглядом отверстие от пули на его спине…
Смотрю на часы. Скоро десять. Зевота сводит скулы – мы проспали целых два часа.
Лучи солнца не могут пробиться сквозь густую листву вяза.
Зато белая церковь, окруженная огромными вязами и кленами, сияет так ослепительно, словно кто-то собрал в огромную хрустальную линзу все солнечные лучи и направил их прямо на здание.
Мне кажется, что я даже вижу прозрачное пламя, возженное на куполе.
Взгляд мой снова возвращается к незнакомцу. На этот раз я смотрю ему прямо в глаза. И он, словно давно ждал этого, вполголоса здоровается со мной. Видно, боится разбудить Дато и Гию.
Незнакомец снимает с плеча ружье и осторожно кладет его на траву. Потом приседает на корточки и, опершись правой рукой о землю, устраивается напротив.
Я беззвучно отвечаю на приветствие. И тоже опираюсь руками о землю. Сначала я приподнимаюсь, а затем уже прислоняюсь спиной к вязу.
И снова зеваю.
Потом резко развожу руки в стороны и энергично потягиваюсь.
И улыбаюсь.
Улыбаюсь своему «энергичному потягиванию».
Шарю в карманах в поисках сигарет.
И не нахожу.
Незнакомец догадался, что я ищу. Он ловко выпростал из кармана потертой воинской гимнастерки пачку сигарет.
– Спасибо! – я опередил его, не дав ему встать.
Только теперь я увидел пачку «Мальборо», валявшуюся на траве. Видно, перед сном я не успел сунуть ее в карман. А может, просто положил рядышком, боясь смять в кармане?
Понимаю, что думать об этом глупо. Но меня раздражает другое – не стал ли я, часом, забывчив?
Вроде бы рановато. Ведь мне всего лишь тридцать четыре. Точнее, тридцать четыре года и девять месяцев. Все равно – тридцать четыре.
С чего бы это я стал считать месяцы? Мне еще долго быть тридцатичетырехлетним.
– На, закури! – говорю я незнакомцу и неловко бросаю пачку.
Он ловит ее с такой легкостью, что я уже начинаю сомневаться в своих предположениях о его возрасте.
Он внимательно рассматривает коробок. Его губы беззвучно шевелятся, пытаясь прочитать надпись. И английский тут ни при чем – видно, он вообще не умеет читать одними глазами.
Впрочем, ничего удивительного нет – стоит только взглянуть на его небритое, морщинистое лицо. Нет, не то. Морщинистое и небритое лицо еще ничего не означает. Главное в другом – узенький лоб и бездумные глаза, явно не перетруженные чтением книг.
Незнакомец упрямо рассматривает коробок и наконец осторожно несет сигарету к губам.
Я курю и по-прежнему шарю взглядом по спине Гии, отыскивая пулевое отверстие. И даже не одно – многоточие от автоматной очереди. Но на этот раз меня уже не тревожит его полуоткрытый глаз.
Незнакомец с сожалением возвращает мне коробок. Бросить его мне он, видимо, не осмелился. Он приподнялся, потом встал на колени. Теперь он запросто мог передать мне коробок из рук в руки, но и этого не позволил себе сделать. Он встал, подошел ко мне и с подчеркнутой вежливостью протянул сигареты. Затем снова уселся на место. Собственно, все это так и должно было произойти. И вежливость тут ни при чем. Просто он признал мое превосходство.
«Превосходство», – смеюсь я в душе. Точнее, горько улыбаюсь. А впрочем, и слово «горько» не совсем верно выражает то, что я хочу сказать. Вполне возможно, слова «иронично улыбаюсь» гораздо больше соответствуют тому, что я сейчас испытываю. В деревне, надо сказать, вообще очень просто признают превосходство другого. В данном случае было довольно и того, что незнакомец счел нас за горожан. Быть горожанином наверняка означает для него быть тбилисцем. Впрочем, чтобы признать наше превосходство, ему за глаза должно было хватить даже красной разрисованной кепки Дато, не говоря уже о моих американских сигаретах.
Я небрежно сую коробок в нагрудный кармашек рубашки.
Справа, метрах эдак в тридцати – сорока от нас в тени вяза отдыхают пятеро мужчин. Утром они косили траву.
Трое лежат навзничь и спят. Двое других, прислонившись, подобно мне, к стволу дерева, дремлют.
Удивительно, как вымахали здесь такие вязы и клены…
Церковь расположена в альпийской зоне, в двух километрах от селения. Два километра вроде бы не так уж и много, но кажется, что селение далеко внизу, гораздо ниже альпийских лугов.
Вокруг церкви переливаются зеленью покосы, тут и там разбросаны картофельные поля.
Повыше, за хребтом, покрытым зеленой травой, сияют серебром вершины Кавкасиони.
В округе не видать ни единого деревца, до самого селения не встретишь даже захудалого кустарника. Лишь вокруг церкви, словно по волшебству, взметнулись в небо могучие вязы и дубы вперемежку с кленами и ясенями.
В церковной ограде между деревьев виднеются старые могилы, густо поросшие бурьяном. Несколько могильных холмов еще сохранили следы человеческих рук, – видно, насыпаны они сравнительно недавно, года два-три назад.
Селение вполовину опустело, и чем дальше, тем реже Тревожат тишину причитания и плач.
Маленькая церквушка, возведенная из белого камня, неуклонно разрушалась. Купол, покрытый красной черепицей, провалился. Северная стена немилосердно осела. На остатках купола и в трещинах стены буйно разрослась трава. А над звонницей мощно навис клен, проникший сильными корнями в расселины: чувствуется, что между кленом и стеной разгорелась война не на живот, а на смерть, скоро обещающая закончиться победой дерева.
Я глубоко вдыхаю в легкие табачный дым.
Кашель сотрясает мое тело. С досады я резким щелчком выбрасываю сигарету подальше.
Мой кашель будит сначала Дато. Он резво садится, поправляет кепку и трет глаза.
Гия неторопливо поднимает голову и некоторое время смотрит в землю, потом переворачивается на спину, окидывает взглядом небо и блаженно потягивается. Он сразу заметил незнакомца, но даже не счел нужным хоть каким-то образом отреагировать на этот факт – закрыл глаза и снова заснул.
Воздух недвижим. На зеркальном небе ни облачка.
Жара. Немилосердно парит. Даже для середины июля непривычно жарко.
Сегодня воскресенье. По идее, мы пришли сюда половить рыбу.
Из лаборатории мы вышли в пять утра, но пока добрались до церквушки, прошло целых три часа.
Жара уже с утра показала свой норов. Мы решили слегка передохнуть в тени вязов. Я сразу понял, что на этом наша рыбалка кончилась, – впрочем, к этому все и шло. Как и когда мы заснули, не вспомнить. Но зачем я говорю за Гию и Дато? Это я не помню, как заснул.
Теперь рыбная ловля утеряла всякий смысл. Лучше вернуться в лабораторию. Отсюда километров десять, а то и больше. К тому же надо карабкаться в гору.
От этой мысли меня передергивает. Каково шагать десять километров по такой жарище! Уже одиннадцатый час. Солнце только-только набирает силу. А в жару и дорога кажется длинней.
Нет уж, лучше остаться здесь до вечера, поспать в тени деревьев. Надо было захватить с собой шахматы. К вечеру наверняка станет попрохладней.
Я зеваю.
Хочется курить, но вялость вконец овладела мной. Глаза закрываются, и нет никаких сил достать сигарету.
Резкость снова исчезла, словно кто-то невидимый нарочно крутанул рукоятку. Белая церковь подернулась пеленой, а незнакомец вновь превратился в серую бесформенную массу.
Я явственно чувствую, как пепельный туман вползает в складки мозга. Может, мне все померещилось? Может, по-прежнему тянется бессвязный и бесконечный сон?
– Что это у вас за ружье? – доносится издалека хрипловатый голос Дато.
Нет, это уже не сон. Открываю глаза. Дато и незнакомец стоят друг против друга.
– Да обыкновенное ружье, тулка!
– Можно взглянуть?
Дато отобрал у незнакомца ружье и сделал то, что обычно делают в таких случаях, – отогнул ствол и посмотрел в канал.
– Оно заржавело!
– На наш век хватит! – улыбнулся незнакомец.
– Покажи-ка мне! – говорю я и быстро встаю.
И я проделал то же, что минуту назад Дато, – отогнул ствол и посмотрел в канал.
– Видно, ты ленишься его чистить. Патроны есть?
Сонливость и вялость как рукой сняло.
– Патроны-то есть, но здесь стрелять не во что!
– Дай патрон, я в цель выстрелю. Поглядим, на что способен твой винчестер.
Гия открыл глаза и присел так, словно бы и не спал вовсе. Я знаю, что он терпеть не может оружия. Я стою к нему спиной и, естественно, не вижу его открытого, добродушного лица, но даже спиной ощущаю, нет, вижу страх, затаившийся в его глазах. С минуты на минуту я жду, что он скажет: да не связывайся ты с этой чертовой машинкой, но Гия медлит.
Незнакомец протягивает мне патрон.
– Какого калибра?
– Двенадцатого.
Я вставляю патрон в магазин, но ствол не защелкиваю. Стою и думаю, во что бы стрельнуть.
Незнакомец догадался, что ружье мне не в новинку. Я посмотрел на его небритое лицо и сразу уловил в нем вымученный вопрос: «Как, неужели ты собираешься стрелять здесь, в церковной ограде?»
Слово «ограда», здесь употребляют условно, подразумевая границы кладбища.
Пауза.
– Не стреляй здесь. В церковной ограде стрелять нельзя! – выдавил из себя незнакомец.
– Это почему же? Что, бог рассерчает? – улыбаюсь я, поглядывая на церковь.
– Да, бог рассерчает.
– Тогда давай выстрелим в этого самого бога!
Я вовсе не собирался палить по церкви. Но теперь мне вдруг захотелось подразнить незнакомца.
– Не надо, не делай этого. Все равно ружье не выстрелит.
В голосе незнакомца мне послышались страх и упрямая настойчивость.
– Что, испугался? – допытываюсь я.
– Мне-то бояться нечего. – Незнакомца бесит моя ироническая улыбка. – Не советую я тебе делать дурное, все едино ружье не выстрелит.
– Кто тебе сказал, что оно не выстрелит? – с издевкой спрашиваю я и чувствую, как глубоко отпечаталась в мозгу незнакомца моя насмешливая улыбка.
– Никто мне не говорил, я и сам знаю.
– Интересно – откуда?
– Многие пытались, но ружье не стреляло.
– Ты с чужих слов говоришь или сам видел?
– Видел своими глазами.
Я переглянулся с Дато и Гией.
Гия сидел, упершись руками в землю, и встревоженно смотрел на нас. Дато, нахлобучив кепи на самые глаза и прищурившись, с интересом ждал, чем все это кончится.
– В прошлом году, на пасху, один пьяный выхватил наган и попытался пальнуть по двери церкви. В-о-он в ту дверь! – незнакомец протянул руку к двери церкви, закрытой на ржавый замок.
– Ну и что же, не получилось?
– Трижды дал осечку, но выстрела не было.
– Наверное, наган был негодный или патрон отсырел?
– Но стоило ему отвести наган в сторону, как сразу раздался выстрел.
– Бывали и другие случаи?
– Я-то не видел, но сказывают, что бывали.
– А все же?
– Мой родной брат сам видел в нижнем селении. Один охотник в вербное воскресенье направил ружье на церковь.
– И конечно же не выстрелил, так?
– С первого раза нет.
– Так, значит, со второго раза все же выстрелил?
– Да, со второго раза удалось, но вечером, когда они возвращались восвояси, машина опрокинулась в ров. Из двадцати человек никто не пострадал. Лишь охотник скончался на месте.
– Тем более надо выстрелить.
Теперь уж я решительно поворачиваюсь к церкви, защелкиваю ствол и взвожу курок.
– И все же я советую тебе не стрелять.
На этот раз в его голосе послышалось отчаяние, а не гнев. Я резко повернулся и посмотрел ему прямо в глаза. И невольно вздрогнул, увидев в них страх и безнадежность. «Стрелять?» – заколебался я.
– Ты, случаем, не струсил? – слышу я голос Дато.
Я опомнился, но уловить насмешку в голосе Дато не успел. И подозрительно посмотрел на друга.
– Может, ты струсил, я спрашиваю? – улыбнулся Дато. – Мы, да и разве только мы, стремимся подтвердить в лаборатории материальность мира. А оказывается, все до смешного просто: один выстрел – и вот тебе ответ на все вопросы, над которыми бились десятки поколений ученых.
– Нодар, не надо. Выбрось ты этот патрон, – слышу я нервный голос Гии.
Это решило дело. Я приложил приклад к плечу и прицелился в дверь церкви.
– Я свое сказал! – с угрозой в голосе произнес незнакомец и сделал несколько шагов назад.
«А дальше пеняй на себя», – мысленно закончил я недоговоренную фразу и положил палец на спуск.
Я слышу биение собственного сердца. Неужели я и впрямь струсил? Нет, вряд ли это можно назвать страхом. Но как же тогда назвать ужасное чувство, которым, словно свинцом, налилось мое сердце?
Я осторожно касаюсь пальцем курка. А сердце так и норовит выскочить из груди.
На мгновение меня поразила воцарившаяся вокруг тишина, и я невольно обернулся.
Гия сидит в прежней позе, зажмурившись в ожидании выстрела.
Дато застыл с погасшей сигаретой во рту.
Незнакомец стоит вполоборота, стремясь не видеть выстрела, но тревожное любопытство не позволяет ему отвернуться полностью.
Из пяти крестьян, мирно дремавших в тени вяза, четверо встали и подошли совсем близко. Пятый остался на месте; стоя на коленях, он уставился на меня, выпучив глаза. У всех пятерых в глазах застыли страх и жгучее любопытство.
Пропало всякое желание стрелять, но на смену пришла злость: неужели я и впрямь боюсь? Чего? Чего бы мне бояться?! Глупости…
– Нодар, не надо!
Голос Гии доносится до меня издалека.
Но уже поздно. Прогрохотал выстрел. Его звук так поразил меня, словно я не ожидал, что ружье выстрелит. Я почувствовал боль в плече и лишь потом услышал, как эхо напоролось на окрестные скалы. Напоролось и тут же разлетелось вдребезги.
Стена церкви неожиданно заколебалась и разом рухнула. В небо взвились черные ласточки и летучие мыши. Развалины застила белая пыль.
Когда пыль осела, показалась покосившаяся звонница.
Я обернулся.
Все застыли в полном оцепенении. Гия и тот, пятый, коленопреклоненный, были уже на ногах.
Вдруг крестьяне в панике бросились врассыпную, словно кто-то невидимый дал сигнал к бегству. Один даже перекрестился на бегу.
Хозяин ружья оторопело перевел взгляд с меня на обрушившуюся церковь и обратно.
Я отогнул ствол и, стараясь сохранить на лице выражение беззаботности, вынул еще теплую гильзу. Потом подул в дуло, изгоняя из него остатки едкой гари. Защелкнув ствол, я протянул ружье хозяину.
– Ну что, убедился? Ружью твоему и бог нипочем! – улыбаясь говорю я.
Незнакомец в полной растерянности глядит на меня, видимо пытаясь разгадать, насколько естественна моя улыбка.
Кто знает, что он прочел в моих глазах. Может быть, сожаление, которое я и сам остро ощутил в эту минуту? А может, страх или… Не знаю, что еще. А может, он увидел тот скользкий, холодный камень, который лег мне на сердце, грозя придавить меня своей непомерной тяжестью?
Неожиданно его взор обратился на ружье. Только теперь я осознал, что уже целую минуту стою с ружьем на вытянутых руках.
Он выхватил у меня ружье, стремительно повернулся, на мгновение остановился у вяза и, обернувшись, упорно скрестил взгляд с моим взглядом. Потом он обеими руками взялся за ствол ружья и с размаху хватил прикладом о могучее тело дерева. Обломки с отвращением бросил наземь и быстро зашагал к деревне.
Я не могу оторвать взгляда от его фигуры, трусящей в покосах.
Я отчетливо вижу квадратный торс незнакомца, но мысли мои заняты другим. Я не хочу, чтобы Дато и Гия заметили мою растерянность. Я смотрю на мужчину, словно медведь переваливающегося в покосах, и соображаю, как вести себя дальше. Улыбнуться? А что сказать?
Наконец я поворачиваюсь и вижу свое лицо. Улыбка, застывшая на губах, совершенно не соответствует выражению моих глаз. Кажется, что улыбка вот-вот свалится с моих губ, как плохо закрепленная табличка со стены.
– Ну что, пошли прудить реку? – говорю я и чувствую в своем голосе фальшь.
Не время теперь заниматься рыбной ловлей. Глупости. Самое разумное завалиться в постель, закрыть глаза и ни о чем не думать, чтобы хоть на час от всего отрешиться.
– Нашел время рыбачить!
Это Гиин голос.
– Пойдем-ка лучше в лабораторию.
Эту бодрую фразу на этот раз произносит Дато.
Я не отвечаю. Возражать нет смысла. Еще через минуту я понимаю, что мы шагаем вверх по склону. Мое сознание не зафиксировало, когда я подчинился Гииному желанию и как мы пересекли кладбище.
Солнце безжалостно обрушивает на нас колючие лучи. Мы шагаем по колено в траве. Все вокруг высохло и вылиняло.
Вытаскиваю сигарету и останавливаюсь прикурить.
– Не бросай окурок или горящую спичку. Иначе не миновать пожара.
Это опять Гиин голос.
Я прикуриваю, тайком поглядывая на друзей.
А Дато совершенно другой. Я убежден, что он уже успел позабыть обвалившуюся церковь и омерзительный писк летучих мышей. Я уверен, что он уже не помнит ни о реке, ни о рыбалке. И мысли его витают вокруг камеры Вильсона либо вокруг пластинки, запечатлевшей искаженный след протона.
Вдруг раздался оглушительный грохот. Я оглянулся. Посреди кладбища, окруженного деревьями; вновь взметнулся белый столб известковой пыли. И вновь я ощутил на сердце огромный, скользкий, холодный камень. Сверху казалось, что кладбище с обступившими его деревьями дымится словно кратер.
Не знаю, сколько времени простояли мы так в оцепенении.
Наверное, столько, сколько требуется, чтобы выкурить одну сигарету. Этот мудрый вывод я сделал тогда, когда последняя затяжка обожгла пальцы.
Я бросил окурок на землю и надежно придавил его ногой. Потом снова посмотрел в сторону кладбища.
Пыль рассеялась. Покосившейся звонницы уже не было видно.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Кабинет отца.
Закинув ногу на ногу, я сижу в углу в кресле и курю. Пепельница покоится на широкой ручке старинного кресла.
Мой старший брат стоит у окна. В руках него дорогая зажигалка, которую он то зажигает, то гасит.
Меня раздражает его вызывающее, безмятежное и самодовольное лицо. Треск зажигалки еще больше выводит меня из себя.
Я всячески стараюсь сдержаться. Наконец он кладет зажигалку в карман и уходит в столовую.
А там накрыт торжественный стол. Чья-то искусная рука красиво и тщательно расставила дорогой сервиз, хрустальные бокалы, разложила тяжелые серебряные приборы с монограммами. Эта «рука» принадлежит нашей новой домработнице, точнее, домработнице моего отца, имени которой я не имею чести знать. Да и видел я ее всего раза два, не больше. Я ни словом не перекинулся с ней, разве что благодарил, когда она ставила передо мной очередное блюдо во время обеда.
По столовой нервно расхаживает мой брат.
Все вроде бы готово, но мой отец медлит с приглашением к столу. Может, мы кого-нибудь ждем? Я невольно пересчитываю стулья. Во главе стола, по обыкновению, стоит старинный резной стул с высокой спинкой – для отца. В конце стола, прямо напротив отца, как правило, садилась моя мать. Тарелки, вилки, ножи, стаканы, как и прежде, лежат на старом месте, как будто мама опять жива. Справа от отца всегда сидит мой старший брат со своей супругой, слева – я со своим младшим братом Резо.
Даже тогда, когда Вахтанг Геловани изволит явиться без жены, прибор для его супруги, точно так же как и прибор для моей умершей матери, стоит на своем месте.
Да, мы наверняка ожидаем кого-то. Слева от отца, там, где обычно сидим мы с Резо, стоит еще и третий стул.
Любопытство сразу зашевелилось во мне. Не скажу, чтобы я встревожился. Просто интересно, кто же приглашен на сегодняшний традиционный семейный обед?
Невольно смотрю на отца. Он сильно сдал за два последних года, но для своего возраста выглядит все же бодро. Обычно спокойное его лицо напряжено. Нетрудно догадаться, что мы действительно кого-то ждем. Если хорошенько присмотреться, нетрудно догадаться и о том, что отец волнуется: в его глазах затаился страх.
«Интересно, кто это должен прийти?» – сверлит мой мозг жгучее любопытство.
Во всяком случае, не должностное лицо, иначе стул непременно поставили бы рядом со стулом первого заместителя министра Вахтанга Геловани.
Отец всегда соблюдает иерархию.
Я не был дома целый месяц. Что такое один месяц? Вроде бы ничего, но родительский дом кажется мне чужим. Правда, вот уже два с половиной года я живу один, в своей однокомнатной квартире, но даже тогда, когда я жил здесь, все мне казалось чужим.
Почему?
Я почувствовал во рту горечь.
Помню, как я вернулся в Батуми после десятилетнего перерыва. Там все мне показалось родным, даже улицы, по которым я раньше никогда не ходил. Впрочем, какое это могло иметь значение? Ведь я любил Батуми, как живое существо, как человека.
Здесь же, в своем родном доме, все было мне чужим. И не то чтобы только сегодня, всю жизнь.
Резо взволнованно ходит взад-вперед, и даже в размеренные движения первого заместителя министра, а в недалеком будущем, наверное, министра, Вахтанга Геловани, вкралась нервозность. Они ждут не дождутся, когда наконец завершится традиционный семейный ритуал, столь значительный для моего отца и совершенно бессмысленный для нас.
Эту докучливую тишину и ожидание я переживал все же гораздо меньше других. Направляясь сюда, я уже заранее примирился с тягостной скучищей, ожидавшей меня здесь в течение трех-четырех часов. И теперь терпеливо ждал, когда же они пройдут.
Моего отца, заведующего кафедрой гидравлики Политехнического института, нельзя обвинить в отсутствии вкуса. В столовой, кабинете и спальне нет ничего лишнего, а все, что есть, – ценное и дорогое.
Взять хотя бы старинный сервиз, украшающий наш торжественный стол, и серебряные приборы с монограммами или эти тяжелые хрустальные бокалы…
Отцу нравится, когда у нашего застолья праздничный вид. Сколько я себя помню, мы постоянно завтракали, обедали и ужинали за столом, уставленным драгоценным сервизом.
Меня всегда раздражал и утомлял церемонный дух, витавший вокруг стола. К тому же отец никогда не появлялся к трапезе без галстука.
Он любит, когда мы соблюдаем ритуал, сложившийся на протяжении десятков лет. Как я уже говорил, он всегда восседал во главе стола, спиной к глухой стене и лицом к матери, занимавшей место на противоположном конце стола. Вот уже пять лет, как опустел мамин стул, но все эти пять лет он так и стоит на прежнем месте. Не могу припомнить случая, чтобы кто-нибудь уселся на него. Традиция не нарушалась даже тогда, когда к нам приходили нежданные гости и сидеть было не на чем.
Этот ритуал, а точнее, каприз отца всегда выводил меня из себя.
И тому была вполне понятная причина – ритуал этот казался мне бессмысленным и неискренним.
Возможно, я ошибаюсь, может, он и искренен, но привкус театральности, искусственности, фальши всегда сопутствовал ему. А что как не фальшь обессмысливает традицию.
Отец любил приобретать дорогие и редкие вещи, дешевых или простеньких вещей обнаружить в квартире невозможно. Чего стоят хотя бы эти громадные старинные часы, бой которых всегда рождал во мне чувство неизъяснимого наслаждения! Помню, в детстве стоило мне услышать звон часов, как я тут же прекращал буйные свои шалости. Их прекрасное звучание действовало на меня гораздо более благотворно и успокаивающе, нежели грозные окрики отца или истерические причитания матери.
Старинная, но отлично сохранившаяся мебель не утратила своей внушительности и благородства. Огромный сервант черного дерева с изящной и причудливой резьбой, громоздкие, но покойные кресла и диван, даже яркая китайская ваза, стоящая в углу, как наказанный ребенок, не бросались в глаза и не причиняли беспокойства. В столовой висят всего две картины. Одна – большая, натюрморт, другая – крошечная миниатюра.
Мелодичный бой часов. Уже два часа. Я даже не заметил, как закурил. Отец, стараясь не выказать волнения, нетерпеливо поглядывает на входную дверь.
Вообще-то говоря, люди отцовского возраста и профессии любят натуралистические картины. Чем больше рисунок приближается к натуре, тем большую ценность он для них имеет. Поэтому я не переставал удивляться отцовскому выбору – большая картина представляла собой вполне модернистский натюрморт.
Плоская ступка и три головки чеснока казались прикнопленными к полотну. Как отцу пришла в голову идея купить такую картину?
На миниатюре были изображены крыши старого Тбилиси. Лишь в самом центре рисунка виднелся балкон с резными перилами и кусочек двора. Думаю, что эта картина гораздо больше отвечала отцовским вкусам.
И рабочий кабинет выглядит вполне солидно. Книжные шкафы и стеллажи битком набиты книгами, но, несмотря на это, в комнате просторно и привольно.
Пол покрыт красным восточным ковром. Удивительно, но вызывающий красный фон совсем не режет глаз. Ковер пушист и мягок, но это чувствуешь только тогда, когда ступишь на него ногой.
Я часто замечал, что люди, впервые попадавшие в отцовский кабинет, обращали внимание на ковер, лишь ощутив под ногами необычайно пружинящий пол.
Для меня оставалось загадкой, почему они не замечали ковер сразу, как только входили в кабинет? Может, из-за поразительной гармонии цветов, скрадывавшей его кричащую красноту?
Впрочем, вряд ли.
Я, например, входя в отцовский кабинет, в первую очередь рассматриваю именно ковер. Но это происходит вовсе не потому, что его краснота бросается мне в глаза. Нет, просто такой уж рефлекс у меня выработался.
И все же мне кажется, что люди глухи к ковру по вине картины Пиросмани, висящей на противоположной входу стене кабинета. Она является эпицентром комнаты, невольно и без остатка притягивающим к себе внимание человека.
На картине изображены тощая корова и исхудавший крохотный малыш. А за ними виднеются небольшие и жесткие зеленоватые штрихи. Как похожи печальные коровьи глаза на огромные и еще более печальные глаза мальчика! Если присмотреться, глаза ребенка вовсе не так уж неестественны, как может показаться с первого взгляда. Просто худущее лицо и впавшие глазницы непомерно увеличивают их.
В детстве при виде этой картины у меня всегда сжималось сердце. Почему-то корову я жалел больше. Но теперь меня больше тревожит тощее коровье вымя, ибо я знаю, что эта корова – и отец, и мать, и кормилица большеглазого грустного малыша.
Картина висит так, что ее отлично видно из столовой, смежной с кабинетом. Обеденный стол стоит посреди столовой, и отец, сидящий во главе его, всегда может видеть картину – двери кабинета он намеренно оставляет открытыми.
По его словам, он купил картину Пиросмани по случаю в 1935 году. И никогда не забывает при этом добавить, что отдали ее ему за бесценок.
Для меня и сегодня загадка: так ли уж любит отец живопись – ну хотя бы эту картину Пиросмани?
Вообще-то он никогда не проявлял особой любви к искусству и ничего не видел, за исключением разве что репродукций и копий картин, пользующихся всеобщим признанием. Я убежден, что даже к ним он не испытывает ни малейшего интереса.
Так почему же он все-таки неравнодушен к картине Пиросмани? Понятия не имею. Впрочем, вы, пожалуйста, не думайте, что я слишком уж ломаю голову над причиной этой загадочной любви.
Я сижу к картине спиной и созерцаю столовую.
Я впервые вижу отца в таком волнении. Он молчит, но даже в этом молчании ощущается смятение и большая печаль.
Я опять курю. Не знаю – это все та же сигарета или, может, новая? Курит Резо. Дымит своим «Кентом» и Вахтанг Геловани. На белоснежных манжетах мерцают бриллиантовые запонки, Жарко, но его пиджак застегнут на все пуговицы. Щегольской галстук украшает дорогой костюм, сшитый по последней моде. Но июльская жара делает смешным его безупречный костюм.
Я плохо знаю своего отца, мы никогда не были духовно близки друг другу. Даже инстинктивная любовь, существующая обычно между детьми и отцами, видно, ослаблена в моем существе.
На то есть свои причины.
Отец никогда не был непосредственным. Его театральность, безмерная увлеченность ритуальностью и стремление сохранить дистанцию в отношениях с детьми, во всяком случае со мной, не давали возможности приблизиться к нему.
Вот и сейчас он театрально вышагивает по столовой. Мы уже давно вышли из-под его власти, и тем не менее он судорожно цепляется за роль главы семьи. Его желание наивно, но мой отец, профессор Георгий Геловани, по-прежнему энергично и упрямо стоит на своем.
Поздно. Может, он и сам догадывается о бессмысленности своего упрямства, но виду не показывает. А может, он просто не заметил, как утратил свои позиции в семье? Если это и вправду так, то уже слишком поздно что-то менять. Мы похожи на утят, которых дали высидеть курице. Стоило утятам дорваться до реки, как они тут же поплыли. И напрасны оказались квохтанье и кудахтанье чужой наседки.
Я не случайно стал описывать отцовскую картину, не случайно вспомнил отменный вкус отца. Не стану докучать описанием спальни. Скажу только, что маленькая карточка матери висит в изголовье отцовской кровати.
Однако увеличенный портрет моего покойного брата создает ощущение невыносимого излишества. Почему бы отцу и этот портрет не повесить в своей спальне? Почему он упорно навязывает свою печаль всей семье?
Наш старший брат скончался в восьмилетнем возрасте. В то время первому заместителю министра было три года, а я появился на этот свет два года спустя. О младшем же брате и говорить нечего.
Карточка мальчика с умными глазами за стеклами очков никогда не вызывала во мне ощущения, что он некогда был жив. Я родился после его смерти. И к тому времени, когда я пришел в этот мир, карточка уже два года висела там, где она висит и сейчас.