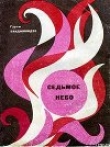Текст книги "Год активного солнца"
Автор книги: Гурам Панджикидзе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 47 страниц)
КАМЕНЬ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Дом, в котором живет Тамаз Яшвили, находится в Сололаках[1]1
Сололаки – район в Тбилиси.
[Закрыть], в самом конце узкой, темноватой улочки. Задняя стена его почти упирается в склон Мтацминды, а из фасадных окон открывается вид на весь Сололаки.
Спереди к этому старомодному особнячку с очень высокими потолками лепится дворик, где весной цветет сирень. Чтобы войти в дом, надо подняться по небольшой, всего в десять ступенек, каменной лестнице. Старинную, резную дверь украшает внушительная медная ручка. На поворот такого же старинного, большого ключа запор отзывается мелодичным звоном, тяжелая, дубовая дверь сама отворяется вовнутрь, и кажется, будто вы вступаете в таинственную пещеру.
Соседи суеверно косятся на этот дом и запрещают детям приближаться к нему.
Как передают, лет тридцать тому назад хозяина дома нашли повесившимся на массивной потолочной балке в кухне. В опустевший дом вскоре вселилась пожилая супружеская чета. Однако не прошло и года, как жена удавилась на той же балке. Муж срочно продал дом и куда-то переехал. Множество жильцов сменилось с той поры. Люди покупали дом, но не задерживались тут больше двух-трех месяцев. Стоило им узнать загадочную историю о двух удавленниках, как они старались побыстрее съехать отсюда.
Часто годами не удавалось продать дом, и стоял он заброшенный и мрачный, а глухие синие ставни придавали ему еще более угрюмый вид.
Так продолжалось довольно долго, пока дом не приобрел Тамаз Яшвили. Соседи сразу обратили внимание на хилого, воспитанного, но рассеянного и странного молодого человека в очках. Их любопытство подогревалось и тем, что Тамаз не покинул дом, узнав о двух самоубийствах.
Маленькая, вся в зеленых двориках улочка очень походила на деревенскую, Вечерами соседи выбирались на свежий воздух посудачить, но стоило показаться Тамазу Яшвили, как все замолкали и провожали взглядом симпатичного молодого человека в очках. Никто не нарушал молчания, пока он не скрывался за тяжелой дубовой дверью своего дома. А потом начинались сплетни чего только не говорили о новом жильце. Одни уверяли, что он очень одаренный математик и по окончании университета его оставили на кафедре. Другие утверждали, что он считает быстрее вычислительной машины. Толки еще более усилились, когда в газете действительно появилась статья о талантливом молодом ученом.
Назойливое любопытство соседей раздражало Тамаза Яшвили По утрам на улочке царила деловая суета проветривали постели, развешивали выстиранное белье, вели детей в школу, но едва Тамаз выходил на крыльцо, как все бросали дела, и он чувствовал, с каким интересом провожает его несколько пар глаз.
Все чего-то ждали. Сами не знали, чего именно, и все же упрямо ждали.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
– Вас просит профессор Тавзишвили! – Голос лаборантки вывел Тамаза из задумчивости. Он проводил девушку взглядом, медленно поднялся и направился в кабинет заместителя заведующего кафедрой.
«Интересно, что ему надо?» – недоумевал Тамаз. Он не помнил, чтобы профессор когда-нибудь вызывал его.
Давид Тавзишвили был тихим, честным и несколько трусливым человеком. Видимо, поэтому заведующий кафедрой и назначил его своим заместителем. Ни на одном собрании, ни по одному вопросу Тавзишвили не высказывал свое мнение, он либо соглашался с заведующим, профессором Нико Какабадзе, либо молчал. Даже тогда, когда заведующий находился в отпуске или в командировке, Тавзишвили никому не давал почувствовать, что он старший на кафедре. Никто не помнил, чтобы Тавзишвили повысил голос. Он всегда разговаривал тихо, немного растягивая слова. Вежливо, с раз и навсегда отработанной улыбкой здоровался со всеми, сначала произносил «Добрый день!» и, заметно повременив, приподнимал над головой серую шляпу.
Тамаз нерешительно приоткрыл дверь кабинета и остановился на пороге. Профессор был не один, рядом с ним, углубившись в бумаги, сидели двое доцентов.
На скрип двери все повернули головы и поглядели на Тамаза. На минуту наступила тишина, потом Тавзишвили жестом показал – проходи, присаживайся к столу. Тамаз сделал несколько шагов и придвинул простой деревянный стул.
За окном дождь лил как из ведра. Тяжелые, черные тучи низко висели над городом. Было сумрачно, но дневной свет еще скрадывал голубоватое сияние уже зажженных уличных фонарей.
В небольшом кабинете висели портреты Эйлера, Гаусса и Коши. На доске красного цвета кто-то вывел решение дифференциального уравнения. На маленьком, покрытом зеленым сукном столике рядом со столом профессора стояли телефон и приемник. По радио передавали «Реквием» Моцарта.
Тамаз Яшвили понял, что профессору сейчас не до него, и стал слушать музыку. Комната наполнилась изумительной мелодией и цифрами. Со всех сторон, кружась в ритме «Реквиема», слетались цифры, стаи цифр, и в каждой стае их было тысяча тысяч. Тамаз различал каждую цифру, любовался ими, цифры мешались, разбивались на группы, росли, возводились в квадраты, в кубы, в четвертые степени…
– Выключи, ради бога, сил моих нет! – неожиданно рассердился профессор, бросая на стол авторучку.
Один из доцентов встал и выключил радио.
Тамаз Яшвили очнулся и вспомнил, что находится в кабинете Тавзишвили. Безбрежное пространство снова сузилось до четырех стен. Еще отчетливей послышались раскаты грома и плеск дождя. Лило так, словно рушилось небо. И сквозь этот неистовый шум пробивались звуки «Реквиема». Волшебная мелодия доносилась из уличного репродуктора перед Дворцом спорта напротив Строительного института.
Странное чувство овладело Тамазом – ему стало жалко Моцарта, которого в такой ливень изгнали из кабинета на улицу.
Профессор взглянул на Тамаза, потупил голову, отодвинул тетради и снял очки. Тамаз понял, что Тавзишвили сейчас приступит к разговору. Профессор не спеша протирал очки рукой, и Тамаз заметил, что он намеренно делал это как можно медленнее, словно прикидывал в уме предстоящий разговор, намечал его последовательность. Наконец он надел очки и посмотрел на Тамаза. И оба доцента с любопытством воззрились на Яшвили.
Тавзишвили прокашлялся, постучал авторучкой по столу, не зная, видимо, с чего начать.
С улицы доносился плеск дождя. Молчание стало невыносимым.
– М-да! – произнес наконец профессор, упираясь взглядом в стол. – М-да!
Тамаз понял, что это «м-да» означает начало беседы, и приготовился слушать.
– М-да! – еще раз протянул Тавзишвили. – Ваш поступок, товарищ Яшвили, действительно не заслуживает одобрения. Да, не заслуживает… От вас, такого одаренного и деликатного молодого человека, я никак не ожидал подобного поведения. Думаю, и товарищи согласятся со мной, – Тавзишвили посмотрел на доцентов, – что вы поступили нехорошо.
Тамаз широко раскрыл глаза, такого вступления он в самом деле не ожидал. Он посмотрел на профессора, на доцентов, потом снова перевел на профессора удивленный взгляд и пожал плечами.
– М-да! Я вынужден выговаривать вам. – Профессор отводил глаза, стараясь не встречаться взглядом с Тамазом. Он мучился, понимая свою неправоту, не верил в то, что говорил, и горький пот прошиб его. – Вы еще очень молоды, а кафедра оказала вам полное доверие. Вам созданы все условия для исследовательской работы. Вы же поступили плохо, очень плохо…
Доценты кивали, словно одобряя слова профессора, но вместе с тем как бы сочувствуя и Тамазу Яшвили.
– Вы, без сомнения, очень способный человек. Это признают все. Лично я еще не встречал столь одаренного молодого человека. Вы способны за тридцать секунд разложить восьмизначное число на три куба и два квадрата. У вас большой талант, блестящее дарование, но это не математика, не наука. Это скорее эстрадный номер Счетно-решающее устройство совершает подобную операцию гораздо быстрее и точнее. Нет слов, у вас поистине редкий дар, но не все…
Профессор запнулся, потерял нить мысли. Все как будто было продумано заранее, но, стоило приступить к разговору, заготовленные фразы вылетели из головы, и он не знал, как перейти к главному. Принялся искать носовой платок. В левом кармане его не оказалось, в правом – тоже… Наконец он достал из пиджака аккуратно сложенный, новенький платок, развернул его и стал вытирать потный лоб. Потом снял очки, протер и глаза и снова надел очки.
– М-да, ваш поступок действительно нельзя одобрить, он заслуживает только порицания…
– Что заслуживает порицания? – не сумел скрыть удивления Тамаз.
Профессор вздрогнул. Он и сам прекрасно понимал, что был не прав, и терзался в душе. Наступила пауза. Тавзишвили глядел в стол и вертел в руках авторучку.
– Что я такого сделал?
– Вы прекрасно знаете, что́. – Профессор облегченно вздохнул, словно нащупал утерянную нить разговора, и проворно уцепился за нее, опасаясь, как бы снова не потерять. – Вы забываете, что талант еще не все, талант еще не наука. Наука есть знание сложное, комплексное знание, анализ огромного материала, многочисленных фактов и приведение их в единую систему. Вам еще надо много работать. А вы? Как вы ведете себя? Если так будет продолжаться, никто не станет помогать вам…
– Меня интересует, в чем я провинился и почему заслуживаю порицания? – твердил Тамаз.
– Вы обидели заведующего кафедрой, уважаемого Нико Какабадзе. – Профессор перевел дыхание – наконец-то он сказал все, что хотел.
– Заведующего кафедрой? – удивился Тамаз.
– Да, заведующего кафедрой. – Профессор снял очки, подышал на них, энергично протер. Теперь он мог перейти непосредственно к делу. – Вы его очень огорчили.
– Мне кажется, здесь какое-то недоразумение.
– Нет, дорогой мой, никакого недоразумения!
– Не понимаю, ничего не понимаю! – пожал плечами Тамаз.
– Что вы не понимаете? Бросьте ребячиться! Как будто не знаете, в чем дело.
– В самом деле не знаю! – искренне сказал Тамаз.
– Вспомните вчерашнее заседание нашей кафедры. Вы же выступали.
– Да, выступал. Точнее, не выступал, а меня попросили дать характеристику одному человеку.
– Ну, и?..
– Что ну и?
– Как вы охарактеризовали его? Лучше прекратим этот разговор, ничего хорошего из него не выйдет… Признайтесь, что виноваты, что допустили ошибку. Извинитесь перед товарищем Какабадзе. Скажите ему, что все вышло из-за вашей неопытности, может быть, он простит вас…
– За что меня прощать, почему я должен извиняться? – не выдержал Тамаз.
– Меня поражает ваше упрямство и наивность. Да я не знаю, как назвать ваше поведение. Вы хорошо помните, что говорили вчера?
– Прекрасно помню.
– И зачем вам понадобилось это?
– Как зачем? Меня попросили, я и сказал.
– Вы не хотите понять меня, милейший, да, не хотите! – помрачнел профессор. Он передвинул тетради на другой край стола, переставил чернильницу и как будто поудобнее устроился в кресле.
Тамаз Яшвили наблюдал за профессором и отчетливо видел, как дрожали его длинные, пухлые пальцы.
– На вчерашнем заседании вас просили охарактеризовать товарища Абутидзе, которого мы намеревались взять на кафедру ассистентом. Абутидзе ваш однокурсник. Естественно, что уважаемый Нико Какабадзе обратился именно к вам… – Профессор замолчал и поглядел на Тамаза с таким выражением, словно говорил – неужели и теперь до тебя не дошло, в чем дело?
– Я слушаю вас.
– Какую вы ему дали характеристику?
– Такую, какую он заслуживал. Я сказал правду. Чистую правду. Разве не вы читали ему аналитическую геометрию? Разве вам неизвестно, что Абутидзе не способен найти даже элементарного табличного интеграла? Разве я преувеличил или сказал не правду?
– Нет, неправды вы не говорили, но вместе с тем не нужно было говорить то, что вы сказали… – Тавзишвили снова замялся, и на лице его проступило такое выражение, словно где-то в груди или в брюшной полости он ощутил жуткую боль. – Вы же знали, что товарищ Какабадзе хочет взять его ассистентом…
– Во-первых, я этого не знал. Во-вторых, знай я это, ничего бы не изменилось, все равно бы сказал то, что сказал, потому что не умею лгать.
– Ах, молодой человек, молодой человек, вы очень, да, очень странный. Ваш талант сам по себе еще ничего не значит. Вам нужен человек, который выведет вас на дорогу. А вы этого не понимаете. Вы очень, очень странный.
Тавзишвили говорил искренне. Доценты по-прежнему безмолвствовали, только время от времени кивали, словно соглашаясь с профессором и одновременно сочувствуя Тамазу.
– Выходит, что я не должен был говорить правду?
– Правду, правду… – нервно повторил профессор и снова переложил тетради. – Вы пока еще не разбираетесь в жизни. Я лично уважаю вас, верю в ваш талант и хочу, чтобы у вас были условия для работы. Я надеялся, что вы раскаетесь и товарищ Какабадзе, возможно, простил бы ваш проступок.
– Как, батоно[2]2
Батоно – вежливая форма обращения.
[Закрыть] Давид, разве говорить правду – проступок?! С каких это пор правда вменяется в вину?
Профессор вздрогнул, багровое лицо его посерело, словно где-то внутри красный свет переключили на серый. У него не было опыта в беседах подобного рода, и он понял, что неправильно повел дело. Но иначе он не мог. Честность мешала ему прямо выполнить несправедливое поручение. Профессор мучился, боролся со своей совестью, но трусость не позволила отказать заведующему кафедрой, и он взялся за эту позорную, претившую ему миссию.
Тамаз Яшвили все понял и принял решение. Сейчас он только из вежливости слушал Тавзишвили. Ему было жалко смущенного и бледного профессора. Он отлично понимал, какого нервного напряжения стоит Тавзишвили этот дипломатический, столь неудачно обернувшийся разговор.
Тамаз невольно кинул взгляд на доску, присмотрелся к решению дифференциального уравнения первого порядка, написанного на ней. С подобными уравнениями он справлялся за несколько секунд. Сохраняя на лице выражение глубокого внимания и пропускай слова профессора мимо ушей, Яшвили прищурил один глаз и, применив постоянную вариацию, так называемый способ Лагранжа, мысленно вывел ответ и сравнил его с результатом на доске. Там было решено неверно.
– Я прямо ума не приложу, как вы поладите с заведующим, – развел руками Тавзишвили, завершая длинную и сумбурную беседу.
– Мне все ясно, профессор. Будьте добры, дайте лист бумаги, я сейчас же напишу заявление.
Профессор не ожидал, что Яшвили уступит так легко, и почувствовал угрызение совести. Собственная бесхребетность огорчала Тавзишвили. Он высоко ценил талант и способности Тамаза Яшвили и сейчас искренне сокрушался, что принял непосредственное участие в изгнании молодого ученого. Он переживал, что вынужден был плясать под чужую дудку, что трусость и робость помешали ему отказаться, что он не мог заступиться за этого честного и простодушного человека. Какое уж тут заступничество, когда ему прямо поручили избавиться от Яшвили без лишнего шума.
– Стоит ли?.. Может быть, вам лучше зайти к товарищу Какабадзе и переговорить с ним?
– К Какабадзе я не пойду. Прошу вас листок…
– Воля ваша, но я бы советовал… – Профессор пожал плечами, протягивая Тамазу лист бумаги.
Тамаз быстро написал заявление об уходе, положил его перед профессором, поднялся, поклонился всем и направился к двери. Перед доской он все-таки задержался, стер неправильный ответ, написал свой и вышел.
Тавзишвили посмотрел на доску, проверил в уме и вскоре убедился, что Тамаз прав. Тогда он снял очки, тем же платком отер со лба обильно выступивший пот и вздохнул:
– М-да, весьма своеобразный молодой человек…
Доценты, почтительно улыбаясь, склонили головы.
2
На улице уже стемнело. Дождь лил по-прежнему. Время от времени небо рассекалось зигзагами молний, и следом страшно гремел гром.
Тамаз открыл тяжелую дубовую дверь и остановился на маленькой площадке у входа в институт. Утром на чистом небе не было ни облачка, и он вышел из дому в одной рубашке, не предполагая, что погода так испортится. Дождь колотил по мокрому, серебристому под фонарями асфальту, и казалось, будто рыбешки бьются на каменной отмели.
Тамаз Яшвили пережидал дождь. На улице не было ни души. Он стоял у стены и не мог понять, что сейчас чувствует. Подав заявление об уходе, он словно гору свалил с плеч. Тамаз понимал, что рано или поздно это должно было случиться. Он не мог работать в институте. Постоянное общение со множеством разных по характеру людей утомляло и раздражало его. Но что будет дальше? Что делать дальше?
Незаметно пролетело полчаса. Вдруг он заметил легковую машину, стоящую у подъезда. Шофер спал, запрокинув голову на спинку сиденья.
«Когда она подъехала, почему я не замечал ее до сих пор?» – удивился Тамаз.
Только сейчас он обратил внимание, что по улице не ходят машины и вообще нет никакого движения. Непонятно, что происходило вокруг.
Послышался разговор. Тамаз обернулся и вздрогнул – в дверях показались заведующий кафедрой Нико Какабадзе, профессор Тавзишвили и те двое доцентов. Тамаз не знал, как их зовут, хотя они работали на одной кафедре с ним. Он не помнил имен и фамилий многих сотрудников, однако всех знал в лицо и со всеми учтиво здоровался. Память Тамаза и без того была перегружена именами, фамилиями и лицами студентов. Их имена и лица с первой встречи так прочно запечатлялись в его сознании, он мог даже сказать, кто из студентов рядом с кем сидел. Так же хорошо он помнил лица всех сотрудников, только не знал имен и фамилий, потому что деятельность их не интересовала его. И на заседаниях кафедры Тамаз держался особняком, никогда не выступал. Поначалу его поведение расценили как позу, но вскоре убедились, что Яшвили не был ни позером, ни выскочкой. И, словно разгадав характер этого странного молодого человека, ему не поручали ничего, кроме того, что имело непосредственное отношение к работе. И вот один-единственный раз его попросили высказать свое мнение, и выступление закончилось для него катастрофой. Привыкший к раболепству сотрудников Нико Какабадзе недолюбливал Тамаза, а после вчерашнего случая он понял, что им двоим на кафедре не ужиться.
Какабадзе сразу заметил стоящего у стены Тамаза, но сделал вид, будто не видит его, и, прикрыв голову портфелем, устремился к машине. Тавзишвили слегка растерялся, он не предполагал столкнуться здесь с Тамазом и на мгновение застыл на месте. Раскаянье и совесть снова шевельнулись в его душе.
– М-да! – буркнул он и поспешил за начальством.
Глухое урчание мотора присоединилось к шуму ливня.
Машина тронулась.
Тамаз посмотрел на небо – сплошные тучи. Темнота сгущалась. Стоять на месте было тоскливо, и, махнув рукой, он сбежал со ступенек.
Дождь прекратился внезапно. Тамаз даже не заметил, когда перестало лить, – он бежал и вдруг ощутил, что дождя нет. Удивленный, он поднял голову и увидел большую, необычно яркую, словно приблизившуюся к земле луну.
Долго шел он по безлюдным улицам.
«Интересно, который сейчас час?» – невольно заинтересовался он и взглянул на часы. Часы стояли. Он помахал рукой, поднес к уху – молчат. «Может быть, завод кончился?» Снял часы, завел до отказа, послушал – не тикают. Снова надел на руку. Тем временем он вышел к площади Ленина и посмотрел на здание горсовета – часы на башенке тоже не работали.
Тамаз миновал улицу Кирова, поднялся по Давиташвили и свернул в переулок.
«Какая страшная тишина, – подумал он, и сердце его сжалось. – Неужели весь город спит? Сколько же сейчас времени?»
Узкий переулок внезапно погрузился во мрак. Тамаз глянул на небо. Огромная черная туча медленно поглощала луну. Тамаз услышал стук собственного сердца, испугался чего-то и прибавил шагу. Он не мог понять, откуда взялось ощущение опасности.
Вдруг послышались чьи-то шаги. Сердце у Тамаза екнуло, он застыл на месте. Шум шагов тут же оборвался.
«Неужели я своих шагов испугался?» – подумал Тамаз и двинулся дальше.
Снова послышались шаги, будто кто-то крался за ним. Тамаз остановился. И шаги сразу умолкли. Боже мой, куда деться?! Он вышел на середину улицы и продолжил путь. Шум шагов слышался теперь спереди, словно кто-то обходил его. Только эти странные звуки нарушали глухую тишину переулка.
Тамаз Яшвили снова замер на месте. Шаги раздавались все отчетливей. Он уже различал цоканье подковок и чувствовал, как неотвратимо надвигается кто-то недобрый и вот-вот вцепится ему в горло. Хотелось повернуться, припустить вниз по улице – ноги не слушались. Может быть, это сон и он сейчас проснется?
Шум ботинок с подковками слышался совершенно отчетливо. Тамаз увидел, как в темноте обозначилась низкая, квадратная фигура. Вот она все больше принимает очертания человека. При виде Тамаза человек замедляет шаг, потом приближается к нему и спрашивает сиплым голосом:
– Спичек не найдется?
Тамаз облегченно перевел дыхание и достал зажигалку. В слабом свете огонька он ясно видит страшное лицо незнакомца, опухшее, в красных пятнах, ощеренный рот, гнилые, редкие зубы.
Незнакомец прикурил, искоса глянул на Тамаза и ухмыльнулся, как заговорщик:
– Что, испугался?
Потом приблизил лицо к уху Тамаза и словно по секрету доверительно просипел:
– А все оттого, что мы, люди, не доверяем друг другу!
Тамаз снова услышал жуткий ядовитый смешок…
Смолкли его шаги, и только тогда Тамаз заметил, что продолжает сжимать в кулаке горящую зажигалку. Он потушил ее, сунул в карман и двинулся дальше.
Страшная усталость навалилась на него.
3
Тамаз тяжело поднялся по каменной лестнице и достал большой ключ. В темноте с трудом отыскал замочную скважину. Руки тряслись. Медленно повернул ключ. Послышался таинственный мелодичный звон, и дубовая дверь медленно отворилась сама собой. Осторожно, будто боясь кого-то разбудить, Тамаз вошел в дом, запер дверь, нащупал выключатель в темноте вспыхнул яркий свет.
Дом Тамаза Яшвили состоял из комнаты, кухни и веранды. Комната была довольно просторной, но слишком высокий потолок лишал ее уюта. У одной стены стоял старинный резной буфет, у окна – такая же старинная, необъятная деревянная кровать. Остальные стены скрывали книжные полки. Книгами был завален и старый письменный стол на массивных ножках. В углу, против двери на веранду, стояло неуклюжее кресло с продранной кожей.
Тамаз сел в кресло, вытянул ноги, положил руки на подлокотники, откинулся на спинку и закрыл глаза. Перед ним возник страшный облик незнакомца, в ушах зазвучал сиплый смех и цокот подковок. Долго прогонял Тамаз наваждение.
«Интересно, сколько же сейчас времени?»
Он открыл глаза, взглянул на огромные часы в резном футляре, висевшие на противоположной стене между книжными полками. Часы стояли.
– Что за чертовщина! – ошарашенно пробормотал он, поднялся, принес стул и завел часы. Маятник застучал в тишине. Не зная, который час, Тамаз не стал подводить стрелки, снова устроился в кресле и закрыл глаза. Звонко отстукивали часы, тиканье постепенно усиливалось, потом все будто рухнуло – стены, дом, гора за домом провалились куда-то, открыв безбрежное серое небо. И на этом небе, на далеком горизонте, словно птицы, всполошенные выстрелом, поднялись несметные стаи цифр. В каждой стае их было несколько тысяч. Тамаз различал каждую, ласково следил за их полетом. А белые цифры все прибывали и прибывали. Они обгоняли друг друга, мешались, слетались в квадраты, в кубы, в десятые степени и уносились прочь…
Пот выступил на лбу Тамаза. Мозг его как будто дрожал от страшного напряжения, тысячи сложнейших вычислений производились в нем с быстротой молнии. Вот интегрирование тригонометрического дифференциала с нечетным числом одного из показателей… Иррациональный дифференциал с дробью, содержащей в себе неизвестные дробные степени… Трансцендентные функции… Бесконечно большие величины… Задачи усложнялись. Цифры и математические символы застили серое небо. Молниями вспыхивали графики, сверкали и меркли математические фигуры, похожие на скульптуры кубистов.
Потом все постепенно исчезло. Цифры куда-то улетели, изображения поблекли и расплылись. Сон сморил Тамаза. Стучали часы. Тамаз сквозь сон улавливал их хриплое тиканье. Оно становилось все громче и наконец превратилось в цоканье подковок, знакомое и страшное, постепенно приближающееся к нему.
Тамаз проснулся. Его знобило от холода. Он наскоро разобрал постель, лег и с головой укрылся одеялом.