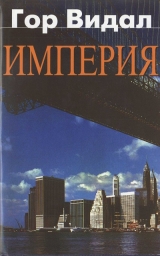
Текст книги "Империя"
Автор книги: Гор Видал
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 39 страниц)
– Тафт своей медлительностью крепко нас подвел. Мы могли получить все семь голосов выборщиков от Оклахомы. Но они явились с этой своей безумной конституцией – чистый социализм! – и Тафт сказал им, подождите, напишите новую, как будто кому-то есть какое-нибудь дело до конституции штата, а пока он дрожал от страха, появляется Брайан, расхваливает конституцию, и теперь они выбирают только демократов, в том числе и этого жулика Хаскелла. Западная мудрость довела их до того, что они прислали в Вашингтон слепого парня-сенатора[167]167
Имеется в виду Т. П. Гор, дед Гора Видала.
[Закрыть] и еще одного сенатора-индейца!
– Мне известна, сэр, ваша точка зрения относительно достоинств мертвого индейца, но я не понимаю, почему вы так ополчились на слепого?
– Против этого – да. – Президент дважды щелкнул зубами. – Популист и демагог… Ты читал про Хаскелла?
– Я все читал.
– Что собирается сделать Херст? Сломать нашу политическую систему?
– Если вы ставите вопрос таким образом, – да.
Рузвельт не принял этот правдивый, хотя и резкий ответ.
– У него есть мои письма? – Вопрос был внезапный. Президент, до этого стоявший к Блэзу спиной, повернулся. Яркие красные и желтые листья осени в окне за его спиной создавали впечатление, что он каким-то образом вклеился в витражное стекло.
– Сами по себе, насколько мне известно, они ничего собой не представляют. Но будучи интерпретированы…
– Он проинтерпретирует, не сомневаюсь. Вот, возьми. – Рузвельт передал Блэзу отпечатанное на машинке заявление.
– Напечатаешь завтра? Боюсь, это не эксклюзив. Я просил напечатать его по всей стране. Но ты сумеешь напечатать раньше Маклина из «Пост».
Блэз прочитал короткое заявление и подивился легкости, с которой лился этот бурный поток политического лицемерия. «Мистер Херст опубликовал интересную и важную переписку служащих „Стандард ойл“, особенно мистера Арчболда, с разными общественными деятелями. В прошлом я иногда критиковал мистера Херста, но этим своим последним деянием он оказал обществу важнейшую услугу, и я надеюсь, что он напечатает все письма, касающиеся этого дела и имеющиеся в его распоряжении. Если мистер Херст или кто-то еще располагает моими письмами, имеющими отношение к „Стандард ойл“, то я буду рад увидеть и их опубликованными».
Рузвельт извлек максимум из затруднительной ситуации, похвалив врага и попытавшись найти твердую почву посреди зыбучих песков. Какие же были истинные отношения Рузвельта со «Стандард ойл», задумался Блэз. Ясно, он не хочет, чтобы кое-что вылезло на свет божий; речь, вероятно, идет о сборе средств на выборы 1904 года. Хотя президент пытается выглядеть беспечным, он явно не в своей тарелке. Состояние, совершенно для него нехарактерное.
– Я напечатаю это завтра.
– Хорошо. Насколько я понимаю, ты поддерживаешь контакты с Херстом? – Блэз кивнул. – Когда в следующий раз будешь с ним говорить, скажи, что я хотел бы в ближайшее время поговорить с ним здесь, в Белом доме. Скажи ему, что есть другие… силы, они действуют, и он должен знать об этом.
– Ослепительная улыбка президента была столь же искусственна, как и его пенсне. Он проводил Блэза до двери.
2
Хотя Уильяма Рэндолфа Херста просили прибыть в Белый дом через южный подъезд, где входили и выходили частные посетители, великий человек приказал шоферу доставить его к главной подъездной дорожке у северного подъезда, чем поверг в полное смятение полицию. Медленно, как крупный медведь, которых отстреливал президент, призывая к сохранению животного мира, Херст вошел в главный вестибюль дома, который ему не суждено было занять, разве что посредством вооруженного восстания. Его с опаской встретил глава охраны.
– Скажите президенту, что я здесь. – Херст не удосужился себя назвать. Он снял и бросил пальто, не оглядываясь, в уверенности, что его поймают, прежде чем оно упадет на пол; так и случилось.
– Проходите сюда, мистер Херст. – Охранник провел Херста в западное крыло. Когда ему предложили подождать в комнате секретаря, Херст открыл дверь в пустую комнату заседаний кабинета и сел во главе стола. Секретарь промолчал, но был крайне шокирован.
Херст откинулся на спинку президентского кресла и закрыл глаза, как человек, уставший от праведных трудов. Он чувствовал себя как дома. Но недолго. Как всегда, появлению президента предшествовал шум.
– Рад видеть вас здесь! Привет! – президент появился в дверях комнаты. Херст открыл глаза и мрачно кивнул головой в знак приветствия. Какое-то мгновение казалось, что Рузвельт не знает, как быть дальше. Затем прикрыл за собой дверь. То, что должно было последовать, будет происходить без свидетелей.
Медленно и величественно Херст встал на ноги. Когда они обменивались рукопожатием, Херст намеренно потянул Рузвельта на себя, чтобы президенту пришлось задрать голову вверх рядом с человеком намного выше его ростом.
– Вы хотели меня видеть? – спросил Херст, словно оказывая честь младшему редактору.
– Разумеется. Разумеется. Нам нужно о многом поговорить. – Хотя Херст стоял между президентом и президентским креслом, низкорослый, но крепкий Рузвельт просто завладел им, оттеснив Херста в сторону. С королевским видом Рузвельт сел и снисходительно бросил:
– Садитесь сюда. Справа от меня. В кресло мистера Рута.
Херст ответил бесцветнейшей из своих улыбок.
– Боюсь заразиться, сев в кресло столь знаменитого лжеца.
Лицо Рузвельта побагровело, улыбка перешла в рык.
– Никогда не слышал, чтобы мистер Рут лгал.
– Значит, вы меньше общались с адвокатами, чем я предполагал. – Херст потянул к себе кресло от середины стола, сохраняя почтительное расстояние между собой и президентом.
– Рут говорил в Ютике от моего имени, – сказал Рузвельт прямо.
– Я и не думал, что он говорил, присягнув господу богу. Конечно он говорил от вашего имени, обвинив меня в убийстве Маккинли.
Разговор явно принимал не то направление, которое было желательно Рузвельту.
– Ваши газеты подстрекали и подстрекают к насилию и классовой ненависти. Станете отрицать?
– Я ничего не отрицаю и не утверждаю. Вы понимаете это? Я здесь по вашей просьбе, Рузвельт. Лично я не желал бы вас видеть нигде и никогда, если только, конечно, нам не суждено делить кров в аду. Поэтому должен вас предупредить, мне никто в моей стране не смеет задавать вопрос «станете ли вы отрицать».
– В вашей стране? – Рузвельтовский фальцет перешел в сладкозвучное контральто. – Когда вы ее приобрели?
– В тысяча восемьсот девяносто восьмом, когда устроил войну с Испанией и выиграл ее. Это было моих рук дело, не ваших. С тех пор страна идет примерно тем путем, какой я для нее наметил, и этим же путем шли и вы, обязаны были идти.
– Вы преувеличиваете свою значимость, мистер Херст.
– Вы ничего не понимаете, мистер Рузвельт.
– Вот что я понимаю. Вы, владелец – нет, нет, отец нации, не сумели добиться, чтобы демократы выдвинули вас в президенты даже в тот год, когда у них не было никаких шансов победить. Как вы это объясните?
Светлые глубоко посаженные глаза Херста смотрели прямо на Рузвельта; смотрели циклопически, угрожающе.
– Прежде всего я скажу, что нет никакой разницы, кто сидит в вашем кресле. Страной управляют тресты, как вы не устаете нам напоминать. Они купили все и всех, в том числе вас. Меня они не могут купить. Я богат. Я волен действовать так, как нахожу нужным, а вы – нет. В целом я иду с ними, чтобы держать народ в повиновении, пока. Я делаю это через свои газеты. А вы просто человек при должности. Скоро вы выкатитесь отсюда, и это будет ваш конец. А я буду продолжать, буду описывать мир, в котором мы живем и который станет таким, каким я укажу ему быть. И я буду здесь еще долго после того, как никто не вспомнит, чем вы отличались от Честера А. Артура. – На лице Херста мелькнула ледяная улыбка. – Но если люди и вспомнят, кто вы такой, это произойдет только потому, что я, быть может, решу им напомнить, как я вас создал, прежде всего на Кубе.
– Вы подняли четвертое сословие, мистер Херст, на высоту, прежде не слыханную…
– Я это знаю. На этот раз вы правы. Я сделал прессу выше всего остального, за исключением, может быть, денег, но, если даже говорить о деньгах, я обычно могу обеспечить подъем или падение рынка. Когда я организовал – выдумал, сказал бы я, – войну с Испанией, а вся она сплошной вымысел, я позаботился о том, чтобы завершилась она настоящей войной, и так и произошло. К лучшему или худшему, мы получили реальную империю от Карибов до берегов Китая. В ходе войны преуспела мелкая рыбешка, вроде вас и Дьюи. Боюсь, процесс вышел из-под контроля. Это никому не по силам. И я должен был смириться с тем фактом, что коль скоро началась война, то стали нужны и герои. И вот вы, прежде всего вы, засуетились, и я сказал своим редакторам: «О-кей, сотворите его». Вот так второсортный нью-йоркский политик погулял по Кеттл-хилл, слепой, как летучая мышь, и не более эффективный, превратился в военного героя. Но вы, конечно, знали, как этим воспользоваться. Отдаю вам должное. Вы, единственный из всех моих выдумок, спрыгнули со страниц «Джорнел» прямо в Белый дом. В отличие от этого болвана Дьюи, который так и остался на задворках и кончил тем, что ходит на Фултонский рынок покупать рыбу.
Херст откинулся в кресле, скрестив руки на затылке. Поднял глаза к вентилятору под потолком.
– Когда я увидел, на что способно мое изобретение, я тоже решил избраться. Я хотел помериться силами с людьми, которые владеют страной, – той самой, созданию которой я помогал, – и победить. Что ж, мне пришлось разделить обычную участь изобретателя. Меня отвергли и отвергают и боятся богатые, они любят вас. Я никогда не мог получить деньги у «Стандард ойл», как получили вы. Поэтому в конечном счете – нет, в самом ближнем счете – эти глупые выборы выигрывает тот, кто больше платит. Но вы и вам подобные не останетесь у власти надолго. Будущее за простыми людьми, их гораздо больше, чем вас…
– И чем вас. – Рузвельт посмотрел на портрет Линкольна на стене напротив, печальное лицо, смотрящее в пространство. – Что ж, мистер Херст, я знал о ваших издательских претензиях, но никогда не подозревал, что вы один выдумали нас всех.
– Не стал бы выражаться столь высокопарно, – мягко возразил Херст. – Я просто нарисовал страну, какой она фактически стала сегодня. Вряд ли это такая уж грандиозная работа, хотя вам бы следовало меня поблагодарить, потому что вы главный выигравший от того, что я сделал.
Рузвельт подвинул тома свода законов, лежавшие на столе.
– Что вы знаете обо мне и мистере Арчболде?
– «Стандард ойл» помогала финансировать вашу последнюю кампанию. Это все знают.
– У вас есть доказательства, что я просил денег?
– Просили Ханна, Куэй, Пенроуз. Вы только намекали.
– Мистер Арчболд – мой старый друг. – Рузвельт хотел сказать больше, но остановился.
В голосе Херста послышались мечтательные нотки.
– Я хочу кучу людей выгнать вон из общественной жизни. А вас хочу выставить лицемером.
Улыбка исчезла с лица Рузвельта, цвет лица стал нормальным, голос безразличным.
– Вам будет легко сделать это с такими, как Сибли и Хаскелл. Но со мной это не пройдет.
– Вы сражаетесь с трестами?
– По мере возможности.
– Вы когда-нибудь возвысили голос против многочисленных преступлений «Стандард ойл», против того ущерба, который они причиняют людям, не говоря об обществе в целом?
– Я много раз выступал против них, против злоупотреблений больших денег.
– Но что вы сделали, чтобы остановить «Стандард ойл»? Что вы сделали, кроме публичной трескотни и тайного получения от них денег?
– Вы еще увидите, – Рузвельт говорил совершенно спокойно. – В будущем году мы подаем на них в суд в штате Индиана…
– В будущем году! – Херст весело хлопнул рукой по столу. – Ну кто скажет, что это не моя страна? Я заставил вас, именно вас действовать против себе подобных. В связи с разоблачениями, которые я сделал в этом году, вы что-то предпримете в следующем. Вы никого не ведете за собой. Вы идете за мной, Рузвельт. – Херст встал, но Рузвельт, не давая себя переиграть, стремительным прыжком пружинной игрушки принял перпендикулярное положение, так что технически президент встал первым, заканчивая аудиенцию, как того требовал протокол.
У двери Херст первым коснулся дверной ручки.
– Пока вы в относительной безопасности.
– Я все думаю, – сказал Рузвельт мягко, – а вы?
– Это же мое сочинение, не так ли? Эта страна. Автор всегда в безопасности. А вот его персонажам надо быть начеку. Бывают, конечно, сюрпризы. Вот один. Когда вы останетесь без работы и вам нужны будут деньги, чтобы кормить семью, я найму вас писать для меня, как это делает Брайан. Я заплачу вам, сколько скажете.
Рузвельт блеснул ослепительнейшей из своих улыбок.
– Возможно я лицемер, мистер Херст, но я не подлец.
– Я знаю, – сказал Херст с напускной грустью. – Ведь это я вас выдумал.
– Мистер Херст, – сказал президент, – меня выдумала история, а не вы.
– Если вы хотите услышать нечто возвышенное, то в данное время и в данном месте я являюсь историей или по крайней мере ее летописцем.
– История приходит намного позже нас. Тогда и будет решено, соответствовали мы своему месту или нет, и будет вынесен приговор нашему величию или его отсутствию.
– Истинная история, – сказал Херст с улыбкой, которую на сей раз можно было назвать почти чарующей, – это сплошная выдумка. Я думал, что это знаете даже вы.
С этими словами Херст удалился, оставив президента одного в комнате заседаний кабинета с ее громадным столом, кожаными креслами и портретом Линкольна во весь рост, смотрящего куда-то вдаль, за пределы видимости, недоступные простому наблюдателю, как всегда пребывающему в растерянности.
От автора
Хотя исторические персонажи «Империи» основаны на общепризнанных фактах, я изменил время гибели Дела Хэя с полуночи на полдень. Последняя встреча Теодора Рузвельта и Уильяма Рэндолфа Херста действительно имела место в контексте истории с письмами Арчболда, но никто не знает, что было ими сказано. Мне хочется думать, что мой диалог воссоздает хотя бы то, что они думали друг о друге.
Гор Видал 18 марта 1987 года.
Сага о Золотом веке
(Авторское послесловие)
Мэри Маккарти некогда составила знаменитый список того, чего не должно быть в «серьезной» прозе; начинался он, кажется, с заката и заканчивался заседанием кабинета министров, где обсуждаются вопросы реальной политики. Значение имеют только брачные проблемы людей, принадлежащих к среднему классу, и неважно, происходит ли действие в пылком Балтиморе или кипящем страстями Торонто. Для тех, кому это скучно, остается литературная теория, с помощью которой даже Балтимор может быть разобран на составные части, и из этих первоэлементов и разбросанных в беспорядке слов можно попытаться собрать нечто, отвечающее модной в данный момент литературной теории.
Как вы догадались, я подступаюсь к своему жанру, потому что я всегда полагал, что история (вслед за чистым вымыслом – «Путешествиями Гулливера» или «Алисой в стране чудес») является единственной общеинтересной темой повествования; благодаря своим мифологическим корням она больше говорит о нас самих как – будем выражаться по-научному – генетических образованиях, чем любое зеркало, стоящее на тротуаре, с помощью которого можно видеть, как мы переходим на другую сторону улицы, подобно цыплятам из известного рассказа. Мысль о том, чтобы вставить историю в литературу или литературу в историю стала немодной со времен хотя бы Толстого. Нас стараются убедить, что в результате не получается ни литературы, ни истории. А вот рассказ о разводе автора с женой прошлым летом большинство считает истинным содержанием высокой – точнее, серьезной – прозы, общим человеческим опытом. Но ведь многим из нас тошно читать отчет некоего Брайана о том, как и почему он оставил Дорис вскоре после того как на его университетский семинар по структурализму записалась приехавшая по обмену студентка Соня. Но даже и эта унылая проза по сути своей историческая, потому что говорит о том, что имело место в действительности в недавнее время. И в самом деле, привнесение романа в историю вещь весьма обычная. Вторая мировая война это история, и десятки тысяч романов вплетены в ткань этой очень реальной войны. Если забыть на минутку теоретиков литературы, можно сказать, что практически не бывает текстов, существующих вне контекста.
Если говорить об американской истории, то мне выпала занятная участь вырасти в политической семье в столице страны, и я знал лично или через какие-то интересные связи (наша республика не намного старше меня, если к моему возрасту прибавить годы моего деда), какая политика привела ко Второй мировой войне, или даже, хотя для этого мне потребовалось стать историком, что стояло за нашим отделением от Англии. Я всегда знал, что рано или поздно использую этот материал. Но как?
В 1966 году я решил написать роман о том, как взрослеет молодой человек в Вашингтоне в годы великой депрессии, Нового курса, мировой войны и несчастной войны в Корее. От ранних триумфов Франклина Рузвельта до молодого сенатора, чем-то похожего на моего друга Дж. Ф. Кеннеди, от мировой империи 1945–1950 годов до государства национальной безопасности начала пятидесятых. Я использовал реальных персонажей, например, Рузвельта, но я не пытался проникнуть в его мысли: он дан в восприятии только вымышленных героев, действующих в контексте реальных событий. «Вашингтон, округ Колумбия» оказался довольно популярным романом, особенно на Капитолийском холме. Правда, один английский критик, не поверивший в мягкую доуотергейтскую коррупцию, о которой я рассказал, назвал меня «американским Светонием»; это мне не понравилось, потому что я не выдумал, а описал мир наших властителей. Зато американский рецензент посчитал, что роман больше смахивает на голливудский боевик, чем на серьезную прозу. Он уже тогда знал, что в серьезных романах нет места закатам солнца и заседаниям кабинета, что у серьезных людей не бывает дворецких и шоферов, а с президентами они не то что не ссорятся, но даже не бывают знакомы.
Часть столь милого сердцу фольклора моей родной страны состоит в том, что у нас нет классовой системы; это значит, что любое упоминание о ней романистом вызывает яростный, часто иррациональный гнев. Все-таки нашим учителям платят, чтобы они внушали нам, что мы – истинная демократия (не республика и уж, конечно, не олигархия), и в ряды нашей меритократии нетрудно пробиться, надо лишь хорошо готовить уроки.
Попытка отнюдь не в начале моей писательской карьеры сочинить «автобиографический» роман породила больше вопросов, чем дала ответов. Я никогда раньше не писал о себе, а история всегда отвлекала меня от воспитания чувств или чего-то еще. Уже в школе я понимал: если судить по тому, что мне довелось знать лично, история не только плохо преподается, но и серьезно искажается.
Почему бы не написать «истинную» историю, а потом, ради дополнительных точек зрения, вплести в нее вымышленных персонажей? В конце концов таков был главный поток западной литературы от Эсхила до Данте, Шекспира и Толстого и массы других повествователей от Скотта до Флобера.
Когда Бисмарк решил дать образование низшим классам, чтобы они могли обращаться со сложными машинами и оружием, интеллектуалы сразу поняли, с каким риском это связано. Если они научатся читать, не появятся ли у них всякие идеи? Неправильные идеи? Споры об образовании продолжались не одно поколение, в них включились все – от Милля до преподобного Мальтуса. Так или иначе, они научились читать. Что же они должны читать? Происходящее во дворцах – запретная тема, не должно быть и заседаний кабинета министров; с другой стороны, закаты очень красивы, а потому красивое и доброе и стало Серьезным романом, каким мы его знаем – поучительными историями, призванными научить низшие классы знать свое место, быть послушными работниками и радостными потребителями.
Великое усекновение предметов литературы, провозглашенное поколение назад Мэри Маккарти, живет уже долгое время. Популярный роман прошлого века в большей или меньшей степени представлял собою религиозный трактат, осуждающий нетерпение, неповиновение властям, необычное сексуальное поведение и заканчивался, как правило, свадьбой; институт брака был призван контролировать рабочих, чьи дети, заложники судьбы, заставляли бы своих родителей выполнять постылую работу. Неудивительно, что с такой силой век назад, подобно извержению вулкана, возник модернизм. Джойс, Малларме и Манн, каждый по-своему отказался взирать на мир с точки зрения (довольных своей судьбой?) изгоев общества. Модернизм осветил внутренний мир и человека, которому приснился новый язык, и гения, подобно жалкой бактерии покорившегося дьяволу.
Мне кажется, что идея моей страны как темы повествования была навеяна мне школьными учителями, которым платят, чтобы они прививали удобный взгляд на общество, которое, уничтожив аборигенов континента, более или менее счастливо уживалось с рабством, навязывая себе и другим, оказавшимся под его правлением племенам, лишенный всякого смысла монотеизм. И тем не менее я верил, что есть Американская идея (даже если это пресловутая «исключительность»), которую стоит сохранить, и я попытался проследить ее с 1776 года до ее окончательного погребения приблизительно в 1952 году, когда старую республику заменило нынешнее государство национальной безопасности, находящееся в состоянии непрерывной войны либо со слабейшим противником, либо с собственным народом.
Нечего и говорить, я ничего об этом не знал в 1966 году, когда писал «Вашингтон, округ Колумбия». Как оказалось, я начал с конца, и за исключением случаев, когда мои знания входили в противоречие с официальной версией, я верил тому, чему меня научили о моей стране. Следующая книга была по исторической хронологии первой, «Бэрр», в ней я воссоздал период с 1776 по 1836 год, поставив в центр повествования сардоническую личность вице-президента Аарона Бэрра, «первого джентльмена Соединенных Штатов», как его часто называли; при всей его непредсказуемости он был своего рода лордом Честерфильдом в мире набожных лицемеров.
Популярность этого романа среди узкого круга людей, добровольно читающих книги, явилась первым признаком того, что есть еще думающие люди, не удовлетворенные историей, которой их учили в школе. Я выдумал семью, глазами которой попытался воссоздать историю республики. Хотя я и выдумал незаконного сына Бэрра – Чарльза Скермерхорна Скайлера, он кажется мне теперь вполне реальной личностью. В романе «1876» после долгого пребывания в Европе он возвращается в Америку в качестве историка и журналиста, чтобы писать о столетии Соединенных Штатов; то был год, когда победитель президентских выборов был лишен победы с помощью федеральной армии. Иронии предостаточно, и Чарли чувствует себя как дома. Еще он старается выдать замуж овдовевшую дочь Эмму, и ценой некоторых потерь преуспевает в этом. В романе «Империя» появляется дочь Эммы Каролина Сэнфорд и ее сводный брат Блэз; выросшие во Франции, они жаждут успеха в Соединенных Штатах. Кумиром Блэза становится вполне реальный Уильям Рэндолф Херст, который открыл, что история – это прежде всего то, что пишется в популярных газетах. Эта сомнительная точка зрения близка сердцу Блэза, но Каролина его опережает, купив захудалую вашингтонскую газету и предавшись желтой журналистике.
Осведомленные рецензенты поспешили заметить, что в то время никакая женщина не могла этого сделать, но уже одно поколение спустя подруга нашей семьи Элеонора Паттерсон добилась именно этого, да еще с немалым успехом (ее неудачный брак с польским князем дал Эдит Уортон сюжет романа «Век невинности»).
В романе «Голливуд» Херст и Каролина решают, что будущее – за кинематографом, источником грез для всего мира. Каролина оставляет газету Блэзу, а сама ставит фильмы и снимается в них с куда большим успехом, чем Херст, вечно пытающийся стать президентом. Контекст, в котором действуют вымышленные герои, более чем реален: это Первая мировая война, Лига Наций, Вудро Вильсон, Уильям Дженнингс Брайан, Уоррен Гардинг, молодой, исполненный амбиций Франклин Рузвельт. У меня было очень странное чувство, когда я писал в «Голливуде» о юности многих людей, с которыми познакомился в их старости.
Теперь я переписал «Вашингтон, округ Колумбия», так сказать, суммирующий роман, чтобы увязать все линии повествования. Роман «Линкольн» стоит слегка особняком, там в качестве второстепенной фигуры возникает отец Каролины, но без Гражданской войны у нас вообще не было бы истории, поэтому рассказ о ней придает звучности реальным и вымышленным персонажам.
Не мне судить, что за узор возник на этом причудливом ковре. Лично я предпочитаю ущербную республику смертоносной империи, что возникла в 1898 году, и сейчас, когда я пишу эти строки, твердо установились милитаризованные экономика и общество, и этому не видно конца. Но я не судья, а зачарованный хроникер семьи, в чем-то похожей на мою собственную, и страны, ускользающая мистика которой всегда меня занимала, настолько, что я решил назвать эту серию романов «Сагой о Золотом веке, 1776–1952», вкладывая в это название известную долю иронии. Конечно, ни в какое время эти века не были для нас золотыми, но мы продолжали на это надеяться, пока, благодаря Вьетнаму, не поняли, что мы, как и все, находимся в историческом тупике, и наша республика каким-то образом сбилась с пути.
Я оставляю будущему автору, без сомнения еще не родившемуся, написать продолжение под названием «Что стало с Империей, 1952 —…?». Дату проставит он сам. Чем раньше он это сделает, тем лучше.[168]168
Гор Видал недавно признался, что он сейчас работает над заключительным томом своей американской саги, посвященной послевоенному пятилетию (1945–1950), и мы планируем тоже издать его в составе этой «Американской саги». – (Прим. перев.).
[Закрыть]
Гор Видал, 1993








