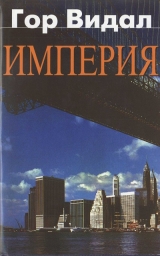
Текст книги "Империя"
Автор книги: Гор Видал
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц)
– Мой брат Блэз называет Теодора Рузвельта из военно-морского министерства. Блэз говорит, что Рузвельт[14]14
Рузвельт, Теодор (1858–1919) – 26-й президент США (1901–1909).
[Закрыть] действовал без ведома руководства.
– Вот это уже ближе к истине, – кивнул Адамс. – Нашему самоуверенному молодому другу Теодору, студенту моего самоуверенного младшего брата Брукса, принадлежит большая заслуга, чем, если пользоваться шахматным термином, ладье-адмиралу. Но чья рука направляла нашего ферзя – Теодора?
Ватага детей, предводительствуемых Мартой, заполнила комнату. Девочки окружили дядюшку Дорди (этим прозвищем Генри Адамса наградила Марта Камерон), его карманы, как обычно, оказались набиты леденцами, которые немедленно и безжалостно отобрала миссис Камерон.
– Ни в коем случае до обеда, Дорди! – объявила она, конфискуя конфеты из плотно сжатых детских кулачков.
Другие гости входили в гостиную без объявления дворецким, что весьма огорчало последнего. Но слово миссис Камерон было в летней резиденции посла непререкаемым. Разрешалось объявлять прибытие только официальных лиц. Остальные входили как бог на душу положит.
К удивлению Каролины, Адамс повернулся к ней и возобновил прерванный разговор.
– Во всех событиях, когда внезапно смещается мировой баланс сил, должен быть главный игрок, который рассчитывает ходы. Этот игрок направляет Теодора в военно-морское министерство, чтобы тот мог послать адмирала в Манилу, затем он отвечает на потопление «Мэна» серией ходов, которые приводят к почти бескровной войне, закату Испании как игрока мирового класса и рождению Соединенных Штатов как азиатской державы…
– Я заинтригована, мистер Адамс! Кто же этот главный игрок?
– Наш первый избранник судьбы после Линкольна – президент, кто же еще? Майор собственной персоной. Мистер Маккинли. Не смейтесь! – Адамс мрачно насупился. – Я знаю, что его считают креатурой Марка Ханны[15]15
Ханна, Маркус Алонсо (1837–1904) – политический деятель, сенатор США, политический босс республиканской партии при президентах Маккинли и Теодоре Рузвельте.
[Закрыть] и других боссов, но мне-то ясно, что дело обстоит совсем наоборот. Они собирают для него деньги – полезное занятие, – чтобы он создал для нас империю. Именно это он и сделал. А какой тонкий выбор момента! Ослабленная Англия выпускает мир из своих рук, Германия, Россия и Япония сцепились в схватке за место, которое занимала Англия, а Майор опережает их всех – и вот Тихий океан принадлежит нам! Или скоро будет принадлежать, и новыми силовыми полюсами станут Россия на Восточном континенте и Соединенные Штаты на Западном, и разделять их будет наконец-то зависимая от нас Англия! О, мисс Сэнфорд, быть молодым, как вы, и лицезреть наступление новой эпохи – нашего века Августа!
– Вы когда-то сказали мне в Париже, мистер Адамс, что вы извечный пессимист.
– То было на земле. А сейчас я в небесах, дорогая мисс Сэнфорд. Мой пессимизм выдохся, как, впрочем, и вся моя земная жизнь. – Кончики его усов загнулись кверху. Какой он маленький, подумала Каролина, этакая помесь ангела и дьяволенка.
Появился Дон Камерон, от которого разило виски, и коренастый лысый человек с бородкой – Генри Джеймс, он только что приехал из своего дома в Ржаном поле. Каролина была еще совсем маленькая, когда знаменитого писателя привез в Сен-Клу Поль Бурже. На нее произвел впечатление его чистый, без акцента, французский, ее заинтересовало и то, что у этого американца как будто два имени, но нет фамилии: Генри Джеймс. «Ну а дальше?» – спросила она отца. Полковник не знал, да и знать не хотел. Он недолюбливал литераторов, за исключением Поля Бурже, агрессивный снобизм которого импонировал полковнику Сэнфорду: «Книг его я осилить не в состоянии. Но он понимает le monde de la familie»[16]16
Что такое семейные отношения (фр.).
[Закрыть]. Когда полковник говорил что-нибудь по-французски, это всегда звучало ужасно, хотя у него был неплохой слух; он любил музыку, но не музыкантов. Он даже написал оперу о Марии Медичи, которую никто не хотел ставить, если он не возьмет на себя расходы. Но поскольку полковник принадлежал к людям, не способным потратить ни пенни для собственного удовольствия, опера так и не была поставлена при его жизни; впрочем, можно ли назвать это жизнью? Каролина поклялась себе, что не повторит отцовских ошибок.
Послышался громкий и резкий голос Дона Камерона:
– Но вы могли бы хоть попробовать!
– Но, мой дорогой сенатор, я уже изрядно омашинен. В своем Лэмб-хаусе я оснащен, как новейшая и современнейшая мануфактура, готовая к интенсивному производству, главный инженер которого безнадежно привязан к этой утонченной машине, что приводится в действие поистине виртуозным прикосновением к ее… – Голос Джеймса звучал глубоко и звучно, он исторгался из его широкой бочкообразной груди. В ней прячутся легкие певца, подумала Каролина, ему всегда хватало дыхания, сколь бы длинно закрученной ни была тирада.
– Вы никогда не пожалеете об этом, – настаивал Камерон. – Я знаю, сам ее испытал. Я не писатель, но уверен, что она изменит всю вашу жизнь.
– Ну это вы преувеличиваете! – начал было Джеймс.
– О чем это вы? – вмешался в разговор Адамс.
– Вам я уже показывал. – Маленькие, красные, подозрительные глазки смотрели теперь на Каролину. – Я продаю эту вещь, точнее, права для Европы. Исключительные права.
– Наш друг сенатор… – Каролина заметила, что прежде чем заговорить Генри Джеймс глубоко вобрал в легкие воздух; благодаря полковнику она знала уловки оперных певцов и другие оперные тайны, – … пребывая теперь в изгнании… нет, скрывшись в этом философическом убежище от сенатской суеты, обратил всю силу своего внимания на коммерческий объект, который он совершенно справедливо полагает для меня, более чем для кого-нибудь другого, исключительно полезным, да к тому же занимательным, но произведет ли сенатор в качестве распространителя… или, точнее, соблазнителя такое же впечатление на мисс Сэнфорд, какое он произвел на меня своим описанием, таким ярким и захватывающим, коммерческого объекта, название которого вы, мой дорогой Генри, хотите узнать, я не в состоянии без риска даже предположить. Mais еп tout cas[17]17
Но так или иначе (фр.).
[Закрыть], мадемуазель Сэнфорд, я не могу даже вообразить, что вы, владелица великолепного дворца Сен-Клу-ле-Дюк, проявите любопытство к изделию сенатора Камерона, любопытство истинное или притворное, вынужден я добавить, разве что…
– Но что, что это такое? – воскликнул Генри Адамс, не в силах более выносить нескончаемые фразы, обвивающие присутствующих наподобие Лаокооновых змей.
– Пишущая машина, которую я рекламирую, – сказал сенатор Камерон.
– Мне на мгновение показалось, что речь идет о домашней гильотине, – сказала Каролина.
– Гильотина для домашнего обихода? – переспросил Адамс и тут же ответил на свой вопрос. – Отличная идея! Нам пригодилась бы такая штука на Лафайет-сквер[18]18
Т. е. напротив Белого дома.
[Закрыть].
– Ну, если мистер Джеймс поддержит нас своим благожелательным отзывом… – начал сенатор Камерон.
– Но я повенчан, сенатор, с другой… Разрешите мне произнести для всех присутствующих достойное имя – я соединен уже почти в течение двух блаженных и счастливых лет с пишущей машиной «Ремингтон».
– И вы сами ею управляете? – Каролина не могла себе представить тучного Джеймса, стучащего своими короткими пальцами по клавишам машины.
– Нет, – сказал Генри Адамс. – Он прохаживается по оранжерее и нашептывает свои фразы на ухо пишущему машинисту, а тот переводит их на ремингтоновский язык.
– Который в своих лучших образцах очень похож на английский, – добавил Генри Джеймс, поблескивая глазами.
Каролина дала себе слово прочитать его книги. Кроме «Дейзи Миллер» (прочитать эту вещь была просто обязана каждая американка в Европе) Каролина не раскрыла еще ни одной книги человека, которого многие знающие американцы в Париже называли Мастером.
– Я вам все равно привезу образец, – обиженно сказал Камерон. – Пусть ваш машинист его испытает. Эти новинки могут принести целое состояние. А где же Лиззи?
Никто не знал. В комнате ее не было. Когда Камерон пробирался сквозь сбившихся в кучу детей, Эдди низко поклонился сенатору, но тот его даже не заметил.
– Наш друг Дон очень настойчив, – произнес Генри Адамс дружелюбным тоном, чего нельзя было сказать о выражении его лица. От Каролины не укрылось, что Джеймс это заметил.
– Очень тяжело, должно быть, потерять место в сенате, после того как столько лет находился в центре событий, – с несвойственным ему сомнением в голосе сказал Джеймс.
– Ну, я думаю, он не тужит. Богат, владеет собственностью в Южной Каролине…
– Лиззи или Доне, как вы ее называете, вероятно, тяжелее. – Джеймс пристально всматривался в лицо Адамса.
– Она была не вполне здорова, – безучастно и даже равнодушно сказал Адамс. – Вот почему мы с Доном образовали синдикат и сняли на лето это имение, которое объединило всех нас.
– Насколько я могу судить, у нее цветущий вид.
От ответа Генри Адамса избавил дворецкий, которому наконец удалось проявить себя во всем блеске. Длинный и неестественно прямой, с мертвенно-бледным лицом Бич, застыв в дверях, громким басом торжественно объявил:
– Его превосходительство посол Соединенных Штатов Америки Джон Хэй с супругой.
– Вероятно, мне следует прокричать троекратное «ура», – сказал Генри Джеймс, – и как можно громче.
– Не надо, – возразил Адамс.
Хэи были странной парой. Он – маленький, худой, бородатый, с лицом, которое издали казалось мальчишеским, а вблизи сморщенным и словно обтянутым желтой замшей. Как и другие, он носил острую бородку и густую шевелюру с пробором посередине. Волосы подкрашены в унылый каштановый цвет, как у его жены, женщины высокой и крупной, с широким лицом; она казалась еще более крупной и внушительной рядом с мужем. В ее лице Каролина различала черты Дела; удивительно, что кроме вздернутого носа в нем не было ничего от отца. Хэй протянул руку Джеймсу, с которым они были старые друзья.
– Кстати, когда мне потребовался работодатель по эту сторону океана, – сказал Джеймс, из всех присутствующих обращаясь к Каролине, – то было четверть века назад, мир тогда был моложе и мы были молоды вместе с ним, если позволить себе чисто диккенсовское стилевое излишество, именно Хэй, бывший тогда редактором «Нью-Йорк трибюн», один бог знает какими ухищрениями убедил эту достойную газету воспользоваться моими услугами в качестве своего бесполезного парижского корреспондента.
– Мой самый умный поступок. – У Хэя оказался низкий звучный голос и чисто американский акцент, показавшийся Каролине на этот раз удивительно приятным. – Теперь же вы стали великим, и ваш бюст, наряду с Цицероновым, украшает мой кабинет. Адамс часто вас сравнивает; оригиналы, разумеется, не бюсты. Каждый раз, заходя ко мне, он придумывает нечто новенькое на эту тему.
Дел уже рассказывал Каролине об удивительном жилище Хэя – Адамса в Вашингтоне. Они дружили еще со времен Гражданской войны; их жены тоже были симпатичны друг другу, что Каролина находила непостижимым и сказала об этом Делу, немало смутив его невинную душу. Уехав из Кливленда, штат Огайо, где Хэй сначала работал на своего тестя, а потом стал его компаньоном, Хэи перебрались в Вашингтон, главным образом из-за Генри Адамса, который поселился там, как он объяснил Каролине, повинуясь закону природы, гласящему, что Адамсы всегда тяготеют к столицам. Поскольку ему не суждено было стать президентом подобно двум своим предкам, он решил по крайней мере обосноваться напротив Белого дома, где столь плачевно правили оба Адамса, и там, поблизости от своего фамильного дома, он имел возможность писать, предаваться размышлениям и с помощью закулисных манипуляций даже влиять на ход истории.
Со временем Хэй и Адамс построили дом на две семьи на Лафайет-сквер, здание из красного кирпича в романском стиле, известное Каролине по фотографиям; Делу еще предстояло познакомить ее с внутренними покоями. Хотя обе части дома физически составляли единое целое, они не соединялись между собой внутренней дверью. В этом общем доме Хэй дописал нескончаемое жизнеописание Линкольна, а Адамс создал большую часть своего труда о правлении Джефферсона[19]19
Джефферсон, Томас (1743–1826) – 3-й президент США (1801–1809).
[Закрыть] и Мэдисона[20]20
Мэдисон, Джеймс (1751–1836) – 4-й президент США (1809–1817).
[Закрыть], продемонстрировав, по словам Хэя, что Адамсы, впрочем, редко упоминаемые в тексте, почти никогда не ошибались, – в отличие от своих оппонентов Джефферсона, Мэдисона и этого злодея Эндрю Джексона[21]21
Джексон, Эндрю (1767–1845) – 7-й президент США (1829–1837).
[Закрыть], чья статуя в центре Лафайет-сквер всегда маячила перед глазами Генри Адамса; он изо всех сил старался не замечать этот малоприятный символ политического крушения своего деда, не говоря уже об американской республике. Разве не с Джексона началась эпоха политической коррупции, которая пышно цветет до сих пор? Но несмотря на миазмы коррупции, два богатых историка жили бок о бок в согласии, воздействуя на события разнообразными тончайшими инструментами; среди этих инструментов не последним был сенатор Дон Камерон, наследственный владыка Пенсильвании. Когда Линкольн однажды поинтересовался, будет ли воровать отец Дона, Саймон Камерон, если он назначит его военным министром, пенсильванский коллега Саймона сказал президенту, что докрасна раскаленную печку он, пожалуй, не украдет. Когда эти слова дошли до ушей Саймона, он потребовал извинений. Конгрессмен согласился признать свою неправоту, заявив: «Поверь, я отнюдь не утверждал, что ты не украдешь раскаленную печку».
Когда Хэй перебрался в романскую крепость напротив Белого дома, его карьера, казалось, подошла к концу. Но затем политический барометр снова показал на Огайо, этому штату в очередной раз суждено было дать Америке президента; кандидатом стал губернатор штата Уильям Маккинли, по прозвищу Майор. Ветеран Гражданской войны и долгие годы член палаты представителей, Майор поклялся в вечной верности покровительственному тарифу, этому символу веры истинных республиканцев, чем привлек к себе благосклонное внимание партийных боссов и торговых магнатов. Маккинли был в их глазах безукоризненным кандидатом. Он был беден, следовательно, честен; красноречив, но без оригинальных идей, следовательно, безопасен; предан своей жене-эпилептичке, которая всегда сидела за столом с ним рядом, и как только у нее начинались конвульсии, он тотчас накидывал ей на голову салфетку и продолжал разговор, как будто ничего не случилось; когда конвульсии проходили, он убирал салфетку и жена возобновляла прерванный обед. Хотя миссис Маккинли в целом не была идеалом в качестве потенциальной Первой леди, ее нездоровье и преданность мужа вызывали отклик в бесчисленных сентиментальных душах.
К несчастью, Маккинли разорился на самом старте избирательной кампании. Из дружеских чувств он поставил свою подпись на долговом поручительстве на 140 тысяч долларов, которое друг оказался не в состоянии оплатить. Кампания Маккинли едва не кончилась, так и не начавшись, что сулило победу на выборах так называемому мальчику-оратору с берегов реки Платт, огнедышащему популисту и врагу богачей Уильяму Дженнингсу Брайану[22]22
Брайан, Уильям Дженнингс (1860–1925) – политический деятель, государственный секретарь США (1913–1915). Три раза был кандидатом демократической партии на пост президента и все три раза потерпел поражение на выборах (1896, 1900 и 1908).
[Закрыть]. Но поскольку в случае победы Брайана даже луна покраснела бы от крови новой гражданской войны, менеджер кампании Маккинли, богатый бакалейщик по имени Марк Ханна обратился к другим столь же богатым людям, в том числе и к Хэю, с просьбой оплатить поручительство и спасти луну от грозившей ей печальной участи. Майора переполняло чувство благодарности. Хэй, которого обошли с назначением на высокий дипломатический пост при прошлом президенте, поскольку считалось, что его «назначение лишено политического смысла», теперь оказался в фаворе у нового лидера из Огайо, поселившегося напротив, через дорогу.
Майор назначил Хэя послом при Сент-Джеймсском дворе; Хэй приехал в Лондон год назад в сопровождении Генри Адамса, чей отец, дед и прадед занимали когда-то этот пост. В Саутхемптоне посла и его спутников встречал Генри Джеймс, всегда державшийся в стороне от политики, околополитических кругов и просто знаменитостей. Но на сей раз, проявив неожиданную лояльность, он появился в таможне, немедленно атакованный международной прессой. Понаблюдав, с каким мастерством Хэй обращается с цветом британской журналистики и ее колючками, Джеймс прошептал на ухо Хэю, но так, что его услышали многие: «Как вы терпите всех этих насекомых, что мельтешат вокруг и говорят вам гадости?» – «Этого человека я впервые вижу», – с комичной суровостью сказал Хэй, садясь в поджидающий его экипаж.
– Так или иначе, – подытожил Дел свой рассказ Каролине, – фирма Хэя – Адамса процветает с тех пор, как они поселились в своем общем доме.
Каролина чувствовала, что здесь не обошлось без умолчания.
– Но ведь с самого начала были две дружеские семейные пары?
– Да. Мои родители и супруги Адамсы.
– Что же стало с миссис Адамс?
– Мариан умерла еще до того, как они поселились в этом доме. Это была милая миниатюрная женщина – вот то немногое, что я помню. Говорят, она была блистательна и умна для женщины. Увлекалась фотографией, сама проявляла и печатала. Была очень талантлива. У нее было ласковое прозвище Кленовый листочек.
– Отчего она умерла?
В глазах Дела Каролина прочитала сомнение. В самом деле, можно ли ей доверять? И до какой степени? Впрочем, он наверняка знает только то, что знают другие, подумала она.
– Она покончила с собой. Выпила реактив. Адамс нашел ее лежащей на полу. Это была мучительная смерть.
– Почему она так сделала? – спросила Каролина, но не получила ответа.
Гости потянулись в столовую, выходившую окнами на юг, откуда открывался роскошный вид на Кентский Уильд. Миссис Камерон подбежала к Хэю.
– Он приехал! Говорит, что вы его пригласили.
– Кто? – спросил Хэй.
– Мистер Остин[23]23
Остин, Альфред (1835–1913) – английский поэт.
[Закрыть]. Наш сосед и ваш поклонник.
– Боже, – пробормотал Хэй. – Он думает, что я тоже поэт.
– Но вы же со всем триумфом были… – начал Джеймс.
– Скажите Остину, что тут ошибка. – Однако дворецкому никто ничего не успел сказать.
– Всеанглийский поэт-лауреат Альфред Остин с супругой! – возгласил Бич.
– Какая радость! – воскликнул Хэй нарочито громко, чтобы все могли его слышать и оценить, и поспешил навстречу самому скучному, по мнению многих, английскому поэту.
Каролина сидела за столом между Делом и Генри Джеймсом. Столовая была самой приятной из всех парадных комнат старого дома, и миссис Камерон умело управлялась здесь со всеми – с детьми, подростками, государственными деятелями, а сейчас и с бесцветным поэтом, увенчанным королевскими наградами.
– У мистера Остина сложилось впечатление, что наш друг Хэй является американским поэтом-лауреатом, – сказал Джеймс, отдавая должное палтусу в сметане. Напротив него маленькая девочка Керзон фыркнула на свою гувернантку, вероятно, что-то ей несправедливо запретившую.
– Отец уверяет Остина, что не написал ни строчки с тех пор, как…
Как низкая громовая струна органа, зазвучал голос Джеймса, вырывающийся из набитого палтусом рта:
Спасти от гибели дитя,
Взрастить его без жалоб и без стонов,
Клянусь, почетнее стократ,
Чем праздность у подножья Трона.
Половина присутствующих зааплодировала четверостишию. Голос Джеймса звучал на редкость завораживающе.
– Это произведение всегда казалось мне удивительно трогательным, хотя и не вполне тактичным с точки зрения богословов, – сказал поэт-лауреат.
– Я стыжусь этих строк, – сконфуженно произнес Хэй.
– То же самое, должно быть, чувствовал Данте, когда цитировали «Ад», – улыбнулся Адамс.
– Скажут мне, что это такое, наконец? – прошептала Каролина Делу, но у Джеймса был великолепный слух.
– «Короткие штанишки», – возгласил он, – поучительный рассказ, нет, эпос о четырехлетнем мальчике, спасенном после катастрофы некоего деревенского средства передвижения, как выясняется, столь рискованно приводимого в движение лошадьми, злосчастного средства передвижения сомнительной ценности, которое можно, пожалуй, назвать…
– Коляской? – предположила Каролина.
– Вот именно. – Джеймс ликовал. Подали жареную дичь, что еще больше подняло его настроение. – Маленький мальчик, которого Адамс предпочел бы назвать «дитя», хотя для Адамса дитя – это любая незамужняя девица, в том числе собственная племянница, это дитя по имени Короткие штанишки, – голос Джеймса снова гулко вибрировал, и Каролина заметила, как передернуло Хэя, и даже Дел откашлялся, собираясь перекрыть неумолимый голос Джеймса, – по всей вероятности, это сельское дитя, оставленное без присмотра, упало с движущейся повозки и было спасено сельским героем, который пожертвовал своей жизнью ради сей пары коротких штанишек, то есть их содержимого, и за этот благородный подвиг, несмотря на не вполне порядочную и даже греховную земную жизнь, попал в рай.
– Церковь до сих пор недовольна папиным стихотворением. – Дел попытался переменить тему разговора.
– Но стихотворение разошлось в виде памфлета в миллионах экземпляров, – сказал Джеймс, выковыривая застрявший между передними зубами кусочек дичи. – Точно так же, как и более позднее и, пожалуй, более глубокое стихотворение «Джим Бладсоу», знаменитейшая баллада вашего папеньки, герой которой отдал свою жизнь ради спасения пассажиров, находившихся на борту на сей раз водного средства передвижения, «Красотки прерий». Озабоченность Хэя трудностями передвижения в Америке весьма характерна для семидесятых годов. Так или иначе, эта движимая паром посудина взорвалась, если мне не изменяет память, на середине некой бурной американской реки, предоставив тем самым нашему герою возможность отдать свою жизнь за бесчисленные детские штанишки, не говоря уже о других деталях туалета, в том числе юных дам, короче, всех пассажиров, обеспечив себе тем самым прямую дорогу в рай на том демократическом основании, а прочнее этого основания не придумаешь, что «Иисус не может быть жестоким к тому, кто людям отдал жизнь свою». – Голос Джеймса стал драматически замирать и на сей раз его не слышал, наверное, никто, кроме Каролины. Слева от нее Дел беседовал с Абигейл Адамс, одной из всамделишных племянниц Генри Адамса, крупной простоватой девушкой, покинувшей недавно женский монастырь в Париже.
За дичью с неумолимой последовательностью подали вареное мясо; разговоры в столовой то становились громче, то затихали; Генри Джеймс сказал Каролине, что он и в самом деле знал ее деда.
– Это было в семьдесят шестом. – Он пустился в подробности. – Я тогда принял решение удалиться в добровольное изгнание в Европу, подобно Чарльзу Скермерхорну Скайлеру, который принял такое же решение тридцатью годами раньше. Он всегда меня интриговал, и я написал очень благожелательную рецензию для «Нейшн» на его книгу «Париж под коммунарами». Я до сих пор словно вижу его ясным летним днем на зеленом берегу Гудзона где-то к северу от Райнклифа, за нашими спинами белеют колонны особняка Ливингстона, отделанного коричневой штукатуркой, и мы говорим о том, что некоторым просто необходимо жить по эту сторону Атлантики, вдали от нашей огазеченной демократии.
– Моя мать была с ним?
Джеймс посмотрел на нее через плечо и обильно сдобрил вареное мясо хреном.
– Мало сказать: была! Княгиня Агрижентская. Можно ли ее забыть? Вы очень на нее похожи, я уже говорил вам это в Сен-Клу.
– Но у меня не такие темные волосы.
– Пожалуй.
Джеймс разговорился с другой своей соседкой, Элис Хэй; она была похожа на отца – миниатюрная, сообразительная, остроумная и к тому же хорошенькая. Хотя Каролина не испытывала особой симпатии ни к одной из сестер Дела, она не имела ничего против их общества, особенно общества Элен, которая сидела сейчас напротив нее, рядом со Спенсером Эдди, и излучала обаяние не по летам зрелой женщины. Как и мать, это была девушка крупная, с лучистыми глазами и копной натурально блестящих волос.
Внезапно послышался голос сенатора Камерона:
– А это что еще такое? – Он сидел во главе стола, как и полагалось мужу хозяйки дома. В руке он держал серебряный черпак, с которого свисала клейкая медузообразная масса.
– Сюрприз, – ответила миссис Камерон с другого конца стола. Малышка Керзон залилась слезами: слово «сюрприз» вызвало у нее неприятные ассоциации.
– Я спрашиваю, что это такое? – Маленькие злые глаза сенатора смотрели в упор на дворецкого.
– Это… кукуруза, сэр. Из Америки, сэр.
– Это не кукуруза. Что это за дрянь?
Из-за лаковой ширмы, отделявшей буфетную от столовой, появилась повариха, точно актриса, ждавшая за кулисами нужную реплику для выхода на сцену.
– Это кукуруза, сэр. Вы велели ее приготовить. Вареная. Надо было оставить семечки?
– О, Дон! – расхохоталась миссис Камерон; ее смех оказался самым натуральным из всех звуков в драматически накаленной атмосфере дома. – Это арбуз. Она решила, что это и есть кукуруза. – В раскатах общего хохота, смеялись все, кроме сенатора, повариха исчезла.
– Отец размышляет над тем, как удержать Филиппины, – сказал Дел. – Он говорит, что Майор изменил свою точку зрения. Но решение далось ему нелегко. Все те люди, которые выступали против захвата нами Гавайев прошлым летом, снова подняли головы. Не понимаю, почему. Если мы не возьмем то, что выпустила из рук Англия, кто же это сделает?
– А это так важно? – Каролиной тоже овладела военная лихорадка, хотя она и не видела в войне большого смысла. К чему изгонять бедную и слабую старушку Испанию из Карибского моря и Тихого океана? Зачем захватывать далекие колонии? Зачем столько хвастаться? Другое дело Наполеон: он ей импонировал, потому что хотел завладеть всем миром, а Маккинли мир не очень-то волновал. В отличие от друга хозяев дома, которого они все с непроизвольным оскалом зубов называли, четко разделяя слоги, Те-о-до-ром, сумевшим под огнем повести своих друзей на штурм какой-то возвышенности на Кубе и не разбить при этом пенсне. Шум в газетах вокруг полковника Теодора Рузвельта и его так называемых «лихих всадников» был ничуть не меньшим, чем вокруг адмирала Дьюи, который потопил испанский флот на Тихом океане и захватил Манилу. По причинам, непонятным Каролине, газеты считали «Тедди» из них двоих куда более великим героем. Вот почему вопрос «А это так важно?» был отнюдь не праздным.
Дел заговорил об опасностях, грозящих миру, если германский кайзер, чей флот даже сейчас бороздит филиппинские воды, вознамерится захватить богатый архипелаг, чтобы осуществить извечную мечту любой европейской державы, не говоря уже о Японии, – расчленить распадающуюся китайскую империю.
– У нас нет выбора. А присутствие Испании в Западном полушарии – сущий анахронизм. Мы должны стать хозяевами в собственном доме.
– Разве все Западное полушарие, в том числе и Тьерра-дель-Фуэго, – наш дом?
– Ты все время смеешься надо мной. Давай лучше поговорим о парижском театре…
– Я предпочитаю другую тему для разговора: мужчины и женщины. – Каролине вдруг почудилось, что на нее снизошло некое озарение и ей открылась вся правда о взаимоотношениях враждующих полов. То, что ей было известно о различиях между полами, оставалось за семью печатями для любой молодой американки. Конечно, они обладали социальной свободой, немыслимой во Франции, но были на редкость ограничены в других существенных смыслах, и это невежество лелеялось заботливыми мамашами, которые сами мало что понимали в извечных происках райского змия.
– Но что мы можем сказать о мужчинах и женщинах? – На лице Дела было написано изумление; он покраснел отнюдь не только от августовского зноя и плотной еды.
– Я вижу по крайней мере одно различие. Во всяком случае, между американцами и американками. Мистер Джеймс назвал Америку «огазеченной демократией».
– Джефферсон когда-то сказал, что, если бы ему пришлось выбирать между правительством без газет или газетами без правительства, он бы выбрал газеты…
– Как это глупо! – Увидев, однако, что Дела обидели ее слова (он, очевидно, был всецело на стороне мудреца из Монтиселло[24]24
Монтиселло – имение президента Т. Джефферсона в штате Вирджиния.
[Закрыть]), Каролина поправилась: – Я не имела в виду, что он был глуп. Он считал глупцами своих собеседников. Видимо, это были журналисты, не правда ли? Ведь если бы они не были журналистами, откуда узнали бы мы, что он говорил, или мог сказать, или не сказал? Но вернемся к мужчинам и женщинам. Нас, женщин, вполне справедливо критикуют за то, что мы думаем и, того хуже, говорим только о замужестве и детях, о людях, с которыми нам повседневно приходится иметь дело, об уюте для наших мужей, семей и прочее, а это значит, что с годами мы становимся все скучнее и скучнее, потому что в конце концов нам остается лишь думать и болтать о самих себе и мы превращаемся, если не были ими с самого начала, в беспросветных зануд. – Каролина осталась очень довольна своей тирадой.
Но Дел был не на шутку озадачен.
– Теперь я знаю, какие вы. А каковы мужчины?
– Мужчины не такие. Они занудны по-своему. Благодаря газетам.
– Ты хочешь сказать, что мужчины читают газеты, а женщины нет?
– Вот именно. Большинство мужчин, которых мы знаем, страстные читатели газет, чего не скажешь о большинстве женщин. Во всяком случае, они не читают политические и военные новости. И слово-то какое забавное – новости! Поэтому, когда мужчины часами рассказывают друг другу, что они вычитали утром о Китае, или Кубе, или … о Тьерра-дель-Фуэго, о политике и о деньгах, мы чувствуем себя лишними, потому что именно этого мы и не знаем.
– Но вы могли бы с легкостью…
– А зачем? У нас своя скука, у вас – своя. И ваша – ужасна. Блэз рассказывал мне, что практически все, публикуемое Херстом, неправда, в том числе и история о том, как испанцы взорвали «Мэн». Но вы, мужчины, читающие «Джорнел» или подобные газеты, действуете так, будто все вами прочитанное – правда. Но что еще хуже, для вас не имеет значения, правда это или нет, для вас важен сам факт, что это напечатано. Вот почему мы лишние. Потому что мы знаем: для нас все это несущественно.
– Согласен, газеты не всегда пишут правду, но если дураки полагают, что это правда или возможная правда, то напечатанное становится важным для всех: ведь правительства действуют именно откликаясь на новости.
– Что ж, тем хуже для глупых мужчин, и женщин, конечно, тоже.
Дел выдавил из себя улыбку.
– А что бы делала ты, если бы могла изменить положение вещей?
– Читала бы «Морнинг джорнел», – быстро ответила Каролина. – Всю, целиком.
– И верила бы?
– Нет, конечно. Но я могла бы беседовать с мужчинами о Тьерра-дель-Фуэго и мировом балансе сил.
– Я бы предпочел поболтать о парижских театрах… о свадьбе. – Полные щеки Дела залились краской, узкий лоб остался белым, как слоновая кость.
– То есть ты превратишься в женщину, а я в мужчину? – Каролина улыбнулась. – Нет. Это непорядок. Нас с рождения разделяют эти ужасные газеты, которые внушают вам, что думать, а нам, что и когда носить. И нам никогда не сойтись.
– И все же стоит попробовать. В конце концов, всегда существует нечто возвышенное посередине, – сказал Генри Джеймс, который прислушивался к их разговору; на тарелке перед ним лежали руины искусной пудинговой конструкции.
– Где же оно и что это такое? – Каролина повернулась и пристально посмотрела в его поблескивающие, умные глаза.








