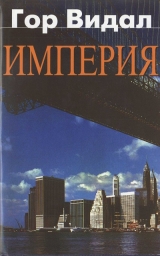
Текст книги "Империя"
Автор книги: Гор Видал
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
– Не знаю. Не думаю. – Блэз не был до конца уверен в своих отношениях с Шефом. В принципе он был кредитором. Он предпочел бы роль инвестора, но Херст никому не давал возможности купить хотя бы часть одной из своих газет. Как бы небрежен с деньгами ни был Херст, он всегда возвращал Блэзу долги с процентами. Тем временем Блэз осваивал газетный бизнес и освоил его даже лучше самого Херста, потому что воспринимал этот бизнес сам по себе, в отличие от Херста, для которого газеты просто были средством достижения куда более важной цели: он хотел стать президентом в 1904 году, а затем, без сомнения, установить бонапартистскую диктатуру и короноваться.
Хотя Блэз был начисто лишен политических амбиций, ему нравилась власть, какую приносило издание газет. Издатель мог создавать и уничтожать местных, да, пожалуй, не только местных деятелей. Блэз также наблюдал, как Каролина достигла того, чего хотел достичь он, и приходил от этого в бешенство. Ее очень серьезно воспринимали в Вашингтоне, потому что ее газету читали и она уже не теряла на ее издании денег. Нелепым образом он сам вынудил ее стать тем, кем он хотел быть. Ирония делала эту ситуацию абсолютно невыносимой. Не раз он думал отдать Каролине ее наследство в обмен на «Трибюн»; но такой обмен будет равнозначен признанию, что она в конце концов победила. К тому же он вовсе не был уверен, что она пойдет на такую сделку. Через несколько лет она не только войдет во владение наследством, но и сохранит газету, не говоря уже о том, что получит себе в мужья секретаря президента, а он, Блэз, так и останется в херстовской тени с кошельком, который все менее нужен, потому что золото из обеих Дакот рекой течет на банковский счет Фебы Херст. На углу отеля Блэз дал себе клятву, что он купит балтиморскую газету, несмотря на якобы лежащее на ней проклятие. Пора начинать самостоятельную жизнь.
– Думаю, что я провел в Йеле лучшие годы моей жизни. – Двадцатичетырехлетний Пейн был в ностальгическом настроении. – Что может быть лучше, чем грести за команду Йеля в Хенли, даже когда я был запасным.
– Ну я уверен, что-нибудь еще будет хорошее в следующие пятьдесят лет.
– Конечно, я тоже в этом уверен. Но понимаешь, я тогда буду стариком. А здесь я был молод. – Эту грустную речь внезапно прервали молодые люди, гурьбой вывалившиеся на улицу из подъезда отеля. Блэза и Пейна прижали к стене. К удивлению Блэза, среди них была Каролина, сжимавшая в правой руке пустой бокал из-под шампанского, точно намеревалась произнести тост.
– Каролина! – крикнул Блэз. Но если она его и слышала, то не обратила никакого внимания и нырнула в толпу молодых людей, сгрудившихся на тротуаре около торговца мороженым. Со стороны могло показаться, что эти молодые люди, как средневековые фанатики, одержимы страстью если не к богу, то к мороженому. Но когда Блэз и Пейн подбежали ближе, они увидели, что торговец бросил источник своего существования и присоединился к образовавшемуся кругу, из центра которого раздался вдруг душераздирающий вопль, от которого у Блэза похолодела кровь в жилах. Он никогда не слышал даже, чтобы Каролина плакала, не говоря уже о том, чтобы кричала, как раненый зверь.
Блэз протиснулся в центр круга и увидел Каролину, стоявшую на коленях и все еще сжимавшую пустой бокал и держа его так, словно боялась пролить содержимое. Перед ней на спине, как комичная кукла, широко раскинув руки в стороны, лежал Дел Хэй.
Каролина дотронулась до его лица незанятой рукой; рот Дела был открыт, из его уголка кровь сбегала вниз, к подбородку, а серые глаза внимательно смотрели вверх на его бывших друзей.
– Назад! Назад! – раздался чей-то властный голос. Никто не послушался.
– Каролина, – прошептал Блэз ей в ухо; не взглянув на него, она протянула ему бокал.
– Он упал с третьего этажа, – сказала она. – Он сидел на подоконнике открытого окна и, разговаривая, вдруг наклонился назад и упал.
Блэз помог ей подняться. Толпа образовала проход для двух полицейских, которые недоуменно смотрели на распростертую на тротуаре фигуру. Затем один из них присел на корточки и попробовал пульс на правом запястье Дела. Рука откинулась, открыв золотой перстень без камня.
– Мой перстень, – сказала Каролина. Блэз никогда еще не видел ее такой собранной – или безумной – от шока. – Опал исчез.
Пока полицейские осматривали Дела, пытаясь обнаружить в нем признаки жизни, Каролина на руках и коленях ползала по красному кирпичному тротуару. Изумленные и шокированные молодые люди отступали на шаг, когда она очень вежливо снова и снова повторяла: «Извините, пожалуйста, его перстень сломался, видите. Из него выпал камень».
– Он мертв, – сказал полицейский, пытавшийся прощупать шейный пульс; затем закрыл Делу глаза.
– О Боже, – воскликнула Каролина. – Я его нашла! – Она торжествующе поднялась на ноги. – Смотри, – сказала она Блэзу, когда полицейские уносили тело Дела и толпа начала расходиться. – Это огненный опал, кому-то, говорят, приносит счастье. – Она хмуро смотрела на камень, лежавший у нее на ладони. – Он треснул пополам. – Солнечный луч упал на камень под таким углом, что на мгновение в глазах Блэза вспыхнуло яркое пламя. – Интересно, можно ли его склеить? – Каролина сжала камень в ладони. Блэз взял ее за одну руку, Пейн за другую.
– Ну конечно, можно, – сказал Блэз. – Давай уйдем отсюда.
После уличной жары вестибюль был сумрачен и прохладен. Каролина пришла в себя.
– Как мы сообщим об этом мистеру Хэю? – спросила она Пейна.
– Не знаю. – Пейн был в шоке. – Слава богу, Элен этого не видела.
– Пусть Хэй узнает об этом своим чередом. – Блэз как всегда был практичен. – Мы все равно ничего изменить не можем.
– Ничего. – Каролина положила сломанный камень в сумочку. – Мне следовало серьезнее отнестись к предостережению, мне говорили, что опалы приносят несчастье.
К ним подошла плачущая Маргарита и пока Каролина ее утешала, Блэз понял, что с ней все будет в порядке. Но вдруг он задумался о мироздании. Неужели оно справедливо? или все бессмысленно и непредсказуемо и при этом убийственно жестоко?
Глава девятая
1
– Почему осенние цветы всегда темнее летних, а те, в свою очередь, темнее весенних? – спросила Лиззи.
– Это вопрос? – Каролина сидела на влажной траве, подстелив накидку. – Если вопрос, то лучше спросить кого-нибудь другого. Меня воспитали в убеждении, что все, растущее на земле, на ней должно и оставаться и не терпит вмешательства.
– Французы любят цветы. – Лиззи собирала циннии и ранние хризантемы; она присела рядом, расстелив покрывало; в откинутой назад широкополой соломенной шляпе она была похожа на красивого деревенского мальчика.
– Конечно, мы любим, когда цветы в вазах украшают дом. Вы не боитесь хризантем?
– Нет. Я вообще ничего не боюсь, – сказала племянница генерала Шермана, и Каролина ей верила.
– Я рада, что здесь нет Маргариты. Она бы устроила сцену. Хризантемы положены только мертвым. Она в это свято верит.
– Она приедет?
– В конце месяца, – сказала Каролина, – когда я вернусь в Вашингтон. Спасибо вам, что пригласили меня к себе.
– Тебе спасибо. Без тебя я сошла бы с ума в этом доме в окружении своих любимых.
– Сенатор не столь суетлив, как раньше. – Каролина постаралась говорить нейтрально. Дон Камерон сильно постарел и столь же сильно пил. Хотя при них он никогда не был пьян, однако не был и вполне трезв. Дочь Марта пребывала в том неловком возрасте, который мог растянуться на всю жизнь. Крупная, малопривлекательная и оттого несчастная – одним словом, полная противоположность красивой и элегантной матери. Лиззи, желая дочери добра, добивалась, как правило, обратного результата. Их ничто не объединяло, кроме уз крови, самых непрочных из всех возможных. Генри Адамс помог им снять этот дом в Биверли, на северном побережье залива Массачусетс, неподалеку от Нэханта, где проводили лето Лоджи. Но в это лето Лоджи и Адамс уехали в Европу, предоставив Камеронов самим себе в гипотетическом обществе Брукса Адамса, жившего в не столь уж близком Куинси.
В начале года Дон урезал содержание Лиззи. Она едва сводила концы с концами в Париже на восемьсот долларов в месяц. Когда она потребовала тысячу, Дон урезал даже те восемьсот, а затем принял и вовсе странное решение – они должны вести совместную экономную жизнь в Соединенных Штатах, где Марте вскоре предстоял выход в общество, не говоря уже о занятиях в школе. Родители с дочерью обосновались в местечке с подходящим случаю названием Гордый холм, где их окружали арендованные сельские красоты, и пригласили Каролину составить им компанию.
После смерти Дела Каролина не без колебаний отправилась к Хэям в Нью-Гэмпшир. Она предпочла бы провести лето в вашингтонском пекле, погрузившись в дела газеты, или даже вернуться в Ньюпорт к миссис Делакроу, но Клара Хэй настояла на ее приезде, и Каролина отправилась в Сьюнапи в роли вдовы, которой она могла когда-нибудь стать.
Хэй тяжело пережил смерть сына.
– Все время передо мной его улыбающееся лицо. – Он прочитал Каролине забавно интимное и нехарактерное для Адамса его письмо Кларе. Впервые он заговорил в нем о самоубийстве жены. «Я так и не воспрял духом и до сего момента не восстановил силы и интерес к возвращению к активной жизни». Он советовал Кларе сделать все возможное, чтобы не дать Хэю сломаться, как это произошло с ним; теперь, как он отметил в порыве уничтожающего самоанализа, «… стало привычным думать, что все лишено какого-либо смысла. Привычка эта засасывает, и в критические моменты я избегаю близких контактов, потому что она прочно вошла в мое сознание». Хэй был обрадован и растроган сочувствием Дикобраза и его откровенностью.
Когда Камероны пригласили Каролину в Биверли, именно Клара настояла на том, что она должна ехать.
– Они настолько поглощены собой, что у тебя не будет времени думать о себе. – Каролина приняла приглашение, отправила Маргариту во Францию проведать больную мать, которая обязательно есть у каждой служанки и живет до ста лет как постоянное memento non mori [120]120
Помни, что не умрешь (лат.).
[Закрыть].
Камероны и впрямь были поглощены собой, но поскольку Каролина всегда восхищалась Лиззи, она была готова жить с ними до конца лета. Сейчас в прохладном морском ветре уже чувствовалась осень. Вскоре отсыревший дом заколотят на зиму и Камероны уедут, хотя и неизвестно куда. Они как Летучие голландцы разбегались по разным маршрутам, которые пересекались лишь изредка, как сейчас.
Прибежала Кики, крохотный перекормленный пудель, вспрыгнула Лиззи на колени и принялась методично вылизывать ее твердый подбородок.
– Проблема Марты состоит в том, что она и ленива, и тщеславна одновременно. Как ты думаешь, что хуже? – похоже, этот вопрос был обращен к Кики.
– Мне нравится и то, и другое, по крайней мере в друзьях. Ленивые никогда вам не докучают, а тщеславные не вмешиваются в вашу жизнь. Я хотела бы иметь такую дочь, – добавила Каролина, удивив и самоё себя, и Лиззи.
– Ты в самом деле хочешь детей?
– Я так сказала, должно быть, это так. – Каролина никогда не могла себе представить, что родит ребенка от Дела. Того хуже, даже в фантазиях она не могла представить занятие с ним любовью.
– Она носит мои прошлогодние платья, – равнодушно сказала Лиззи. – Дон ее обожает. Она гораздо более Камерон, нежели Шерман. Мы не так широки в кости. Мне кажется, что она хотела бы выйти замуж за того еврея. Но я вовремя ее увезла.
Ранее в этом году в Палермо девятнадцатилетний студент выпускного курса Кэмбриджа Лайонел Ротшильд буквально приклеился к Марте.
– Самое поразительное в том, – сказала Лиззи, – что он абсолютно очарователен, но…
– Еврей. – Каролина пережила дело Дрейфуса, и этого не мог понять никто из нефранцузов; но ведь она практически была француженкой, перевоплотившейся в американку. В гражданской войне, что вспыхнула в парижских гостиных, она вступала в схватки на множестве рингов, слышала злобный вой вражеских эпиграмм, глухое перешептывание за спиной, и это при том, что у нее не было знакомых евреев. – Но по крайней мере, Ротшильды очень богаты.
– Хуже другое! – Лиззи сдвинула дальше назад соломенную шляпу. – Юноша очарователен. Но нация проклята…
– Вы говорите вточь, как дядюшка Генри.
– Что ж, так уж устроен наш мир. К тому же она еще слишком молода…
– А я чересчур стара. – Каролина предпочитала поговорить о себе. После смерти Дела она стала больше, чем когда-либо, интересоваться собой и недоумевать по поводу того, что же делать с этой необыкновенной особой. Она вознамерилась прожить долгую жизнь. Но чем занять отпущенное ей время? Мысль о необходимости прожить еще полвека повергала ее в большее уныние, чем мысль о вечном небытии.
– С чего ты это взяла? – тотчас спросила Лиззи. – Однако очень скоро тебе надо предпринять какой-то шаг. Ты же не хочешь быть первой и, наверное, последней издательницей в Вашингтоне или в Америке, не так ли?
– Я не… Я право не знаю. Мне не хватает Дела.
– Это понятно. Ты пережила шок. Но шок иногда идет на пользу, конечно, когда проходит боль. Ты обращала когда-нибудь внимание на дерево, в которое ударила молния? Оставшаяся живой часть становится вдвое жизнеспособнее и выбрасывает больше ветвей и листьев…
– В отличие от женщины, сраженной молнией. Ее просто хоронят.
– Ты говоришь чудовищные вещи. Но ты ведь везучая. И богатая, или скоро ею будешь. Я вот завишу от мужа, для которого самое блаженное состояние – одиночество.
Этот самый счастливый человек выглядел очень довольным, прогуливаясь под руку с Мартой – темнобровой, высокой крупной девицей. Они вышли из дома, старомодное крыльцо которого – именуемое в этих местах пиацца – переливалось яркими красками гортензий в горшках, аккуратно расставленных Лиззи. Кики спрыгнула с колен хозяйки и вскочила на руки к Марте; краснолицый патриарх с улыбкой взирал на эту домашнюю сцену.
Камерону было уже под семьдесят, полноватый и до недавнего времени очень богатый, он пил за двоих после внезапного падения акций на бирже в прошлом месяце. Вести из внешнего мира коснулись их всех. «История трудится сверхурочно», – любила повторять Лиззи.
– По-прежнему нет газет, – сказал Дон, очень медленно и осторожно устраивая свое тело на подстилке. Марта осталась стоять с Кики на руках – Святая Дева с собачьим богом, подумала вдруг Каролина.
– По крайней мере мы знаем теперь, как произносится это имя, – сказала Марта. – Леон Чолгош. – Она не без труда выговорила два шипящих звука. – Кажется, он поляк.
– Анархист! – рявкнул Дон. – Они повсюду. Они намерены убить всех правителей мира, как прошлым летом убили короля Италии, а до него… как ее звали?
– Елизавета, – сказала Каролина, – императрица Австрии. И еще они – кто бы они ни были – убили премьер-министра Испании и президента Франции… Она была очень хороша. – Каролине не раз говорили, что ее мать была очень похожа на императрицу, чья смерть от удара ножом в сердце, когда она поднималась на борт корабля, ужаснула весь мир. Было что-то неестественное в беспричинной гибели этой красивейшей женщины.
– Забавно, – сказала Каролина. – Ханна уже год с лишним места не находил от тревожных предчувствий. «Мне нужно усилить охрану», – говорил он секретной службе. Затем они нашли этот список итальяшек в Нью-Джерси, с именами правителей, которых они собирались убить, и Ханна полагал, что это не случайно, потому что там значилось и имя Майора, но Майор только махнул рукой; он всегда был фаталист.
– Ему еще повезло, – сказала Лиззи, забирая у Марты предательницу-Кики. Марта села, скрестив ноги, на подстилку Каролины. И все четверо погрузились в размышления о том, что творит история.
Днем шестого сентября 1901 года в четыре часа с минутами президент Маккинли появился под огромным американским флагом между пальмами в вазах в Храме музыки Всеамериканской выставки в Буффало, штат Нью-Йорк. Орган исполнял Баха. Было очень жарко. Президент два раза менял воротнички. Миссис Маккинли, как обычно, была нездорова, она лежала в постели в их номере в отеле «Интернэшнл». Рядом с президентом находился Кортелью и три агента секретной службы. Неподалеку были также полицейские, охранявшие выставку, но когда президент приказал открыть двери, чтобы посетители могли пожать ему руку, началась обычная неразбериха. Во-первых, сама очередь была плохо выстроена и не могла двигаться быстро, как это любил президент: рука одного гражданина тотчас сменяет руку другого, одна пара глаз на мгновение встречается с лучистыми глазами президента. Получилось так, что граждане республики продвигались медленно, неуверенно, то поодиночке, то парами, а иногда целыми группами. Никто и не попытался их организовать.
Молодой человек некрупного сложения приблизился к президенту; его правая перебинтованная рука была подвязана. Глаза их встретились и возникло непредвиденное замешательство. Протянув привычным движением правую руку, Маккинли столкнулся с некоторой проблемой. Пожать забинтованную руку? Или гражданин протянет ему левую? Проблему решил молодой человек. Он рванулся вперед, отбросив в сторону руку президента и одновременно дважды выстрелив из пистолета, который оказался в забинтованной руке. Президент остолбенело продолжал стоять, охрана повалила гражданина на пол, затем, когда они поволокли его из зала, президенту подали стул, он сел и оцепенело потрогал живот, из которого сочилась кровь. Однако его, казалось, больше интересовал убийца, чем рана, и он с абсолютным спокойствием сказал Кортелью: «Не дайте им его растерзать». Затем, увидев кровь на своих пальцах, сказал: «Пожалуйста, Кортелью, сообщите моей жене как можно осторожнее».
Через одиннадцать минут президент был на операционном столе клиники неотложной помощи при выставке. Одна пуля задела грудь, другая вошла в необъятный живот президента и пробила желудок. Хирурги обработали входное и выходное отверстия, пулю не нашли. Рану зашили. Никакие жизненно важные органы не были повреждены, но рану не дренировали и оставалась вероятность попадания инфекции, не говоря уже об общем шоке организма, который мог оказаться вовсе не таким сильным, как казалось.
В следующие несколько дней в Буффало приехали вице-президент, члены кабинета, Марк Ханна, а также сестры и брат Маккинли. Но после уик-энда, когда президента трепала лихорадка, температура вернулась к нормальной и объявили, что он вне опасности. Вице-президент скрылся в горах Адирондакс, кабинет тоже разъехался. Тем временем шли нескончаемые допросы Чолгоша. Когда он признался в своем преклонении перед ведущей анархисткой Эммой Голдман, ее немедленно арестовали в Чикаго и объявили организатором заговора с целью убийства президента.
В Биверли-фармс новости поступали медленно. Дон Камерон полагался на гостей, привозивших вчерашние газеты. Поскольку поблизости не было ни телефона, ни телеграфа, Каролина начала подумывать, не следует ли ей вернуться в Вашингтон и заняться газетой. Но Лиззи сказала:
– В городе все равно не осталось никого из членов правительства. Все новости в Буффало, не ехать же туда?
Кики залаяла, у крыльца дома появились гости. Брукс Адамс и его жена Дейзи махали руками хозяевам, расположившимся на лужайке. Потом Брукс крикнул:
– Тедди!
– Что Тедди? – откликнулся Камерон, переместившийся сначала на колени, а затем не без труда распрямившийся во весь рост.
– Тедди Рузвельт, – кричал Брукс, пока его жена, скорчив гримасу, заткнула уши, – президент Соединенных Штатов.
– О Боже, – простонал Камерон.
Каролина перекрестилась. Бедный добряк Маккинли, как и Дел, тоже исчез из поля зрения. Затем, к радости Кики, все гурьбой побежали к дому.
– Когда, как? – спросила Лиззи.
– Вчера вечером. В пятницу тринадцатого. Началась гангрена. Он умер в два пятнадцать утра. Тедди был где-то в лесах, что ли. Сейчас он уже должен быть в Буффало и принимать присягу. Весь кабинет там, кроме Хэя, который находится в Вашингтоне и руководит правительством. Никто не знает масштабов заговора. Полагают, что за ним стоят испано-кубинцы, в отмщение за то, что сделал или чего не сделал на Кубе Маккинли. – Брукс говорил быстро, не переводя дыхания. Затем, как ребенок, начал прыгать вверх и вниз на крыльце, и Кики прыгала вместе с ним. – Тедди получил все! Вы отдаете себе отчет, что он занимает более высокий пост, чем Траян в годы расцвета Римской империи? – Брукс, как и его брат, никогда не говорил просто, если была возможность прочитать лекцию. – Никогда столько власти не предоставлялось человеку в столь благоприятный исторический момент! У него будет возможность и будут средства подчинить всю Азию, добиться для Америки мировой гегемонии, а это наша судьба, предназначенная нам звездами! Кроме всего прочего, – Брукс внезапно как бы опустился на землю, – сегодня очень важный день для меня и для Дейзи. Сегодня годовщина нашей свадьбы.
– История, кажется мне, схватила нас за глотку, – тихо сказала Лиззи. – Прошу всех в дом.
– Шампанского, – крикнул Камерон радостно. – За вашу годовщину…
– И за Теодора Великого, правление которого, наконец, началось.
– И никакой паузы для поминовения Маккинли? – спросила Каролина, почувствовавшая вдруг острую тоску по Делу, по Майору и, не в последнюю очередь, по себе, брошенной всеми на произвол судьбы.
– Король умер. – Брукса ее вопрос оставил равнодушным. – Да здравствует король.
2
В ярко освещенном зале приемов Пенсильванского вокзала в позолоченном кресле сидел Джон Хэй. Возле него стоял Эйди, а полдюжины агентов секретной службы сновали вокруг в этом пышно декорированном, но изрядно запущенном помещении, предназначенном для встречи особо важных персон. Поезд из Буффало с новым президентом и прахом его предшественника должен был прибыть в восемь тридцать. Хэй распорядился, чтобы сотрудники протокола проводили миссис Маккинли и Кортелью в Белый дом, где будет выставлен для прощания гроб с прахом Маккинли; тем временем родственники помогут миссис Маккинли упаковаться – эту грустную процедуру Хэй наблюдал уже дважды, когда вдовы Линкольна и Гарфилда вынуждены были пережить конец их времени самым унизительным образом на глазах публики.
Снова, и это было для Хэя полной неожиданностью, в течение следующих четырех лет не будет вице-президента, а конституционным наследником Рузвельта опять будет он, Джон Хэй. Уже только по одной этой причине он был убежден, что Рузвельт заменит его на посту государственного секретаря. Президент – в свои сорок два года самый молодой в истории Америки – не должен иметь в качестве потенциального преемника шестидесятидвухлетнюю развалину; именно так думал Хэй о себе, имея в виду состояние не только своего тела, но и духа. Смерть Дела потрясла его, смерть Маккинли повергла в такую меланхолию, какая никогда раньше его не посещала. «Я предвестник смерти», – театрально говорил он вслух, когда оставался один: пока он не решался ни с кем поделиться столь мрачной самооценкой. В истории Соединенных Штатов от рук убийц пали три действующих президента, и каждый из них был близким другом Хэя. Любопытно, что все трое убитых, в сущности, были люди доброжелательные, отнюдь не тираны, испытывавшие терпение богов. Многие филиппинцы и испано-кубинцы, однако, считали Маккинли тираном, и Хэю поневоле придется переосмыслить это понятие. Правда, пока секретной службе не удалось установить связи анархиста Чолгоша с теми испано-кубинцами, которые жаждали отмщения за то зло, которое причинил им Маккинли.
Хотя Рузвельт заявил в Буффало, что его администрация является лишь продолжением президентства Маккинли и он сохранит его кабинет в неприкосновенности, Хэй полагал, что через некий отвечающий приличиям интервал он уйдет в отставку. Утром в воскресенье он написал Рузвельту соболезнующее и одновременно поздравительное письмо, выдержанное в самоуничижительных тонах: «Моя публичная деятельность подошла к концу – отпущенный мне срок уже недолог, и потому на заре великого и блистательного будущего, в котором я уверен, я спешу дать вам свое идущее из прошлого сердечное благословение». Написав эту строчку, Хэй прослезился; теперь, вспоминая об этом, его глаза снова наполнились слезами по всем своим былым ипостасям; новых уже не будет.
Вдруг Хэй услышал шум толпы за дверями зала приемов. Поднявшись, он сделал несколько шагов, и в этот момент начальник вокзала распахнул дверь и объявил: «Президент Соединенных Штатов» и тотчас исчез.
Теодор Рузвельт, маленький полный крепыш пружинисто пересек комнату и пожал руку Хэя. Блеснули – не в улыбке – зубы, он быстро заговорил.
– Я прочитал ваше письмо. Разумеется, вы остаетесь со мной – до конца или настолько, насколько пожелаете. Что касается ваших рассуждений о возрасте, то это притворство. Вы не старый человек. Это противно вашей природе – быть старым, впрочем, как и моей.
– Мистер президент… – начал Хэй.
– Пожалуйста, зовите меня Теодор. Как я всегда без должной почтительности называл вас Джоном, так и вы должны обращаться ко мне «Теодор», за исключением тех случаев, конечно, когда вокруг будут люди и мы оба должны будем соблюдать приличествующий нашему положению этикет…
– Вы так добры… Теодор. – Хэй улыбнулся горячности Рузвельта. Очевидно, во время долгого пути он думал о том, как протокол отразится на его личных отношениях с разными людьми.
– Я не собираюсь порывать светских связей со старыми друзьями, как это обычно делали мои предшественники. Я хочу, подобно другим гостям, обедать в вашем доме, у Кэбота, но, конечно, – он помрачнел, скорее, величественно посуровел, – инициатива должна оставаться за мной. – Прежде чем Хэй смог придумать, что ответить, Рузвельт заговорил о другом. – Рут привел меня к присяге. Это было очень трогательно – все мы в той гостиной. В течение десяти минут Рут был не в состоянии произнести слова президентской присяги. Странно. Я никогда не думал, что он настолько эмоционален. На некоторое время я намереваюсь оставить Филиппины в его министерстве. Вы не возражаете?
– Разумеется, нет. У меня много работы. Ваша супруга и молодой Тед здесь. Они прибыли сегодня днем.
– Отлично! Пойдем к ним.
Теодор схватил Хэя за руку и, не подумав, насколько это ему под силу, повел его в главный зал ожидания вокзала, где нового президента приветствовала небольшая толпа. Рузвельт торжественно приподнял шляпу, но, с облегчением отметил Хэй, не смазал торжественность ситуации своей непомерно зубастой улыбкой. Дюжина полицейских замкнула их в кольцо и вывела на улицу.
Вдалеке купол Капитолия светился как торт в форме черепа, подумал Хэй. Хэй распорядился, чтобы Белый дом не делал оповещения, поэтому у вокзала толпы не было; люди ждали приезда нового президента на следующий день. И Рузвельт, и Хэй предпочли не заметить громадного катафалка черного дерева с шестью черными лошадьми в упряжке, который должен был доставить тело Маккинли в Белый дом. На мгновение Рузвельт остановился на тротуаре, хотел заговорить, но ничего не сказал.
– Вам не стоит задерживаться, – сказал Хэй.
Рузвельт облегченно вздохнул и впрыгнул в президентский экипаж, Хэй последовал за ним.
– Семнадцать тридцать три, Эн-стрит, – сказал Рузвельт, словно это было такси.
– Они знают, – улыбнулся Хэй. – Это их работа.
– Верно. Надо привыкать. Мне надо привыкать ко многому, в первую очередь, к Белому дому. Я хочу поменять бланк. Мне не нравится шапка «Резиденция президента». Отныне пусть будет «Белый дом». Не так помпезно. Сколько в нем спален?
– Пять в жилой части дома. Три из них очень маленькие.
– Что на третьем этаже?
– Я не поднимался туда с тех пор, как Тед Линкольн спутал все колокольчики для вызова слуг в резиденции, то есть, доме, и мне пришлось распутывать шнуры.
– Наверное, можно сделать там дополнительные комнаты. У Элис должна быть своя комната, ей уже восемнадцать. – Рузвельт разглядывал в окно здание почты с приспущенным подсвеченным флагом.
– После захода солнца все флаги снять. Они действуют удручающе, – пояснил он, что было для него нехарактерно. – Президент приезжает в столицу, и все в трауре.
– Убийство всегда удручает и напоминает об опасности.
– Удалось выяснить, кто стоит за этим террористом?
– Секретная служба готова арестовать всех подряд. Они очень похожи на министра Стэнтона[121]121
Стэнтон, Эдвин Макмастерс (1814–1869) – военный министр в кабинете Линкольна.
[Закрыть] в дни после убийства Линкольна.
– Будем надеяться, с лучшим результатом. Меня не волнует, если меня убьют, как Линкольна, а не как беднягу Маккинли. Линкольн так и не понял, что произошло.
Хэй невольно вздрогнул.
– Я в этом не уверен. Когда мы составляли его жизнеописание, я прочитал протокол вскрытия. Видимо, пуля вошла не в затылок, а в левый висок, это значит, что он слышал, как Бут появился у двери в ложу, и повернулся посмотреть, кто это…
– И увидел?
– И на мгновение увидел револьвер.
– Ужасно! – Рузвельта явно обрадовали эти чудовищные подробности.
У фасада дома Анны Рузвельт-Коулс на Эн-стрит дежурили двое полицейских. Из окна второго этажа свисал приспущенный американский флаг.
– Почему они не снимут эти флаги? – раздраженно спросил Рузвельт; Хэй понимал, что Рузвельта выводят из себя эти знаки траура по его предшественнику.
В гостиной первого этажа Рузвельта встретили жена Эдит, сестра Анна, которую он звал Бэйми, и сын Теодор. Дамы были в трауре и в отличном настроении. Они суетились вокруг Хэя, которому нравилось, что с ним обращаются, как со старинным фарфором. Его усадили в кресло, предложили сигару, от которой он отказался. Тем временем новый президент энергично шагал по комнате, задавая вопросы, на которые ответы имел он один. Во время этого спектакля очаровательная Эдит сохраняла величественное спокойствие. Хэй всегда предпочитал ее шумному – другого слова не подберешь – Теодору.
Эдит Кермит Кэроу происходила из гугенотов, соединившихся семейными узами с Джонатаном Эдвардсом[122]122
Эдвардс, Джонатан (1703–1758) – американский религиозный деятель, дед Аарона Бэрра.
[Закрыть]. Она знала Теодора всю жизнь. Семья Кэроу жила в Нью-Йорке на Юнион-сквер рядом с домом деда Теодора. Эдит была книжница, что в этом мире служило не лучшей рекомендацией, но сближало ее с легко возбудимым астматиком Теодором, который был не только книжником, но и упрямым спортсменом, вознамерившимся упражнениями компенсировать физическую ущербность.
Хэй всегда считал, что Рузвельт воспринимает свою необыкновенную жену уж слишком как нечто само собой разумеющееся. Это отношение было настолько привычным, что однажды, наверное, к немалому ее изумлению, – кто может сказать, так как она всегда была сама тактичность и сдержанность – Теодор в день своего двадцатидвухлетия женился не на ней, а на красивой девушке Элис Ли, а Эдит Кэроу, говорят, спокойно присутствовала на свадьбе как гостья. Потом Элис Ли родила дочь Элис и вскоре умерла в один день с матерью Теодора. Две внезапные смерти заставили Теодора уйти из политики – он был тогда членом Ассамблеи штата Нью-Йорк – и уехать из Нью-Йорка. Он купил ранчо в Бэдленде, штат Дакота, потерял деньги, попробовав заняться скотоводством, и писал книги о своем мужестве с удивительно заразительной самовлюбленностью. Четыре глаза, как прозвали очкарика Теодора бывалые люди Запада, был большим героем в собственных глазах и доставлял массу удовольствия своим друзьям из братства Червей, хотя и не в том смысле, какой был бы ему приятен. Ведь в их глазах, в отличие от Кларенса Кинга, он был просто пижоном.








