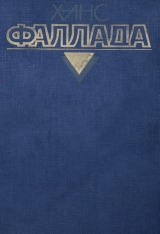
Текст книги "Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Приют «Мирная обитель»
1
Во-первых. Петров слишком рьяно исплевал ему сзади пальто; Куфальту все время мерещилось, что прохожие ухмыляются за его спиной. Поэтому он снял пальто и перекинул его через руку, стерев таким образом плевки, но это ничего не значило: он все равно не вернется в тюрьму!
Во-вторых, уже сидя в поезде, он оглянулся на город, и вдруг между домами еще раз вынырнула высокая серая бетонная громадина, усеянная множеством зарешеченных отверстий, – это тоже ничего не значило, потому что в этот миг он удалялся от нее: он все равно не вернется в тюрьму!
Однако уже в поезде, обдумав каждый свой шаг, он понял, что наделал массу глупостей. Прежде всего: поехал к вокзалу на такси только из-за того, что люди как-то не так на него смотрят, а он не может вынести этих взглядов. Потом: пообедал на вокзале, потому что в тюрьме к своей порции баланды так и не смог притронуться. Затем: купил десяток сигарет по шесть пфеннигов штука – того же сорта, что курит директор. К тому же еще и газету. Но что всего хуже – за обедом выпил кружку пива, хотя поклялся ничего крепкого в рот не брать. В итоге пять марок девяносто пфеннигов пустил по ветру, то есть свой тюремный заработок за шестьдесят три дневных нормы. За эти деньги ему пришлось шестьдесят три дня вкалывать, не разгибаясь, – ведь поначалу он справлялся с дневной нормой только за двенадцать – тринадцать часов. И теперь за два часа профукал то, что заработал за шестьдесят три дня, – хорошенькое начало!
Если по-честному, он совсем иначе представлял себе свою первую поездку на поезде.
Правда, за окном мелькали залитые солнцем сельские пейзажи, и смотреть на них было приятно, но разве он мог себе это позволить? Нужно подумать о том, о другом, выходит, опять заботы, как и в тюрьме. И как еще сложатся его дела в приюте?..
– Господа, не может ли кто-нибудь сказать, на какой остановке мне нужно выйти в Гамбурге, чтобы попасть на Апфельштрассе?
Молчание. И Куфальт уже боится, что никто не ответит на его вопрос, уже сомневается, достаточно ли громко спросил. Но тут господин, сидящий в углу, опускает газету и говорит:
– Апфельштрассе? На Центральном вокзале сойдете и пересядете. Вам надо доехать до Берлинер Тор.
– Позвольте, позвольте! – возражает ему сидящий рядом с Куфальтом. – Вы ошибаетесь! Нет там никакой Апфельштрассе. Да и откуда бы ей там взяться?
– Конечно, есть. Это улица возле водолечебницы…
– Господин путает и только сбивает вас с толку, – замечает сосед Куфальта. – Вам надо сойти на остановке Гольштенштрассе. Апфельштрассе там рядом…
В разговор вмешивается низенький толстячок:
– Этот господин прав. Но и тот господин тоже. Дело в том, что есть две улицы с этим названием: одна Апфельштрассе в Альтоне, другая – в Гамбурге. Вам-то какую нужно?
– Мне сказали – в Гамбурге.
– Значит, вам надо ехать до Берлинер Тор, то есть пересесть на вокзале.
Снова молчание.
Вдруг сосед Куфальта возобновляет разговор:
– А куда конкретно вам нужно на Апфельштрассе? Потому что часто скажут «Гамбург», а потом оказывается, что имели в виду Альтону.
– Простите, но господин сказал, что ему нужно в Гамбург, значит, ему ехать до Берлинер Тор.
– А что, вам точно сказали – Гамбург? Или так, вообще?
– Да не знаю уж. Я еду к родственникам.
– А куда вы адресовали письма к ним – в Гамбург или в Альтону?
– Видите ли, я… Я никогда сам с ними не переписывался. Это всегда делал кто-нибудь за меня… Моя матушка.
У соседа Куфальта прыщеватое лицо и подслеповатые глазки. К тому же изо рта у него скверно пахнет, – Куфальт это почувствовал, когда тот доверительно шепнул ему на ухо:
– Ты ведь едешь – туда?
– Куда – «туда»? – изображает недоумение Куфальт.
– Брось, парень. Что я, не вижу. Потому и говорю: сходи у Гольштенштрассе, там это. А то придется топать с сундуком через весь город.
– Спасибо, спасибо. Право, не знаю, что вам и сказать. Я еду к родственникам в Гамбург.
– Если у тебя такие родственнички…
Куфальт уже проклинает себя за то, что затеял этот разговор. И хватается за газету.
– На твоем месте, парень, я бы лучше навострил лыжи к аллилуйщикам на Штайнштрассе.
Куфальт разворачивает газету.
– Там тоже берут всего четыре гроша за ночлег.
Куфальт делает вид, что читает.
– Хочешь, поднесу твой сундук.
Куфальт не слышит.
– Да не сбегу я с ним, не сбегу. Понесу хоть до Бланкенезе, если тебе туда надо. Понял?
Куфальт молча встает и идет в уборную.
2
– Апфельштрассе? – переспрашивает полицейский и пристально смотрит на Куфальта. – Ах, ну да. Прямо, вторая улица направо.
– Спасибо, – бормочет Куфальт и поспешно удаляется. Этот тоже сразу догадался. Наверное, из-за землистого цвета лица. Хоть бы поскорее это прошло, а то людям в глаза смотреть стыдно…
Вот и Апфельштрассе. Дом номер двадцать восемь. «Городской клуб миссионеров. Спальни во дворе. Ночлег пятьдесят пфеннигов».
«Неужели это и есть то самое?»
Под аркой ворот стоит толстяк с мрачноватой физиономией.
Куфальт нерешительно направляется к нему. Фуражка у толстяка какая-то особенная, вроде бы форменная. Но тот еще издали начинает орать;
– Чего надо в такую рань? Ночлежка работает с семи!
«В чем тут дело? – в ужасе думает Куфальт. – Я и одет прилично, не хуже, чем раньше, однако все, как один, сразу смекают, что к чему».
А вслух говорит:
– Я не собираюсь тут ночевать. Я хотел только спросить, здесь ли приют «Мирная обитель»?
– «Мирная обитель»? Что ж, можно и так назвать, мне без разницы. Вечером так. А утром небось иначе его обзовете.
– «Мирная обитель» – приют для торговых служащих, оставшихся без работы. Это здесь?
– Нет, здесь такого нет.
– Не скажете ли, где он находится?
– Не скажу. Почем мне знать, где обретается ваша братия.
Толстяк исчезает в воротах, и Куфальт возвращается на тротуар. Нет смысла пытаться здесь еще кого-то расспрашивать. Номер дома правильный – двадцать восемь. Значит, приют все-таки в Гамбурге. Он крепче сжимает ручку чемодана и шагает обратно к вокзалу.
На звонок дверь открывает девушка в синем переднике, молодая, но весьма непривлекательная. Она окидывает его цепким оценивающим взглядом. Он это скорее чувствует, чем видит, – так сильно она косит.
«Эта-то наверняка из приютской обслуги, – думает Куфальт. – Значит, я наконец на месте».
– Что вам надо? – спрашивает девушка негодующим тоном. – Почему являетесь вечером?
– Меня направили сюда, в приют «Мирная обитель».
– Мне об этом ничего не известно. Денежки, видать, пропили, а теперь свалились на нашу голову. И сейчас, может, еще под градусом? – Она теснит его от двери. – Ну-ка, подайтесь немного назад, молодой человек, поближе к свету, а то и не разберешь, под мухой вы или нет.
Шаг за шагом девушка оттирает его за дверь, а потом захлопывает ее перед самым его носом.
И Куфальт опять оказывается на улице, вернее, в обнесенном решетчатой оградой мощеном «палисадничке».
«Ну и стерва! – думает про себя Куфальт с некоторым даже интересом и косится на готические буквы вывески „Мирная обитель“ над своей головой. – Вряд ли такая уж мирная, если заправляет тут эта ведьма».
Из-за двери доносится ее пронзительный голос:
– Господин Зайденцопф, тут один какой-то явился… Не пьяный. С чемоданом. Нет, лучше сами спуститесь, он стоит в полисаднике.
Тишина.
Апфельштрассе в Гамбурге – типичная окраинная улица большого города. Три десятка маленьких двухэтажных домишек, похожих на тот, где приют, некоторые окружены настоящим садом с кустами и деревьями, и восемь десятков пятиэтажных доходных домов, похожих на казармы.
На улице полно прохожих. Все больше мелкий люд. И Куфальт чувствует, что здесь ему нечего стесняться, пусть даже они все поголовно догадаются, по какой причине он маячит перед приютом с чемоданом в руке. Им и догадываться нечего, они и так все знают, и это их не интересует. И вообще, нельзя сказать, что оказанный ему прием задел его за живое, наоборот, ничего лучшего для начала и придумать нельзя: все знакомо, привычно, как у них в тюрьме тоже любили обложить человека ни за что ни про что.
Однако лора бы уже этому Зайденцопфу появиться.
И он тут же появляется. Дверь распахивается, низкорослый человечек в черном мешковатом костюме проворно протискивается наружу, дверь за ним тут же захлопывается.
Господин Зайденцопф, стоящий перед Куфальтом, очень похож на пинчера, до такой степени лицо его заросло черными, густыми, как шерсть, волосами, что из зарослей выступает только большой белый нос, да сверкают блестящие черные глазки. Зато на голове волосы прилизаны и напомажены так, что переливаются маслянистыми пятнами.
Господин Зайденцопф разглядывает вновь прибывшего долго и молча. Его внимание распространяется не только на лицо и руки, нет, пальто и брюки, ботинки и чемодан, воротничок рубашки и шляпа – все осматривается весьма тщательно и придирчиво.
Наконец коротышка откашливается: по-видимому, осмотр окончен. Кашляет он почему-то очень громко и в неожиданно низком регистре.
– Я могу и подождать, – скромно роняет Куфальт.
– Вы-то можете, да вот вопрос, есть ли смысл? – возражает коротышка. – Я о вашем приезде не извещен. – Раскаты его баса, напоминающие львиный рык, разносятся по округе, так что к решетке палисадника тут же льнут несколько ребятишек, запускавших волчок на улице.
– Извещение было послано. И должно бы уже прийти. Я еще вчера утром его подписал.
– «Вчера утром!» – вопит коротышка. – И «еще»! Да вы ничего не понимаете, ничего не знаете, а еще заявляете, что можете подождать.
– А я и могу. – Куфальт говорит все тише, в то время, как коротышка рычит все громче.
– Извещения поступают сначала к нашему председателю, его преподобию доктору Герману Марцетусу. Дня этак через четыре они попадают к нам. Можете столько времени ждать под дверью?
– Нет, не могу. – Куфальт уже совсем спокоен и очень доволен приемом.
«Главный надзиратель Руш вот так же всегда накручивал, – мысленно говорит он сам себе. – Такую комедию ломают только ради того, в ком видят свой интерес».
– А если не можете ждать так долго, то вам придется хорошенько попросить меня, мой юный друг. – И повышая голос: – Просить отнюдь не стыдно, как вам, вероятно, кажется, ведь и наш Господь Иисус Христос не стыдился обращаться с просьбами к своим апостолам, не говоря уже об отце небесном.
– Вот и я тоже – прошу, значит, принять меня нынче вечером в ваш приют, – кротко говорит Куфальт.
– То-то! И кого вы об этом просите?
– Господина Зайденцопфа, если я правильно расслышал.
– Вы расслышали правильно. Но называйте меня отцом. Ведь я всем вам отец.
И совсем другим голосом, не рассчитанным на публику:
– Остальные вопросы решим уже внутри дома. Это еще не значит, что я согласился вас принять, однако…
И вдруг опять львиный рык, на этот раз обращенный к противоположной стороне улицы:
– Ничего у вас не выгорит, Бертольд, зря только шастаете вокруг и прячетесь за углом. Я давно уже вас увидел. Вы не получите у меня ни койки, ни еды, потому что опять напились! Ступайте отсюда!
На той стороне улицы пошатывающаяся фигура в грубошерстном пальто вздымает руки к небу и кричит срывающимся голосом:
– Сжальтесь надо мной, господин Зайденцопф! Где же мне приклонить голову ночью? На бульварах пока еще холодно.
Фигура поспешно перебегает улицу.
– Пошли, скорее! – шепчет Зайденцопф. Дверь приотворяется, Куфальта вталкивают, Зайденцопф протискивается следом – рраз! Перед самым носом торопящегося Бертольда дверь захлопывается.
– Выключите звонок, Минна! За дверью Бертольд! – кричит Зайденцопф.
В прихожей темно, но не настолько, чтобы Куфальт не мог разглядеть на лестнице, ведущей на верхний этаж, две женские фигуры – давешней служанки и дородной расплывшейся дамы тремя ступеньками выше.
Последняя разражается капризно-плаксивой тирадой:
– Ах, отец! В этакий поздний час ты пускаешь в дом незнакомого человека. А он наверняка пьян и прокутил все деньги с дурными женщинами. Из тюрьмы не приходят вечером.
Ей возражает пронзительный голос косоглазой:
– Нет, госпожа Зайденцопф. Он не пьян. И прямо из тюрьмы, потому как в глаза глядеть боится. Брюки у него свежеотглажены и не измяты, – значит, у девок еще не был…
– Тихо! – рычит лев. – Займитесь своим делом, женщины! Ни слова больше!
Обе фигуры исчезают.
Из-за входной двери доносится жалобное нытье:
– Отец Зайденцопф, где же мне ночевать?! Отец Зайденцопф…
– Пшел! Пшел отсюда! – шипит Зайденцопф в сторону двери. – Долг иногда повелевает голосу милосердия умолкнуть… Пойдемте, юный друг.
Сквозь замочную скважину все еще слышится:
– Отец Зайденцопф, отец Зайденцопф…
Но они переходят из прихожей в другую комнату; там еще довольно светло.
Коротышка в черном опускается в огромное кресло с подголовником, стоящее за письменным столом, – половинки подголовника торчат над ним, словно крылья. Куфальту милостиво разрешают сесть по другую сторону стола.
– Мой юный друг, – сразу же начинает разговор коротышка, – вопрос моей супруги попал в самую точку. Откуда вы пожаловали к нам так поздно?
– Из Центральной тюрьмы.
– Но в Центральной тюрьме выпускают на свободу в семь утра. Вы могли бы попасть сюда к двенадцати. Где же вы провели это время?
– Меня… – начинает Куфальт.
Тут коротышку словно подбрасывает:
– Стоп! Стоп! Молчите, дорогой! Не говорите, не подумав! Ложь так легко слетает с наших уст! Лучше ответьте: «Мне стыдно сказать вам правду, отец!» Тогда мы оба помолчим и поразмыслим над тем, как мы все слабы.
– Но меня выпустили только в час двадцать, господин Зайденцопф.
– Отец Зайденцопф, – поправляет тот. – Запомните: отец. Я вам верю, друг мой, но будет лучше, если вы покажете мне выданную вам в тюрьме справку.
Куфальт достает бумажник, роется в нем, вынимает справку и протягивает ее через стол.
Зайденцопф сведущ в этих бумагах, ему достаточно одного взгляда.
– Хорошо. Вы сказали правду. И все-таки… Нет, оставьте бумажник на столе, пусть полежит. Мы еще вернемся к нему. А сейчас я только…
Коротышка рывком поворачивается к окну и начинает сильно барабанить пальцами по стеклу:
– Ты уйдешь или нет? Уйдешь или нет? Что мне – полицию вызвать? Убирайся сейчас же!
Куфальт едва успевает заметить за стеклами бледное длинноносое лицо Бертольда, тут же отпрянувшего от окна.
А Зайденцопф весь сияет:
– Боится меня, как видите! Еще как боится! Да, мы шутить не любим. Мы предпочитаем строгость. С заблудшими душами надо обращаться строго. Строго и в то же время милосердно. Однако вернемся к нашему разговору. Но даже если вы вышли на волю в час двадцать, вы могли бы быть здесь на час раньше!
– Сперва я попал на другую Апфельштрассе, – ту, что в Альтоне. Так что битый час тащился с тяжелым чемоданом через весь город.
– Обойдите стол! – вдруг кричит Зайденцопф. – Подойдите ко мне! Поглядите-ка в ваш бумажник!
Он успел его открыть и изумленно уставился в одно из пустых отделений.
Куфальт ничего не видит, кроме того, что там пусто, не понимает, чего от него хотят, и молча ждет, что за этим последует.
– Подуйте-ка в него, приятель. Разве вы не видите, что там сидит паук?
Куфальт ничего не видит, но добросовестно дует.
Зайденцопф принюхивается.
– А вы все же выпили, мой юный друг! Правда, совсем немного. Всего лишь рюмочку, не так ли? Вроде бы ничего страшного, но лучше совсем бросить. Посмотрите на Бертольда, он и умен, и не лишен нравственных и религиозных принципов, однако пьет. В «Синем кресте» уже трижды давал обет бросить – я руковожу этим обществом и именно по поручению «Синего креста» возглавил этот приют – и каждый раз нарушал! Каждый раз!
– Я бы и так дохнул на вас, не стоило ломать комедию.
– Охотно верю. Охотно. Вы человек порядочный. Сразу видно. Вы нас еще порадуете, вот увидите, вы у нас далеко пойдете. Ну вот, а деньги свои вы сдадите мне на хранение…
– Нет. Деньги я хочу держать при себе.
– Спокойно, спокойно. Вы ведь не хотите, чтобы они пропали? Знаете ведь, что у нас тут за народ! Мы не отвечаем за деньги, которые не сданы. И само собой вы получите расписку, а когда вам понадобится, я вам выдам столько, сколько нужно. Итак: четыреста девять марок семьдесят семь пфеннигов. Сейчас дам вам расписку.
Куфальт злобно смотрит на свои деньги и начинает закипать.
– Но деньги мне нужны немедленно. Надо купить подвязки для носков и домашние туфли. Я отвык от кожаной обуви, ноги очень болят.
– Скоро привыкнете. Оставляю вам три марки. Но вы не потратите их на пустяки, верно? Три марки не так-то легко заработать.
– Мне нужно минимум десять, – совсем мрачнеет Куфальт.
– Что вы! Господь с вами! Мы что – миллионеры? Когда израсходуете эти три марки, попросите еще. И вы их получите. Но, вспомнив, что за деньгами надо обращаться к отцу Зайденцопфу, вы сразу одумаетесь. Вот денежки и останутся целы.
Коротышка уже у шкафа; бумажника как не было.
«Что бы мне раньше догадаться, – думает вконец растерявшийся Куфальт. – Припрятал бы сколько-нибудь. Вечно попадаюсь на удочку этим святошам».
– А теперь быстренько распишемся под уставом приюта и под распорядком работы машинописного бюро, затем вы подниметесь наверх, распакуете свои вещи и приготовите себе постель.
– Нельзя ли зажечь свет? – спрашивает Куфальт, тупо глядя на два листка, заполненных убористым типографским шрифтом. – Неплохо бы знать, под чем ставишь свою подпись.
– Неужто вы хотите все это прочесть? Дорогой друг, это же бессмысленно! Тысячи до вас подписали, значит, и вы подпишете.
– Но мне хотелось бы знать, что здесь и как. Лучше дайте мне спокойно все это прочесть.
– Зря вы волнуетесь, дорогой друг. Пожалуйста, читайте, если вам угодно. Возле окна еще достаточно светло.
Но и у окна уже ничего не видно. Куфальт ищет глазами выключатель, взгляд его ненароком падает за окно и в сгущающихся сумерках различает фигуру человека, скорчившегося на плитах палисадника. Заметив его, человек поднимает к окну испитое лицо с длинным носом и мимикой изображает полное отчаяние.
– А Бертольд-то здесь! – вырывается у Куфальта.
– Где? О, несчастный! Опять придется выдворять его с помощью полиции. Дорогой господин Куфальт, сделайте одолжение, подпишите скорее. Мне нужно уладить дело с этим бедолагой. Наш приют не должен нарушать покой жителей, он должен быть воистину мирной обителью. Ну, вот вы и подписались. Жму вашу руку. Отныне вы мой сын. Да благословит Господь ваше прибытие под этот кров!
– Надеюсь, на вероисповедание вы тут внимания не обращаете?
– Разумеется! Абсолютно не обращаем! Минна, принесите господину Куфальту постельное белье и полотенце. Минна, это ваш брат Куфальт. Куфальт, это ваша сестра Минна.
«Господи боже!» – думает Куфальт.
– Пожмите друг другу руки. Но обращаться друг к другу, разумеется, будете на «вы». Куфальт, идите прямо по лестнице наверх. Выберите себе кровать. Теперь вы здесь дома. Наверху вы увидите еще одного брата…
– Но брат Беербоом заговаривается, отец, – вставляет Минна.
– Да, он болен. Все еще болен, дорогая Минна. Длительное тюремное заключение…
– Он спросил меня, не хочу ли я с ним поразвлечься, – успевает ввернуть косоглазая Минна.
– О! О! Но в том, что он приглашает вас погулять и развлечься, может быть, и нет ничего безнравственного. Тем не менее я с ним, конечно, серьезно поговорю. Куфальт, ступайте к себе, а мне придется заняться этим несчастным, этим падшим братом.
Одного взгляда в окно Куфальту достаточно, чтобы убедиться: брат Бертольд и впрямь «падший». Он ползет на четвереньках через палисадник, держа шляпу в зубах.
– Делать нечего, придется звонить в полицию, – говорит Зайденцопф при виде людей, столпившихся у ограды.
Рывком открыв окно, он кричит:
– Бездельники, ротозеи! Чего уставились! Разве ваше сердце не сжимается от жалости?
В ответ звучит грубый голос из толпы:
– Уймись, Волосатик, а то, гляди, обмараешься…
Куфальт ощупью поднимается по темной лестнице наверх.
3
Наверху в коридоре тоже уже почти совсем темно. Куфальт с трудом находит какую-то дверь. Он нажимает на ручку, дверь отворяется. Темная, no-видимому, довольно большая комната. Куфальт не сразу нащупывает на стене выключатель, а когда в конце концов находит, под потолком загорается тусклая шестнадцатисвечовая лампочка.
Двенадцать кроватей выстроились строго в ряд, как по линейке. Двенадцать узкогрудых черных шкафов. И один-единственный дубовый стол.
«Да, не больно-то роскошно в этой уютной обители, – думает Куфальт. – Хорошо еще, что на окнах нет решеток. А во всем остальном – та же тюряга. Койки тоже ничем не лучше тамошних».
Только теперь он замечает, что и постельное белье у него в руках – тоже тюремное, та же голубая клеточка. «Небось выклянчили у судейских. Во всяком случае, тут никто не живет. Поглядим, что в соседней комнате».
Но следующая дверь заперта.
А последняя ведет в освещенную комнату, где на кровати лежит один-единственный постоялец. Тот отрывает голову от подушки, разглядывает Куфальта и говорит:
– А, и ты попался наконец, старый плут, арестант? Давно пора! Сколько отзвонил? Отобрал Волосатик деньги? В чемодане водка есть? У девочек успел разговеться?
– Добрый вечер! – сдержанно говорит Куфальт.
Постоялец встает и смущенно улыбается. Роста он среднего, широк в плечах, кожа на лице серая, грубая, словно дубленая, глаза черные, без блеска, и такие же черные курчавые волосы.
– Извините, бога ради, за приветствие. Это я так неловко пошутил. Как-никак мы с вами сейчас наслаждаемся так называемой «сладкой свободой». Моя фамилия Беербоом…
– Куфальт.
– Мой отец – профессор университета, только знаться со мной не желает. Одиннадцать лет пришлось оттрубить от звонка до звонка – убийство с целью ограбления. Сестренка у меня младшая есть, прелестная была крошка, теперь, наверно, совсем взрослая стала. А у вас есть сестренка?
– Есть.
– Ясно. Так хочется повидаться! А нельзя. Папаша тут же стукнет фараонам, если я заявлюсь, и тогда – прощай, условное! Между прочим, если моя болтовня вам в тягость, пройдите в заднюю комнату, там тоже можно расположиться.
– Поглядим-увидим, – уклончиво отвечает Куфальт. – Кроме нас двоих, здесь никого больше нет?
– Вот именно. Я уже два дня тут загораю. Подумал было, что я – единственный идиот, по доброй воле заточивший себя в эту исправиловку. Ну, я залягу. До ужина еще полчаса.
– Пойду погляжу в самом деле, – бормочет Куфальт, кивая в сторону задней комнаты.
– Да вы не стесняйтесь. Прекрасно вас понимаю. Я вообще все понимаю. Кстати, перед сном я обычно плачу, целый час плачу, вам бы это помешало. В тюрьме мне за это частенько делали темную, но я ничего не могу с собой поделать. Какое хорошее имя – Куфальт, сразу приходит на память и святая простота, и святая троица[11]11
Непереводимая игра слов: по-немецки «простота» – die Einfalt, «троица» – die Dreifaltigkeit.
[Закрыть]. А что, собственно, значит «святая троица»?
– Что-то связанное со святым духом. Да я тоже не очень-то разбираюсь. Так я схожу туда, погляжу…
– Конечно, сходите, дружище, Куфальт, святой дух. И не стесняйтесь. Когда вижу свежего человека, говорю, говорю и не могу наговориться. Так уж привык в тюряге. А вы не слушайте. Я и сам себя не слушаю…
– Так я пойду…
– Видали, какую хитрую штуку придумали тут с окнами? Почище чем в тюрьме. Никаких решеток, зачем же так грубо, просто рамы мало того что узкие, еще и вращаются на стальной оси и больше чем на десять сантиметров не открываются. К тому же и рамы, и коробка – железные. Так что оторваться ночью и слетать к девочкам – и думать забудь, старый греховодник, пустой номер. Папаша Зайденцопф знает свое дело.
– Так я пойду.
– Да идите себе, ради бога! Вы такой же болван, как и я. Вечером, когда на меня находит, – плачу, а сам думаю: нет, такого кретина, как я, поискать. А оказывается, и еще находятся. Вот вы, например. Какого рожна вы все еще здесь…
– Меня уже нет, – перебивает его Куфальт и невольно улыбается.
Задняя комната – такая же унылая дыра, четыре голые стены, четыре узеньких шкафа, четыре незастеленных койки. Куфальт решает занять крайнюю, у дальней стены. Швырнув чемодан на кровать, он отпирает его. Дверь шкафа распахнута, ключа не видно. Да и замок – жестянка, слова доброго не стоит, любым гвоздем откроешь. Куфальт немного повозился с замком и бросил.
– Запечатай шкаф плевком, – кричит Беербоом через стенку. – И не бойся за свое барахло. Стащи я у тебя, из дому все равно не вынесу, косоглазая бдит денно и нощно, она на это натаскана…
– И с такой вы хотели поразвлечься? – спрашивает Куфальт, перекладывая верхние рубашки в шкаф.
– Почему бы и нет, баба есть баба. Значит, настучала-таки Волосатику. Ну, погоди, красотка! Мы еще разукрасим тебе вывеску! А случай наверняка подвернется…
Куфальт раскладывает вещи. «Да он совсем свихнулся. Одиннадцать лет каторги – не шутка, укатали сивку крутые горки, вряд ли очухается».
И продолжает распаковывать чемодан.
Вдруг в дверях вырастает сосед – бесшумно подкрался в одних носках.
– На самом деле никакого ограбления и не было. Просто прикончил я своего лейтенанта, а когда этот хмырь хлопнулся, я сообразил, что денег-то у меня нет, бежать не на что… Шикарные у тебя шмотки, надо признать. Мне в каторжной выдали при выписке одну рвань, мое все истлело за столько-то лет. Рубашки – только хлопчатобумажные. А уж костюм… Да разве это костюм? Так, дешевка, красная цена такому – тридцать марок. Но этот ханжа в черном, тюремный поп, терпеть меня не мог. Продадите мне эти носки? Вот эти мне приглянулись, лиловые. Сколько за них хотите?
– Нет, я ничего не продаю, – отвечает Куфальт. – А вот подарить их вам могу, они мне не очень нравятся.
– Ну что ж, дают – бери, как говорится. Сперва приговорили меня к вышке, потом заменили на пожизненное, потом – на пятнадцать лет каторжной. И вот через одиннадцать выпустили. Причем ни «примерного поведения», ни ходатайств. И все же досрочно выпустили! А почему? А потому, что дело мое липовое и сляпано кое-как! Надо бы пойти к красным и все им рассказать…
– Но теперь-то вы на свободе.
– Однако под надзором. И лишен гражданских прав, пожизненно. А черт с ними, с правами, плевал я на них, не нужно мне от них никаких прав. Но с попом я бы хотел рассчитаться. Через месяц он прибудет сюда, этот ханжа из тюряги. Слыхали, у них тут праздник намечается – двадцать пять лет ихнему приюту?
– Нет.
– Бандиты они все тут. И этот напомаженный хмырь Зайденцопф бандит из бандитов, а уж святоша Марцетус – гад ползучий, еще в десять раз хуже; но самый наиподлейший из всех – заведующий канцелярией плешивый Мергенталь. Сосут нашу кровь, кровопийцы! И вся эта богадельня, и вся их благотворительность только для того и устроены, чтобы эти блюдолизы и пустобрехи могли жрать за наш счет. Я такое мог бы вам порассказать…
– Но вы ведь здесь всего два дня, кажется?
– Разве? Пошли покурим? Курить запрещено, но ведь нас все равно не вышвырнут, покуда у них тут пусто… Выкурим по одной, а дым в форточку, как в тюряге… Насчет того, откуда я что беру и почему могу рассказать… Тут такое дело, знаете… У меня бывают видения… А скажешь тому же попу, он тебе на это: «Идите к себе, Беербоом», или Зайденцопф: «Вы лжете!» И вечером, когда лежу в постели и плачу, я опять вижу разные картины, придумываю вокруг них целые истории, и тогда я проникаю сквозь стены… Потому я и плачу, уж больно мне себя жалко…
– Но теперь-то все уже позади?
– Вовсе нет! Теперь только все и начинается, дорогуша. Причем в сто раз хуже, чем было. Из этого приюта у меня только два пути – либо в психушку, либо обратно за решетку, третьего не дано. Слышите, что это там за шум? Пошли, постоим наверху на лестнице, послушаем, что там стряслось. В окно окурок не выкидывайте, там внизу садик, косоглазая утром наверняка найдет…
Снизу доносится дикий шум. Зычно рокочет бас Зайденцопфа, пронзительно вопит Минна, визгливо голосит госпожа Зайденцопф, и на фоне их всех кто-то четвертый канючит одно и то же нудным голосом…
– Я требую, чтобы вы покинули этот дом, которого вы недостойны, – орет Зайденцопф.
Нудный голос канючит:
– Сжальтесь надо мной, отец1
Куфальт шепчет:
– Это тот самый пьянчужка, Бертольд…
На что Беербоом реагирует весьма странно:
– Какой Бертольд?
– Вы нарушили неприкосновенность жилища! – вопит Зайденцопф. – Причем уже в третий раз!
Глухой удар, как при падении тела на землю.
Женщины хором причитают:
– Боже мой, боже мой, боже мой!
А Зайденцопф:
– Меня вы не проведете…
Его жена взвизгивает:
– Он весь в крови…
А Минна:
– О, мой линолеум! Он же блестел, как зеркало!
Зайденцопф орет:
– Господин Беербоом! Господин Куфальт! Помогите, прошу вас…
В несколько прыжков они скатываются вниз по лестнице. Прямо на полу лежит Бертольд в своем грубошерстном пальто. Рот его открыт, лицо бледное, лоб залит кровью, он без сознания.
– Прошу вас, дети мои, отнесите несчастного в вашу спальню. На лоб достаточно положить холодный компресс. Минна, подайте вашему брату Куфальту полотенце…
Не так-то легко тащить вверх по крутой, тускло освещенной лестнице, покрытой скользким, как лед, линолеумом, человека в глубоком обмороке, чьи конечности будто свинцом налиты и то и дело норовят разлететься в стороны, как шарики ртути.
– Давайте положим его сюда, на кровать рядом с моей, – говорит Беербоом. – Мне будет сподручнее врезать ему по роже, когда проспится… До чего ж люблю такие радости…
– Надо бы сразу сделать ему компресс.
– Еще чего! Из-за какой-то ерундовой царапины? Обойдется! Поглядели бы вы, как меня отделывали в тюряге! Под орех!
– А чего вы, собственно, взъелись на Бертольда? Вроде ничего плохого он вам не сделал?
– Мне бы так нализаться, как он! Просто завидки берут. В последний раз я прилично набрался на Рождество в двадцать восьмом году: пили политуру из столярки…
– Здорово, ребята, – вполне явственно произносит вдруг пьяный Бертольд и садится. – Видать, сверзился чуток шибче, чем хотел. Зато Волосатика в угол припер, – пришлось ему-таки впустить меня сюда! Завтра пастор вправит ему за это мозги!
– Да вы трезвы, как стеклышко, – возмущается Беербоом. – В таком случае подло заставлять других тащить себя по лестнице.
– С чего ты взял? Ну, поддатый я, поддатый, это само собой. Просто я не пьянею, как вы, молокососы. Когда я выпью, мне все нипочем, а вы всего боитесь. Выпив, я способен на все, а вы – ни на что… Слушайте, ребята, шикарная идея: кто-нибудь из вас, – ну, скажем, вот ты, блондинчик-ангелок, – скажешь Волосатику, мол, приспичило выйти за чем-то в город. А сам пойдешь и возьмешь бутылку.
– Бред, – заявляет Беербоом. – После восьми он нас из дому не выпустит, хоть тресни. Да и где взять деньги?
– Где деньги, где деньги? Есть у вас денежки, овечки тюремные. Вы же ради них вкалываете. А я… Поглядите на руки – ничего не держат, такая трясучка напала.
– И ты еще бахвалишься этим, старый пропойца!







