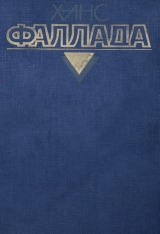
Текст книги "Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
Брун разъяренно сопит.
– Дальше, дальше! – наседает Куфальт.
– Ну, я опять позаботился, чтобы все было как надо. Назад, брак? Думаю, погоди, погоняла! – решил я. – И когда все было сдано и подготовлено к отправке, я ночами, на третью или четвертую ночь, приходил с двумя-тремя ребятами, и мы портили товар, чтоб были рекламации.
– Ну ты даешь! – произносит Куфальт.
– А если они не платят как положено? Что бы ты делал, Вилли?
– Не знаю, – отечает Куфальт. – Рассказывай до конца. Так почему же ты раньше не ревел?
– Эти собаки, конечно, пронюхали, что это моя работа. А ребята, с которыми я это делал, это сексоты. Один меня заложил. А поскольку им известно, что я как-то сказал, будто деревообделочные фабрики хорошо горят, то они и хотят заставить меня бросить работу… И вот прихожу я сегодня и показываю одному чудаку, что он крышки плохо прибивает, а он как кинется на меня с молотком, да как закричит: «Вонючий убийца, тебе ли указывать, да у него кровь на руках! Поляк вшивый». Ну я ничего не сказал и стал спокойно работать. А один возьми и спроси, сколько времени и не пора ли убийце глянуть на золотые часики. А в обед они украли у меня весь плотницкий инструмент, и сегодня после обеда я только и делал, что искал его, ничего не делал, а только слушал разговоры, что с убийцей они работать не будут. А мастер сказал еще, дескать. каждый должен сам следить за своими вещами, фирма ни за что не отвечает…
Брун молчит, уставился в одну точку и молчит.
– Тогда кончай, Эмиль, – говорит Куфальт. – Нет смысла. На жизнь тебе хватит, а может быть, с директором что-то выгорит, и тогда на них наплевать.
– Нет, Вилли, нет, – медленно отвечает Брун. – Тебе этого не понять. Неужели всегда будет их правда, а не моя? Если я уволюсь, тогда…
Он молчит.
– Но если с директором получится, ты ведь уволишься?
– Я часто думаю, – говорит Брун, – все равно из нас ничего путного не выйдет. Иногда думаю: выйдет, а не выходит ведь. – И тихо добавляет: – Иной раз вспомнишь тюрягу, там тебя никто не попрекнет и жратва есть, и работаешь с удовольствием.
– Ты не выдумывай, Брун, – обрывает его Куфальт, – может, недели через две очутишься у столяра и посмеешься над своими паршивыми насестами.
– А если и у столяра будет то же самое? – медленно произносит Брун, – ведь люди чуют неладное, ежели человек в двадцать девять лет в ученики идет…
20
Лютьенштрассе находится в центре города. Ища подписчиков, Куфальт четыре-пять раз на дню бегает по ней. Пересекает ее раз десять – двенадцать.
Вверху, на втором – и последнем – этаже дома, выходящем шестью окнами на улицу, есть зеркальце-шпион. Проходя каждый раз мимо этого дома, Куфальт думает: «Может, она как раз видит меня в него?»
Затем он останавливается у витрины стекольщика, в тридцатый раз рассматривая осенний шедевр «Оленья схватка», и может, она подаст ему знак? Нет, она не появляется.
Напрасно тикают дамские часики в папке, он каждое утро заводит их и снова аккуратно кладет в коробочку. Не получается… Но он возвращается к дому стекольщика снова и снова, наступает декабрь, оленей сменяет картина «Рождественский сон сестрички», а он все ходит и ходит понапрасну. Часы были бы прекрасным подарком на следующий день, а теперь, через полторы недели, это похоже на заискивание, на покаяние, подкуп, уступку.
И все-таки он должен вручить их! Тогда, на следующий же день, у него возникло желание включить в свой список и стекольщиков. А потом он все откладывал и откладывал. Крафт уже интересовался: «Стекольщиков вы, наверное, совсем забыли?» Но говорить с ее отцом в ее присутствии и нести всю эту галиматью о подписке… а тот вдруг возьмет и рявкнет «нет»?
– Вы что же, так никогда и не пойдете к стекольщикам?
– Да нет, отчего же, завтра.
А завтра на очереди неохваченные булочники, есть такой булочник по имени Зюсмильх – молодой мужик с гладким белым, как тесто, лицом и густыми черными бровями, он частенько зазывает к себе Куфальта. «И хотелось бы мне подписаться на вашего „Вестника“. Да только я не вполне убедился в этом. Может, вы придумаете дополнительный довод, который сразу подействует, забегайте ко мне в пятницу…»
Куфальт прекрасно знал, что его просто водят за нос, но в конце дня не преминул-таки навестить Зюсмильха. Осыпанный мукой, мастер, зевая, вышел из пекарни в тапочках на босу ногу, спросил:
– Ну, молодой человек, где ваш главный довод?
– Лучший довод – это мой блокнот, – отвечал Куфальт, – взгляните, какие мастера сегодня подписались на нашу газету!
Зюсмильх смотрел, тер лицо, а Куфальт думал: «Сейчас я мог бы находиться в лавке Хардера».
Нет, Зюсмильх и на этот раз не подписался, в принципе его все устраивало, но сегодня ему нужно платить за муку, до вторника нужно собрать деньги, чтобы подписаться на газету…
– Значит, до вторника, молодой человек!
Сказав это, булочник с заспанным видом отправлялся к себе в пекарню, а Куфальт бежал в редакцию, на Лютьенштрассе он так и не зашел. В конце концов теперь денег хватило бы даже на два билета в кино. Кстати, Фреезе еще сказал, что в кино он всегда может пройти и «так», даже с невестой. Стоит только ему сказать, что он из «Вестника»… Почему, собственно, с невестой? Он решил, что Куфальт сделал выбор в пользу Трены? Но невестой она теплее не станет…
Всегда навеселе, он до сих пор так и не начал работать, хотя почти ежедневно на газету подписывалось больше шести человек. Во всяком случае, на два билета в кино деньги нашлись бы.
«Рождественский сон сестрички»… Особенно забавным был Петрушка, стоявший на краю кроватки. У него было лицо Щелкунчика. Но в дверь лавки было вставлено стекло молочного цвета. А вокруг цветные витражи с красными, синими и желтыми шарами… «Ах, боже мой, не все ли тебе равно, столько лавок и квартир обошел, а в эту заглянуть боишься».
Вот и следующий квартал, кооперативный магазин, зря он себя дрючит… Неужели он так и будет носиться с этими проклятыми часами за шестьдесят семь марок или из-за такой ерунды ему придется заводить другую девчонку?
А все-таки с ней было хорошо!
Ну-ка, кругом! Вперед! Не раздумывая, под пули, бомбы и гранаты, может, она тебя видит в зеркальце, не размахивать папкой, а то часам будет плохо…
Беги, ну, беги, а у лавки притормозишь, остановишься у «Рождественского сна» – и дунешь прямиком в редакцию…
Конец! Сегодня всего пять подписчиков, господин Крафт. Кстати, завтра я пойду к стекольщикам, обязательно пойду!
Зайти! Не зайти! Зайти! Не зайти!
Колокольчик как раззвенелся! Звонит как на пожар! О господи, а Хардер совсем не похож на истязателя! Маленький человечек с большим животом и черной бородой, почти родной брат Волосатика…
– Что вам угодно?
– Я пришел по поручению…
И в этот момент он увидел ее, она стояла чуть поодаль, в глубине лавки, что-то приводила в порядок и не смотрела в их сторону, лицо ее побледнело.
Он совладал с собой, предложение повисло в воздухе.
Бледная? Слезы? Больше никогда-никогда! Не ведаем, что творим. Никогда не ведаем, что творим.
Он взял себя в руки.
– Стекольных дел мастер господин Хардер?
– Да… А вы из какой фирмы?
– Нельзя ли мне переговорить с вами с глазу на глаз?
– Моя дочь не мешает.
– Нет! В данном случае мешает!
– Хорошо, Хильда, поднимись-ка наверх.
– А нельзя ли нам подняться наверх? Мне не хотелось бы говорить в лавке.
– А в чем, собственно, дело? Я ничего не покупаю.
– У меня к вам приватный разговор.
И человечек произносит:
– Хильда, посмотри за лавкой. Можешь в любой момент меня позвать.
Он подчеркивает: «В любой момент!»
Куфальт смотрит на нее, когда она выходит. Губы у нее шевелятся. Он не понимает, что она хочет сказать, но ее лицо, весь облик молит: «Пожалуйста, не надо!»
Они поднимаются вверх по лестнице, в окна вставлены красивые витражи. Внизу – трубач из Зекингена.
На втором этаже – Лорелея. Третьего этажа нет.
Комната с зеркальцем-шпионом у окна служит спальней и столовой одновременно. У окна сидит худая женщина с голубоватым, почти прозрачным лицом.
– Итак! – угрожающе произносит стекольных дел мастер.
И Куфальт вдруг понимает, что этот маленький человечек может ударить.
Женщина, ее мать, приподнялась, чтобы поздороваться с гостем, и снова быстро села на стул, услышав злое «итак».
Нет, он не приглашает его сесть. Они стоят друг против друга, стекольщик сказал «итак», и теперь Куфальт спокойно говорит (странно, здесь он совершенно спокоен, а когда собирает подписку, ему это далеко не всегда удается), он спокойно говорит:
– Меня зовут Куфальт, Вильгельм Куфальт. В настоящее время я служу в «Городском и сельском вестнике», собираю объявления и подписку. Мой доход составляет от двухсот до трехсот марок в месяц…
– И что же? Что? – кричит бородатый коротышка и налившимися злостью глазами пожирает его. – Какое мне до этого дело! Я не собираюсь подписываться на вашу паршивую газету!
Куфальт делает глубокий вдох.
– Я прошу руки вашей дочери! – произносит он.
– Что???
Воцаряется мертвая тишина.
Женщина у окна обернулась и замерла, недоуменно уставившись на молодого человека.
Тот повторяет:
– Я прошу руки вашей дочери.
– Где стул? – кричит бородач, смотрит на стулья, расставленные вокруг обеденного стола, на стоящего перед ним человека, и решает:
– Присядьте-ка. – И снова вскакивает: – Но если вы меня дурачите!..
– Ойген! – предостерегающе кричит жена.
– Как вас зовут? – снова садясь, спрашивает стекольщик.
– Куфальт, – отвечает Куфальт и улыбается.
– Куфальт, да, да. Так вы сказали, что зарабатываете…
– От двухсот до трехсот марок в месяц. Бывает и больше.
– Бывает и больше, – бормочет тот. И неожиданно спрашивает: – Откуда вы знаете Хильду?
– Ойген! – снова предостерегающе кричит жена.
– Это наше дело, – улыбается Куфальт.
Хардер теребит пальцами бороду, встает, снова садится, быстро смотрит на жену, на дверь, шепчет (и голова его словно вползает в плечи):
– И вы знаете о…
– О Вилли? Знаю. Кстати, меня тоже зовут Вилли.
Пальцы застревают в бороде. Маленький человек встает во весь рост, выпрямляется перед Куфальтом, кажется, он становится все больше, грознее.
– Значит, вы и есть тот самый мерзавец…
– Это исключено, – быстро отвечает Куфальт. – Я всего шесть недель в городе. Но мне это не мешает.
– Ему это не мешает, – не понимая, повторяет стекольщик, беспомощно глядя в окно.
– Но может быть, мы сейчас спросим Хильду, согласна ли она?
– Согласна ли она?.. – кричит маленький человечек. – Я вам сейчас что-то покажу! – Он бросается к своему секретеру, роется в ящике, вытаскивает лист линованного картона, что-то пишет на нем и победоносно поднимает его вверх: – Вот!
«Закрыто по случаю семейного праздника», – читает Куфальт.
– Я немедленно повешу это на двери лавки, – торжественно шепчет коротышка. – И прихвачу с собой Хильду.
21
Он ничего не ждал, ибо сам не знал, что когда-нибудь решится на это.
И вот она, очень бледная, застыла у стола, а когда ее отец начал говорить и она наконец все поняла, то закричала:
– Нет, нет, нет!
И тут же обмякла, опустилась на стул и заплакала, да как заплакала!..
Ты можешь стоять рядом. Ты не хотел этого, и то, что ты когда-нибудь женишься на ней, в это ты даже сейчас не веришь. Нет, дело не в тебе. Того, кто так безудержно рыдал от чувства избавления, нарочно не оскорбишь. И все-таки ничего из этого не выйдет, всегда выходит по-другому. Вылезет дело с Бацке, сколько может ее отец оставаться в неведении, здесь, в этом городишке… кто ты такой. Эх, не радоваться бы ей так! Не быть заранее такой счастливой!
– Что у нас сегодня на обед, мать?
Вот идет мать, сама несет свежую кровяную колбасу к чечевичному супу, пусть Хильда посидит со своим женихом. Приносят двухлетнего Вилли, он должен говорить «папа» и есть сладкое. Вино, малага, восемьдесят восемь пфеннигов за бутылку, хорошее, чистое…
Но сколько бы Куфальт ни ел, ни пил, ни говорил, ни смеялся, его не покидало чувство, будто все ему снится: когда она под столом искала его руку, ему казалось, будто вот сейчас старший вахмистр ударит в колокол…
Но тот почему-то не бьет, и Куфальт продолжает грезить и будто во сне говорит, что должен попасть в редакцию, иначе новые подписчики завтра утром не получат свежих газет, а у него впервые всего пять подписчиков…
И, басисто похохатывая, стекольных дел мастер Хардер, Лютьенштрассе, 17, подписывается на паршивую газету, нарушив тем самым свое слово и задолжав своему зятю марку двадцать пять.
– Я это вычту у тебя из приданого, Вилли.
Хильде разрешают проводить его до редакции…
Там Куфальт возбужденно рассказывает о том, что он сделал, и просит господ держать язык за зубами и дать хороший отзыв о нем, уж он сам как-нибудь обо всем расскажет… в подходящий момент… И тут его сон грозит оборваться, потому что оба смотрят на него как-то странно, а Фреезе совсем некстати вдруг спрашивает, как бы в ответ:
– Печка вам не мешает? Вам не очень жарко от нее?..
Но Куфальт все еще во власти грез, потому что Хильда берет его под руку; пока суть да дело, она решила, что нужно что-нибудь сказать, вот она и говорит:
– Ты такой хороший! Правда, ты понял, почему я тогда плакала?..
И вот часы переданы, а в ювелирном магазине Линзинга куплены кольца. Наступает вечер, приходят родственники, скромно, но с чувством и тактом празднуется помолвка, во время которой тетушка Эмма переглядывается с тетушкой Бертой…
Наконец он отправляется домой, ложится в постель, грезы кончились, он просыпается, плачет: что я наделал!
22
И все же несмотря на расстройства этот декабрь стал самым счастливым, волшебным месяцем в жизни Вилли Куфальта.
Как-то раз господин Крафт заметил ему:
– Не знаю почему, но в этом году рождественские объявления не дают тех сборов, что прежде. А почему бы вам, Куфальт, не отправиться за объявлениями?
И Куфальт отправляется за объявлениями.
С восьми часов утра он обходит все крупные лавки, универмаги, ювелирные, трикотажные, галантерейные, гастрономические и винные магазины, москательные лавки, предлагая купить шестнадцатую и даже тридцать вторую часть страницы. А три или четыре раза ему удавалось продать страницу целиком, иногда полстраницы, а в субботу он подвел итог с господином Крафтом и получил свои сто восемьдесят, нет, двести марок гонорара. «Ведь вы зарабатываете в два раза больше, чем Фреезе, Куфальт! Не говоря уже обо мне».
Да, Куфальт попал в полосу везения, оказалось, что тюремная жизнь принесла и кое-какую пользу. Там он научился упорству просить и клянчить, отказ не обескураживал его, приставая к вахмистрам с разными пожеланиями, он показал себя испытанным бойцом слова – ему это теперь пригодилось!
Когда он объяснял господину Левандовскому, хозяину маленького универмага в северном предместье, что тот ни в коем случае не должен отстать от конкурентов и что осьмушка страницы просто позор для такого прекрасного магазина, а вот шестая часть или даже четверть страницы могла бы удвоить рождественские доходы…
Когда он бежал дальше, рассматривая каждый фасад, читая каждую вывеску, и неожиданно заявлялся к слепому обивщику стульев, которому продавал шестнадцатую часть страницы, ведь к Рождеству все хотят привести стулья в порядок…
Когда он в пол-одиннадцатого, тяжело дыша, ввалился в типографию и, не обращая внимания на протесты кричащих наборщиков, требовал, чтобы добавили еще три четверти объявлений (и газета все-таки выходила в полпервого)…
Когда он вместе с Крафтом и Фреезе, дрожа от нетерпения, ждал фройляйн Утнемер, приносившую газету конкурентов, набрасывался вместе с ними на страницу объявлений, и Крафт при этом с упреком замечал: «Они все-таки получили четверть страницы от Хазе, а мы нет!», он резко отвечал: «Заходил сегодня утром, а он мне сказал, что еще не хочет давать объявление, старый дуралей, сегодня после обеда снова пойду к нему, а вот Лене дал объявление только у нас и Вильмс тоже…»
Тогда его переполняло чувство силы и веры в себя.
Наконец-то удалось забыть тюрьму. Куфальт на что-то годился, Куфальт что-то умел, и даже проспиртованный упырь Фреезе своими россказнями о холодной Трене не мог вывести его из равновесия…
У него завелись деньги, а когда рождественская суета кончилась, наступил Новый год, а с ним пришел и черед объявлений винных магазинчиков, булочников о выпечке пончиков, хозяев пивных о танцах. В январе началась распродажа: так весь этот долгий хлебный год он провел в трудах праведных.
Когда часы били шесть, он летел домой, надевал новый костюм, брился, а затем – свободный человек – в приподнятом настроении шел по улицам города. У мясника Голденшвейгера покупал ливерные сардельки для тещи, а у табачника десять бразильских сигар для старого Хардера или какую-нибудь игрушку для мальчугана, и все торговцы были с ним чрезвычайно любезны, говоря: «До свидания, господин Куфальт. Благодарю вас, господин Куфальт».
К тестю и теще он никогда не являлся без подарка, и старый Хардер был абсолютно прав, говоря жене, что мир сошел с ума, если такая девушка, как Хильда, которая с кем только не гуляла, выходит замуж за приличного, хорошо зарабатывающего человека, ведь, по сути, это грех и позор и против воли божьей.
А вот зятя своего старый Хардер любил, и целыми вечерами они болтали друг с другом, а женщины тихонько сидели рядом и шили прнданое.
Старый Хардер рассказывал о торговцах, о том, что Куфальту следовало бы поговорить с Томсоном о сахарном диабете, а у Лоренса полюбоваться кактусами в окне, что выходит на улицу.
Он знакомил его с жизнью города, ибо знал все городские скандалы за последние сто лет, заботливо передаваемые из уст в уста. И потому он мог сказать наверняка, отчего у молодых Левенов ребенок родился слабоумным, ведь у дедушки Левена с матерью жены господина Левена, урожденной Шранц…
Да, Куфальт был прекрасным слушателем всех этих намеков и историй, его мозг жадно впитывал и запоминал их, а Хардер нарадоваться не мог на своего зятя. Нет, хоть Хильда и впрямь этого не заслужила, но уж он-то постарается, чтобы в приданом недостатка не было, хотя…
Но что-то смущало старого Хардера. Что-то было не так с этим старательным молодым человеком. В его старой по-житейски умной голове не укладывалось, почему такой человек, как Куфальт, женится именно на девушке с ребенком, которая и красавицей-то не была. Большая любовь? Так ведь нет, и любви-то особой не было!
Он сидел в сумерках, наблюдая, как маленький и большой Вилли играют друг с другом на ковре, как они переворачиваются, хохочут, дурачатся, играют в лошадку: двое детей, двое неразумных шалящих детей. Вдруг мальчик сказал «папа», и Куфальт откликнулся, не отмахнулся, не поморщился – это было против правил, тут что-то было не так.
Ночью старый Хардер часами ворочался в постели, все думал. Ему хотелось встать, пойти в комнату, в ярости стукнуть кулаком по столу, крикнуть: «Черт возьми, скажите же наконец, что с вами!»
Однако же он этого не делал, а долго лежал, не сомкнув глаз, пока не слышал, как тихо щелкала ручка двери, и оба шли вниз, и хлопала входная дверь. Может, она его действительно отправила домой, а может, нарочно хлопнула дверью, а сама взяла его в маленькую темную комнатку во дворе, где жила с дитем после своего грехопадения. Только ему, старому Хардеру, теперь было все равно, ведь теперь-то она уж будет осторожна, и потом помолвка есть помолвка. Но хуже всего было то, что он был твердо уверен: зять действительно направлялся домой, а не к ней в комнату, и это, по его мнению, было самое ужасное.
Он был прав, она не пускала его к себе в комнату, а если такое случалось, то только для того, чтобы еще раз постоять у детской кроватки, как тогда, в первую ночь, еще раз, держась за руки, взглянуть на ребенка, ее голова покоилась на его плече, картина, похожая на рисованную фотографию, а за окном ночь, и город притих, как притихла жизнь – терпи! Терпи! Сердце тихо бьется, ночь тиха, вздохи, тишина.
– Пойдем, я хочу домой.
– Спокойной ночи, Вилли.
– Спасибо, и тебе спокойной ночи.
Быстрый поцелуй и прогулка домой по пустынным декабрьским улицам, где стекла уличных фонарей дребезжат от ветра. Может, еще три, четыре рюмочки водки за стойкой, чтобы побыстрей, безо всяких мыслей, заснуть.
А на следующее утро снова за объявления, веселая погоня за деньгами, разговоры, уговоры, стояние в лавках, и наконец, снова вечерняя дорога к ней…
Напрасно отец пытался представить себе, о чем они там говорят и чем занимаются в комнате: они не занимались ничем. Как-то раз Хардер спросил дочь, что они так расшумелись, и Хильда объяснила:
– Вилли читал мне стихи.
– Стихи?!! – переспросил Хардер, еще раз удивившись, где это его дочь научилась так бесстыдно и нагло врать.
А Хильда сказала правду, Куфальт действительно декламировал стихи.
Та ветреная ноябрьская ночь с шалашом была далеко в прошлом, о ней нельзя было даже вспомнить, иначе пришлось бы устыдиться. Теперь они сидели рядышком на диване в уютненькой, хорошо натопленной комнате, как настоящие жених и невеста, он рассказывал о своем дне, рассказывал о Фреезе и Крафте, о машинистке Утнемер, гулявшей – сам видел – с новым кавалером. Но вскоре говорить было уже почти не о чем, большую часть он ведь уже успел рассказать своему тестю.
А когда они поговорили о будущей квартире и об обстановке, о двух смежных комнатах с кухней, темы разговоров и вовсе иссякли. Держась за руки, они молча сидели рядом на бархатном диване, он сидел совершенно прямо, уставясь на лампу, а Хильда все склоняла к нему свою голову, желая припасть к его плечу, приласкать его.
Затем он целовал ее раз или два и, успокаивая, говорил: «Да, дорогая. Все идет хорошо, Хильда, я знаю». И думал, о чем бы еще поговорить с ней, а грудь ее была от него так близко, и теперь он мог делать с ней все что хотел, но нет, больше никаких шалостей. Нужно блюсти порядок, нужно зарабатывать деньги, остепениться. Жить честно – ведь ему не хотелось осрамиться перед Хардером, Фреезе и Крафтом. Он облегченно вздохнул, когда она намекнула ему, что все в порядке, ничего не случилось, перед Пасхой они собиралнсь пожениться, а случись что, все принялись бы тыкать пальцами, высчитывать, говорить: «Так вот в чем дело!»
Нет, нет, дело вовсе не в этом!
Она ходила бледная, с темными кругами под глазами, и было ясно: она ничего не понимала.
Однажды у нее вырвалось: «Вилли! Вилли! Почему ты на мне женишься? Только потому, что я тогда больше не пришла? Ты ведь меня совсем не любишь!»
А он успокаивал ее, баюкал в своих объятиях, говоря, что он все делает правильно, и она когда-нибудь все поймет.
А затем они снова сидели молча, лампочка продолжала гореть, и они не знали, о чем говорить. Вот тогда-то он вспомнил о детстве.
Оно вписывалось сюда, в эту по-мещански уютную комнату, в это пристойное поведение до свадьбы. Оно вписывалось в этот кусок его жизни – преступление, суд, тюрьма вычеркивались из биографии, – он снова начинал там, где кончалась нормальная жизнь.
Стихи, да, стихи, но не только они. Иногда они сидели вместе и напевали песню, напевали тихо, чтобы родители не слышали в спальне:
«О просторы, о горы…»
«Эннхен из Тарау…»
«Кто тебя, прекрасный лес…»
И их лица светлели, ее маленькая ножка в открытой туфельке торопливо отбивала такт, на окнах мирно колыхались белые занавески, а он говорил:
– Теперь дай-ка попробую сам… – и он пел «Беатус илле гомо…» или «Гаудеамус игитур…».
Вернулись годы, проведенные в гимназии, а она во все глаза смотрела на него.
Подошло Рождество, и жених с невестой, как положено, стояли со свечами в руках под елкой, и маленький Вилли играл у их ног игрушечным паровозом, старый Хардер подарил зятю кошелек из телячьей кожи с блестящей монеткой, на которую он три раза плюнул: «Чтобы деньжата у вас не переводились», а фрау Хардер подарила ему кашне.
Хильда не подарила ничего, она лукаво улыбалась, щеки ее рдели, она была очень счастлива, и все выглядело на удивление мирно и складно: и посыпанный сахарной пудрой рождественский пирог, и тушенный в пиве карп, будто на свете не было ни опасностей, ни преступлений, ни нужды, ни тюрем, ни наказаний.
23
И неудивительно, что в эту счастливую пору Куфальт почти не думал о Малютке Эмиле Бруне, честно говоря, он даже избегал его.
Он больше не заглядывал к нему, а когда Брун приходил к Куфальту, того либо не было дома, либо он очень торопился, переодевался и снова исчезал.
Но как-то перед самым Рождеством Брун, сидя в большом обитом плюшем кресле, наблюдал за подобным переодеванием.
Он выглядел меньше ростом и полнее обычного и был чем-то сильно озабочен. «Он из той породы людей, что с горя толстеют», – неожиданно решил Куфальт.
– Правда, что ты гуляешь с Хильдой Хардер?
– Да, Эмиль.
– И ты с ней обручился как положено?
– Да, Эмиль.
– Для блезиру или всерьез?
– Всерьез, Эмиль.
– А малыш?
– Симпатичный малыш, Эмиль, он мне страшно нравится.
– Они знают о тебе?
– Нет, Эмиль.
– Ты им расскажешь?
– Пока не буду, Эмиль.
– Мне ты как-то заливал, что нужно об этом сразу сказать.
– Никогда не знаешь, как получится.
– Значит, все-таки для блезиру!
– Нет, на полном серьезе.
– Почему же ты им тогда не расскажешь?
– Как-нибудь расскажу.
– Когда?
– Скоро.
Куфальт очень тщательно бреется, может быть, поэтому он отвечает так односложно. Но вот он закончил бриться, поправил рубашку, воротничок и галстук, и вот уже он задает вопросы.
– Ты все еще работаешь на фабрике, Эмиль?
– Что?.. – вздрагивая, переспрашивает Брун.
Куфальт смеется.
– О чем ты сейчас думал, Эмиль? Я спросил, работаешь ли ты на фабрике.
– Да, – односложно отвечает Брун и снова погружается в свои мысли. Затем он спрашивает:
– Вилли, а если кто-нибудь расскажет Хардерам, что ты сидел?
– Кто же им расскажет?
– Ну, кто-нибудь, например, вахмистр.
– Да ведь охранники не имеют права ничего рассказывать. Ведь это служебная тайна.
– Или какой-нибудь вор.
– А зачем вору рассказывать? Он ведь ничего не выиграет от этого.
– Может, старый Хардер даст ему на выпивку за то, что он его предостерег?
Куфальт напряженно думает, выпячивает нижнюю губу, разглядывает себя в зеркальце, пробует, гладко ли выбрит подбородок, и думает, думает.
Он долго не отвечает Эмилю Бруну. А когда снова заговаривает, вместо ответа сам спрашивает:
– Ты ходил к старику, Эмиль?
– Да, – сказал Эмиль.
– Ну и?
– Ерунда.
– Почему ерунда? Да или нет?
– Очень дорого.
– Он сказал, да?
– Я ему сказал, что скопил пятьсот марок и хочу их внести.
– А он что сказал?
– Сказал, что попробует.
– Значит, все в порядке.
– Да нет.
– То есть как это не в порядке?
– Потому что нет у меня пятисот марок.
– А сколько ты отложил?
– Нисколько не отложил.
– Зачем же ты тогда говорил, что у тебя они есть?
– Потому что думаю, что они будут, Вилли.
Куфальт медленно надевает пальто, затем смотрит на себя в зеркало, расправляет сзади пиджак, берет шляпу.
– Ну я пошел, Эмиль.
– Я провожу тебя немного, Вилли.
– Хорошо, Эмиль.
Вот они идут, говорят обиняками. Брун очень хочет сказать все, но не знает, с чего начать. А Куфальт ведет себя странно. Ведь знает тюремный закон: пополам или заложу. Знает, что это нормальная сделка.
А Куфальт зол и очень расстроен. Разве он не любил по-настоящему Малютку Бруна? Да, кажется, он его действительно любил и никогда-никогда бы не подумал…
– Знаешь, Вилли, – пытается объяснить Брун, – я уйду с фабрики, этого никому не выдержать, понимаешь?
– Да, да, – произносит Куфальт.
– Иначе что-то случится.
– Да, да, – повторяет Куфальт, погруженный в собственные мысли, – ты наверняка не так поговорил с директором.
– Ты ведь и сам можешь поговорить с ним, Вилли!
– Нет, нет, – со значением произносит Куфальт. – Знаешь, в такие дела я больше соваться не буду, понимаешь, Эмиль?
Он останавливается.
– А теперь я пойду на Лютьенштрассе, Эмиль. На Лютьенштрассе семнадцать живет мой тесть. Да ты ведь знаешь, где его лавка, Эмиль.
Но он все еще стоит и смотрит на тюленью голову Малютки Бруна.
– Кстати, мне на все плевать, Эмиль. Хильда совершеннолетняя, и я, Эмиль… – Куфальт наклоняется и таинственно шепчет Бруну, – я постарался застолбить ее, понял?
Неожиданно ухмыльнувшись, он смотрит на Бруна, громко хохочет и, не оглядываясь, направляется к дому Хардеров. «Иду ко дну, тут уж ничего не поделаешь», – думает он.
24
После Рождества рекламных объявлений поубавилось, и Куфальту снова пришлось заняться подписчиками, чтобы хоть немного заработать. Это было тяжело. Одно объявление без труда давало пять, восемь и даже десять марок комиссионных, а тут ему приходилось за марку двадцать раз тараторить без умолку, и четыре попытки из пяти обычно заканчивались неудачно.
Потому что всех ремесленников, которые были сравнительно неплохими клиентами, он уже обслужил. Теперь ему приходилось ходить по домам, обходить улицу за улицей. Никогда он не знал наперед, что за люди живут за дверью, в которую он звонил, что ему сказать, чтоб понравиться им. Бывало, выйдет какая-нибудь недоверчивая женщина, на которую самое приятное обхождение не действует, и, не снимая цепочки, не слушая его, просто хлопнет дверью: «Нам ничего не нужно».
Но случалось и так, что совершенно неожиданно у жены какого-нибудь рабочего-коммуниста ему везло, и он уговаривал ее подписаться. А когда вечером возвращался в редакцию «Вестника», то оказывалось, что там уже побывал муж и со скандалом вытребовал деньги назад: они-де читают социалистическую газету, а не буржуйское дерьмо. Попадись ему этот пройдоха, он ему все кости переломает. Ишь, сволочь, ходит, глупых баб облапошивает!
А Крафт мягко выговаривал, что, дескать, не нужно бы Куфальту так наседать, на что Куфальт раздраженно отвечал: не думает ли господин Крафт, что люди прыгают от радости, если им разрешают читать «Вестник»?..
Но вот наступили последние декабрьские деньки, и опять появились объявления. К Новому году Куфальт набрал две с половиной страницы. Но ему пришлось попотеть и ко всему прочему обегать еще и магазины игрушек с их пиротехникой и посудные лавки с их новогодними подарочными тарелками. К этому добавились еще и сердечные поздравления дорогих покупателей с новогодним праздником.
С кислой улыбкой Крафт снова выплатил Куфальту деньги – двести пятьдесят марок, не преминув заметить: «Как попало, так и пропало».
Но Куфальту на это было ровным счетом наплевать. Во-первых, скоро начнутся распродажи, а во-вторых, у него теперь была настоящая сберкнижка, и на сберкнижке числилось, несмотря на все подарки, больше тысячи марок. Нет, не пропало!
И вот Куфальт, вымытый с ног до головы, аккуратно одетый, с чистыми ногтями, в праздничном настроении пришел к Хардерам, выпил несколько рюмок разбавленного пунша и с удовольствием услышал, как фрау Хардер в полдесятого сказала:







