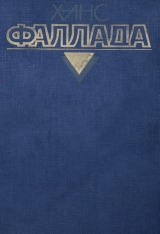
Текст книги "Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 36 страниц)
– Новый кальфактор? – удивляется Куфальт. – Разве теперь у нас новый? Я его еще и в глаза не видел.
– Трепня! Пудри мозги кому другому! Десять минут пробыл у них в камере!
– Что вы, господин главный надзиратель, я сегодня выходил из камеры только на прогулку!
Главный надзиратель задумчиво проводит пальцем по крыше шкафа. Осматривает палец – не сказать, чтобы недовольно, – потом обнюхивает его, но нет: на шкафу нет и намека на пыль. Он спохватывается и направляется к двери.
– Значит, так: заработанные деньги – через благотворителей.
Куфальт судорожно соображает: «Если сейчас ничего не скажу, он уйдет, и я смогу притырить сотнягу, но зато завязну у благотворителей. А заложу этих двоих, потеряю сотню, зато послезавтра получу свои кровные на бочку. Правда, тоже не верняк».
– Господин главный надзиратель…
– Ну?
– Был я у них в камере.
Тот стоит молча, ждет. Наконец не выдерживает:
– Ну и что?
– Он получает для толстяка-еврея письма. Стоило бы там у них пошмонать.
– Только письма?
– Не за красивые же глаза он это делает.
– Знаешь что-нибудь?
– А вы пошмонайте, господин главный надзиратель. Сегодня же, да прямо сейчас – найдете кое-что стоящее.
Дверь распахивается:
– Куфальт, к врачу!
Куфальт молча глядит на Руша.
– Дуй! – милостиво разрешает тот. – Птицы здесь все как одна дохнут.
«Этой падле – мастеру – я здорово вмазал, – думает Куфальт, спускаясь по лестнице. – Некогда будет в моей камере ковыряться. Господи, да что я, теперь же это без разницы! А сотняга-то все еще при мне, проклятье!»
6
Перегнувшись через перила, надзиратель глядит Куфальту вслед:
– Поторапливайся, Куфальт! Чего мнешься, будто дорогу забыл? Небось частенько к врачу заглядывал!
«А вот и нет, – думает Куфальт. – С тех пор как он на меня настучал за симуляцию, – я разодрал палец и не мог вязать сети, – и трех раз у врача не был. И вовсе я не симулировал и палец на самом деле раскровянил».
Нет, похоже, шансы притырить куда-нибудь кредитку равны нулю. Во всех коридорах толпится народ. Кто на прием к директору, кто к инспектору полиции, кто к инспектору по труду, к врачу, к пастору, к воспитателю – во всех секциях лязгают замки, звякают задвижки, бегают тюремщики со списками, плетутся арестанты в синих мешковатых штанах.
«Все-то у меня выходит вкривь и вкось. Раз в кои веки наберусь храбрости и отхвачу кус, а все равно настоящим вором никогда не стану…»
Внизу его приветствует старший надзиратель Петров, старый поляк из Познани, еще с довоенных времен служащий в тюряге, любимец всех заключенных.
– А, Куфальт, старина, отбарабанил свой срок? Видишь, пролетел как один миг! И зачем только главный предоставил тебе камеру? Мог бы и на лестнице отбыть это времячко! Сколько, сколько? Пять лет? Ну, Куфальт, дружище, время и впрямь несется как угорелое; зато как твоя милашка обрадуется тому, что ты для нее сберег!
Толстяк Петров радостно хмыкает, арестанты одобрительно ухмыляются.
– Нет-нет, брат Куфальт, стань-ка вон там, браток. Не рядом с Бацке, а то начнете болтать. Главный-тο зыркает из своей стекляшки, так и зыркает, так и зыркает! Давай-ка вот сюда и чтоб три шага дистанция. Эй, новичок-очкарик, куда собрался? Ишь разлетелся на всех парах! В Гамбург захотелось? Побудь с нами, сынок, постой, отдохни малость… Дальше ходу нету.
Чуть ли не три десятка арестантов столпились уже у врачебного кабинета в ожидании осмотра, а из всех секций тюрьмы все подходят и подходят жаждущие приема. Куфальт углядел в толпе Малютку Бруна и издали дружески машет ему рукой.
– Ну, сегодня опять простоим тут до скончания века, – жалуется он спине стоящего впереди. – И жратва наверняка простынет, пока мы тут толчемся. А ведь сегодня на обед горох.
Сосед спереди оборачивается. Это долговязый доходяга в немыслимом тряпье: штаны – сплошь из синих и голубых заплат, кургузый жилет, из-под которого торчит рубаха, и куртка с рукавами до локтей. Венчает все это маленькая головка тыковкой с испитой и злобной физиономией.
– Ну и вырядили же тебя, – говорит Куфальт. – Наверно, не потрафил кастеляну. На сколько загремел?
– Вы ко мне обращаетесь? – спрашивает долговязый. – Разве здесь можно разговаривать?
– Ясное дело, нельзя. Можешь спокойно мне «тыкать», наши параши в одно место сливают. Так на сколько ты загремел?
– Приговорили к двум годам тюрьмы. Но я невиновен, двое свидетелей оклеветали меня под присягой. Я уже подал ходатайство прокурору.
– Ну, попав за решетку, мы все плетем, что нас оклеветали, – утешает его Куфальт. – Дело знакомое. Когда ты сидел под следствием, перед судом, какая буква была написана на твоей табличке?
– На какой еще табличке? А, над дверью камеры? При чем здесь это? Ну, буква «П» – подследственный.
– Мура. «П» – значит «подозреваемый». А что теперь написано у тебя на табличке над дверью?
– «В». Это буква моей секции.
– Опять мура. «В» – значит «виновен»! Все проще пареной репы. Раз загремел, значит, виновен, и все дела, и толковать не об чем. Приговор есть приговор. Так что насчет лжесвидетелей кончай вешать нам лапшу на уши, с нами этот номер не пройдет. А будешь продолжать, имеешь шанс нарваться на таких, которым эта лажа не по вкусу придется.
– Позвольте, позвольте, я действительно невиновен, жена и мой поверенный получат за лжесвидетельство несколько лет тюрьмы. Послушайте же, я вам сейчас все расскажу…
Но до рассказа дело не доходит. Из стекляшки разносится по всему зданию громкий металлический звон.
– Господин Петров, извольте обратить внимание: этот долговязый, Мендель, все время треплется с Куфальтом.
Петров злобно набрасывается на «невиновного»:
– Ты что, в зубы захотел? Ах ты, верзила, гад ползучий! Ты что себе думаешь? Это тебе не хедер! А ну, марш в карцер, левой, правой, левой, правой, поговоришь там на свободе с решеткой, пока врач не вызовет! Ишь язык распустил!
Щелк, щелк, дверь камеры захлопывается, долговязый новичок, вконец растерянный, исчезает за ней, а Петров, проходя мимо Куфальта, быстро шепчет, излучая доброжелательность:
– Здорово в штаны наклал, новенький-то? Ну как, нагнал я на него страху? Сынок, не води с ним дружбу, этот подонок то и дело шляется к директору и инспектору и выкладывает все, что услышал.
И Петров уже далеко впереди. Там стоят в стороне от остальных двое бравых молодцов в коричневом, – видимо, каторжные, ждут здесь пересылки. Эти двое под шумок успели сделать три шага к остальным и сошли с линолеума на натертый цементный пол – наверное, хотели поговорить со здешними обитателями, может, разжиться табачком…
– Стоять, где стояли, господа хорошие, на линолеум, прошу на линолеум! Попрошу вот сюда!
Каторжане не удостаивают его взглядом, оба стоят, глядя в одну точку прямо перед собой, будто ничего не слышат, и с места не двигаются. Куфальт опять отмечает про себя, что эти совсем по-другому обращаются с начальством. Здешние заключенные стараются втереться в доверие, чуть ли не набиваются в приятели, а каторжане тюремщиков как бы не видят, они для них пустое место.
Тут Петров уже всерьез бесится:
– А ну, на линолеум! На линолеум!
Те двое по-прежнему ничего не видят и не слышат. Однако вроде бы невзначай делают шаг назад, потом другой, третий и оказываются на линолеуме. Надзирателя они как бы вовсе не видели.
Дверь в лазарет открывается. Появляется главный больничный надзиратель в белом халате:
– Начинаем прием!
– По двое в лазарет! Марш! – рявкает Петров.
И в тот же миг рушатся тишина и с таким трудом восстановленный порядок. Полсотни арестантов с шумом и гамом втискиваются в узкий коридорчик с лесенкой, ведущей в лазарет. Петров старается не потерять из виду хотя бы тех двоих, в коричневом, но они тут же смешиваются с толпой местных арестантов, с кем-то заговаривают, что-то хватают…
– Ну, погодите! Все равно обыщу и отберу табак, собачьи души! Эй ты, отвали от них! А вы оба – сюда!
– По двое разберись! Лицом к стене, спиной друг к другу! Обувь снять и поставить рядом! – командует главный больничный надзиратель.
Все повинуются, кого-то вызывают, один из арестантов исчезает за дверью врачебного кабинета, вслед за ним туда же проскальзывает и надзиратель.
– Сегодня опять будут тянуть резину до скончания века, – шепчет Куфальт Малютке Бруну, оказавшемуся теперь рядом.
– Как знать, Вилли, – тоже шепотом отвечает тот. – Раз на раз не приходится. Иногда больше полсотни за полчаса пропускают. Слышишь, уже завелись.
Из кабинета врача доносятся ругань и крик, дверь распахивается, вылетает красный от бешенства пациент.
– Но я же в самом деле болен! Я буду жаловаться в управление! Я этого так не оставлю!
– Да ладно, идите уж, идите! – подталкивает его в спину надзиратель.
– Симулянты проклятые! – слышен крик врача. – Я вам покажу! Следующий!
– Похоже, нынче дело не выгорит, – произносит Бацке, оказавшийся тоже рядом с Куфальтом, но по другую руку. – Уж коли на первом так завелся…
– По крайней мере, до нас очередь быстрее дойдет. Хочу еще в футбол поиграть. Ты небось тоже?
– Пока не знаю. У меня сало все вышло, придется раздобывать.
– А что – раздеваться догола придется? – спрашивает Куфальт.
– В Фульсбюттельской тюрьме догола требовали. А как тут у вас, в Пруссии, не знаю, – отвечает тот.
– Чепуха, – шепчет Брун с другой стороны. – Ничего врач не будет смотреть. Он на нас и не взглянет.
– Не верю, – отвечает Куфальт. – В Уголовном кодексе написано, что перед освобождением заключенных положено тщательно обследовать на предмет установления здоровья и трудоспособности.
– Мало ли что там написано.
– Значит, ты считаешь, не придется нам раздеваться?
Бацке шепчет
– Ну, Куфальт, выкладывай, что ты там стибрил и на себе прячешь? Либо бери в долю, либо…
– А ну тихо, разболтались, как бабы, – кричит Петров. – Не то ключами по шее съезжу!
– Господин старший надзиратель, можно в уборную? В животе что-то режет и пучит! Да и врача до смерти боюсь! – ухмыляется Куфальт.
– Ладно уж, сходи, оправься, старина. Вон в ту, ближнюю. Смотри, не кури там, а то запах останется, доктор будет ругаться.
– Будьте спокойны, господин старший надзиратель.
Куфальт заскакивает в уборную и прикрывает за собой дверь.
На всякий случай он спускает штаны, но потом, заслонив спиной глазок, быстро вынимает из шарфа банкноту и сует ее поглубже в носок («Так-то, Бацке, нечем нам с тобой делиться»), потом приводит себя в порядок, спускает воду и вновь становится в строй.
Петров приоткрывает дверь уборной, всовывает голову в щель, принюхивается и удовлетворенно возвращается на свое место.
– Не курил, не дымил, молодец, Куфальт.
Куфальт искренне тронут этой похвалой.
Однако Бацке не отстает:
– Ну, Куфальт, друг, как сделаем – явишься к доктору с товаром или мне придется?..
И Куфальт решается на ответный удар:
– А у тебя как дела с толстым евреем и голой девкой в окне? Так что, друг, отвали, не на такого напал!
– Ага, понял! – ухмыляется Бацке. – Ты тоже взял этого дурня за жопу! Чисто сработано! Чисто!
Из угла доносится раздраженный голос:
– Сколько нам еще здесь стоять на холодном полу в одних носках? Черт те что вытворяют! Буду жаловаться!
Петров отвечает с ухмылкой:
– А, господам-каторжанам что-то не по нраву? Так доктор распорядился. Ничем не могу помочь, господа хорошие. Жалуйтесь ему самому.
– Я бы тоже не прочь выяснить, – тихонько говорит Куфальт Бруну, – зачем заставляют стоять в носках на каменном полу. Сколько раз уже именно после этого долго кашлял.
– А затем, чтобы не поцарапать линолеум в кабинете, – отвечает Бацке.
– Какое там, – возражает Брун, который всегда все знает. – Дело в том, что шесть или восемь лет назад один арестант запустил деревянные сабо врачу в голову. С тех пор и заставляют снимать обувь за дверью.
– Безобразие! – ворчит Куфальт. – Пускай мы все тут простудимся, лишь бы…
– Они нас всех тут за скот держат, – вмешивается Бацке. – Вот выйду на волю, покажу им, какой я скот!
Толпа заключенных перед дверью кабинета таяла быстро, как снег на солнышке, – скандалы случались все чаще, крик поднимался все громче, слышались то возмущенные протесты, то слезные мольбы, но кончалось и то, и другое одинаково: мускулистые руки главного больничного надзирателя выталкивали пациентов за дверь. Петров препровождал их дальше, сочувственно выслушивая жалобы и радуясь, что хотя бы для них прием у доктора окончен. Остались на очереди только двое каторжан да те, у кого срок отсидки истек.
– Ручаюсь, сейчас опять начнут скандалить, – утверждает Куфальт.
– Не думаю, – сомневается Брун. – Вроде бы не с чего.
Через пять минут те двое выходят из кабинета врача, лица их по-прежнему невозмутимы, но из-за их спин вдруг появляется собственной персоной сам господин доктор.
– Главный больничный надзиратель сию минуту принесет вам лекарство. Да, и вату, конечно, о чем речь?
– Знают свое дело ребята, – завистливо произносит Куфальт.
– Да при чем тут это, – замечает Брун. – Просто доктор трус, каких мало. Может, у них пожизненное – чем они рискуют, если засветят ему по роже? Пожизненное, оно и есть пожизненное. И доктор прекрасно это знает.
– Кругом! Смотреть на доктора! Господин доктор, вот люди, которых на этой неделе выпустят!
– Хорошо! – Доктор и глаз на них не поднимает. – Можете их увести. Все здоровы, все трудоспособны.
– И ради этого мы торчали здесь битый час, – говорит Брун.
– Я на него напишу куда надо, дай только выйти, – заявляет Куфальт.
– Со скотом и обращение скотское, – ухмыляется Бацке. – Этот живодер прав!
7
Вернувшись в камеру, Куфальт опять начинает бурлить и злиться. Потому что за это время разнесли обед и его миску наполнили. Но супу налили только один черпак! Жмоты проклятые! В последние деньки, да еще голодать. И как назло суп-то гороховый, он так его любит!
Но потом, когда Куфальт уже сидел за столом и лихорадочно хлебал из миски (ему пришлось глотать не жуя, потому что в любую минуту мог прозвонить колокол – сигнал на прогулку третьей категории), он вдруг почувствовал, что с еды его воротит. Так с ним уже бывало не раз за эти годы: неделями, месяцами не мог заставить себя проглотить тюремную баланду.
Без всякого аппетита он уныло помешивает ложкой суп – может, попал туда ненароком кусочек свинины? Но нет, пусто.
Он выливает суп в парашу, ополаскивает миску, отрезает ломоть хлеба и намазывает топленым салом со шкварками. Сало у него вкусное, душистое, арестанты из портняжной мастерской в первом этаже перетапливают ему сало с луком и яблоками на печурке для утюгов. Они относятся к нему по-приятельски, забирают за свою работу не больше четверти с каждого фунта, другим приходится отдавать половину или даже три четверти, а новичкам вообще достается шиш. Дескать, главный засек и все сало отобрал. А они, мол, еще всю вину на себя взяли. В общем, наврут с три короба. Да что с них возьмешь!
Куфальт сидит на табурете и зевает. Больше всего на свете ему хочется сейчас завалиться на койку, но главный с минуты на минуту может ударить в колокол, давно вроде бы пора.
Как медленно тянется время в эти последние недели и дни! Оно просто не идет! Стоит, и ни с места, как приклеенное, не идет, и все тут. Раньше-то он старался каждую свободную минуту вязать сети, но теперь его от них с души воротит, не дотронется больше, в руки не возьмет! И вообще ничего больше не хочется. Даже на волю. Вернер наверняка ничего ему не пришлет, и придется вымаливать у попа место в приюте.
Самым лучшим выходом был бы какой-нибудь приличный верный заработок, пусть даже небольшой, лишь бы надежный. Не видеть бы никого из уголовников и поселиться где-нибудь в глухомани – живет, мол, здесь какой-то никому не известный и не интересный Вилли Куфальт. А у него есть своя комнатка и в ней ему всю зиму тепло. Может, иногда и в кино сходит. Работенка у него конторская, непыльная, и так далее в том же духе. Лучшего ему и не надо. Аминь.
Раздается звук колокола.
Он вскакивает, хватает шапку и шарф, еще раз щупает, на месте ли сотенная, – и Штайниц уже распахивает дверь.
– Третья категория, на прогулку!
Собираются они, как обычно, под стекляшкой, – одиннадцать человек из шестисот.
– Ну, все тут? – спрашивает Петров.
– Нет, Бацке еще не явился.
– Дрыхнет небось, отдельного приглашения ждет.
– Да нет, просто не хочет, и все.
– Хороши же мы будем в глазах начальства! Заметят, что мы не ходим на добавочную прогулку, возьмут и отменят ее.
– У кого футбольный мяч?
– Новый надо бы попросить. Этот весь латаный-перелатаный.
– Заткнись, сапожник, вполне можно еще залатать, тебе просто возиться неохота!
– А вы, господа хорошие, могли бы по случаю освобождения и отстегнуть десять марок от своего заработка на новый мяч.
– Деньги мне и самому пригодятся.
– Эге, господин старший надзиратель, почему это сегодня ведете нас через подвал?
– Потому что так ближе.
– А ведь запрещено через подвал-то.
– Кто запретил? Никто не запрещал!
– Руш, вот кто!
– Ну, на его запреты я чихал.
– Там кто-то стоит!
– Эй, Брун, идешь с нами?
– Отлично, Эмиль, вот уж потреплемся всласть.
– Петров вывел меня по-тихому, потому как Руша на месте нет. Здорово, правда, Вилли?
– Да это же черт знает что! Он еще и второй категории не имеет! Господин старший надзиратель!
– Ничего не видел. И не знаю, как Брун оказался во дворе.
– А ты захлопни хайло, пес завистливый! Жалко тебе, что ли, что Брун разок с нами пройдется?
– Ах ты, болван тупорылый, а когда мне чего-нибудь хочется, тут же настучать норовишь!
– Брун – другое дело, о Бруне ни один надзиратель слова не скажет.
– Почему это «другое»? Потому что он твой полюбовник, что ли? Черт те чего делают! Заложу вас обоих, и все тут!
– Только попробуй! Я тоже о тебе кое-что знаю…
Они выходят во двор, прилегающий к тюрьме для несовершеннолетних; здесь им разрешается играть в футбол и гулять без надзора. Петров быстренько куда-то смылся; все это задумано, как подготовка к свободе; правда, вокруг дворика стена в пять метров высоты.
– Брось его, Вилли, пускай себе тявкает, я все равно уже тут.
– Ладно, давай ходить вдоль стены, не будем мешать игре.
– А тебе, выскочка, стоило бы по харе съездить!
– Вот и съезди, съезди, коли ты такой храбрый!
– Я-то докажу еще, какой я есть, докажу, курец паршивый!
– Ну как, сапожник, играешь или нет?
– Просто руки об тебя марать неохота! Вали отсюда со своим красавчиком! Но Рушу я на вас все равно стукну!
– Да пойдем же наконец, Вилли!
– Ну и мразь этот сапожник! А ведь я знаю, Эмиль, из-за чего он на меня взъелся. Я загнал ему двух желтых пичужек за четыре пачки табаку. А Руш пронюхал про это дело. И теперь у него ни пташек, ни табака. Оттого он и бесится, ты тут ни при чем.
– Когда у сапожника срок-то кончается? А то он уже слегка того.
– И не слегка! Ему еще три года трубить. Но он куда хочешь без мыла влезет, начальству задаром подметки ставит, а теперь еще и католиком решил заделаться. Наверняка условно-досрочного добивается!
– Да он все время выслуживается, понимает, значит, что к чему.
Они прохаживаются вдоль стены под теплыми лучами майского солнышка. Кругом ни зеленой травки, ни ветки, но небо ярко-голубое, и после сумрачной камеры солнце кажется вдвое ярче и теплее.
Оно прогревает до костей, тело становится вялым, ленивым, постоянное напряжение, взвинченность, настороженность улетучиваются, на душе у обоих мир и покой.
– Послушай, Вилли, – начинает Малютка Брун.
Брун – толстоватый, флегматичный парень двадцати восьми лет от роду, в семнадцать угодил за решетку. Глаза у него светло-голубые, лицо румяное, круглое, волосы льняные – он похож на большого ребенка. Но на табличке над дверью его камеры написано «убийство с целью ограбления», он и получил в свое время пятнадцать лет – самый большой срок, предусмотренный для несовершеннолетних. Но по нему этого никогда не скажешь, парень он добрый, покладистый, и все в тюрьме его любят. Он никогда ни к кому не подлизывается, а его все равно любят.
Между прочим, в те редкие минуты, когда он заговаривает о своем деле, он тоже уверяет – как-то беспомощно и робко, – что осудили его неправильно. Не с целью ограбления он убил, а в приступе злобы и отчаяния. Убил он капитана баркаса, избивавшего юнгу Бруна до крови. А что потом пожалел бросить в воду и золотые часы капитана, на его взгляд, никакого отношения к делу не имеет. Ведь не из-за часов он того укокошил.
Вот прохаживаются на солнышке два молодых человека, за плечами у одного пять, у другого одиннадцать лет тюрьмы, через два дня все это будет позади, и жизнь вновь наладится.
– Ну так как же, Вилли? – спрашивает Малютка Брун.
– Ты о чем, Эмиль?
– Я еще в уборной спросил тебя, собираешься ты тут оставаться? То есть в этом городишке. Погоди, не отвечай. Я так думаю: а не снять ли нам с тобой на пару комнату, так будет дешевле. И если тебе не удастся сразу найти работу, ты будешь пока стирать, готовить и все прочее. Зарабатывать я буду прилично. А вечером разоденемся как фраера и пойдем гудеть.
– Все-таки мне нужно постараться получить работу. Эмиль. Не могу же я вечно быть у тебя в услужении.
– Конечно, ты найдешь настоящую работу. А это я так сказал – для начала. Был бы ты покрепче, я бы устроил тебя на деревообделочную фабрику, но тебе, наверное, больше подойдет всякая писанина или еще что-то в этом роде. Старикан тебя любит, небось раздобудет тебе что-нибудь подходящее.
– А, ты имеешь в виду директора. Ну, тот тоже может не все, что хочет. И потом, Эмиль, в этом захудалом городишке всюду мельтешат надзиратели и полицейские, да и тюрьма вечно торчит у тебя перед глазами. Через три дня уголовная полиция будет знать, откуда ты взялся. Слушок поползет по городу, хозяйка квартиры услышит и выставит тебя за дверь…
– А мы снимем у такой, которой на это плевать.
– То есть у такой, которая тут же захочет втянуть нас в свои делишки.
– Не обязательно, Вилли, уж поверь мне, совсем не обязательно. Бывают и другие. Я все время мечтаю, что у меня будет порядочная девушка, не из потаскушек, я на ней женюсь, стану мастером, и у меня будет куча детишек.
– Расскажешь ты ей о себе?
– Не знаю. Поживем – увидим. Но скорее всего – нет.
– Эмиль, ты должен ей все рассказать! Иначе будешь вечно бояться, что это как-нибудь выплывет, и она тебя бросит.
Они стоят на самом солнцепеке, но глядят не друг на друга, а на серый песок под ногами, который Куфальт ковыряет носком сабо.
Брун еще раз просит:
– Ну так как же, Вилли? Давай будем жить вместе!
А Куфальт ему:
– Нет, нет и нет. Живи мы вместе, тюрьма оставалась бы с нами. Только бы и разговору у нас было, что о тамошних порядках да о сроках. Нет уж, спасибо.
– Верно, лучше не надо! – теперь уже и Брун не хочет.
– Мы с тобой были здесь, как все, научились выкручиваться, подличать и стучать на других, да и зад лизнуть начальству тоже не брезговали. Но теперь все, хватит!
– Верно, хватит! – вторит Брун.
– И еще из-за другого тоже… Знаешь, когда я учился в школе, совсем еще мальчишкой, я влюбился, любовь была издали, мы и говорили-то с ней всего два раза, а один раз я видел, как она поправляла подвязку за кустами в парке. В ту пору девушки еще носили длинные юбки, понимаешь…
– Да, – откликается Брун.
– Но все это не идет ни в какое сравнение с первым годом здесь, когда твоя камера была как раз напротив моей, и я видел тебя каждое утро. Ты появлялся в дверях в штанах и рубахе и выставлял в коридор парашу и кувшин для воды. А рубашка на груди была распахнута. Потом ты стал мне улыбаться, и я всегда ждал, когда начнут отпирать камеры, – может, удастся тебя увидеть… Потом ты переслал мне первую записку…
– Да, – подхватывает Брун. – Через долговязого кальфактора Титьена, что сидел за грабеж. Тот был могила, он и сам тем же грешил.
– А потом в душевой, когда надзиратель отвернулся, и ты впервые юркнул в мою кабинку. А потом всегда прятался за занавеской, когда тот зырил в нашу сторону… Господи, до чего же прекрасные минуты выпадали нам тут иногда…
– Да, – опять соглашается Брун. – Но девушка все равно лучше.
Куфальт спохватывается:
– Понимаешь, я потому и вспомнил обо всем этом: если бы мы стали жить вместе, между нами опять бы все пошло по-старому…
– Ну, нет, – на этот раз возражает Брун. – У нас были бы девушки.
– Все равно, – стоит на своем Куфальт. – А надо со всем этим кончать. Как ни славно у нас было, но что прошло, то прошло. Теперь начнется новая жизнь, и я хочу быть как все.
– Значит, ты точно отправишься в Гамбург?
– Точно, в Гамбург, там никто в мою сторону и не взглянет.
– Вот и ладно. Только уж там и оставайся, Вилли. Пройдемся еще немного.
– Хорошо, пошли, солнце уже печет по-настоящему.
И вдруг Малютка Брун роняет:
– Тогда я сниму комнату вместе с Крюгером. Он выходит шестнадцатого мая.
Куфальт пугается не на шутку:
– Разве у тебя теперь с ним, Эмиль? Он же подонок.
– Да знаю я. Табак у нас у всех всегда тащит. И штраф на него три раза накладывали – воровал у тех, с кем вместе работает.
– Вот видишь!
– А что мне остается? Мне нужен кто-то, один я не выдержу. А большинство не захотят на воле со мной знаться, все из-за этого дурацкого приговора, понимаешь.
– Только не с Крюгером!
– А кто ж еще согласится? Ты вон и то отказался.
– Но не из-за этого же, Эмиль!
– Я еще и потому не могу жить один, что мне помощь нужна, Вилли. Ведь я одиннадцать лет оттрубил в тюряге и о жизни на воле понятия не имею. Иногда меня просто жуть берет, все мне кажется, сделаю что-то неправильно, и все опять пойдет кувырком, и я опять загремлю – уже пожизненно.
– Хотя бы из-за одного этого я бы не стал иметь дело с Крюгерам.
– Ну, так давай ко мне.
– Нет. Не могу. Хочу в Гамбург.
– Значит, съедусь с Крюгером.
Некоторое время они идут рядом, не произнося ни звука. Брун заговаривает первым:
– Мне нужно еще кое о чем тебя спросить, Вилли. Ты в таких вещах разбираешься.
– В каких?
– В денежных. К примеру, в сберкнижках.
– Немного, может, и разбираюсь.
– Вот если кто-то – ну, скажем, один тип – имеет на руках сберкнижку на мое имя и жетон к ней. Может он взять деньги с книжки? Ведь не может, верно?
– В большинстве случаев может, если на вклад не наложен арест или если вкладчик заранее не оговорил сроки снятия денег со счета. В общем, может. Разве у тебя есть сберкнижка?
– Да. То есть нет. Просто на мое имя положили деньги…
– Еще перед арестом?
– Нет, уже здесь…
– Давай, Эмиль, выкладывай начистоту, уж я-то тебя не заложу. Может, могу как-то помочь?
– Я всегда работал в третьем бараке, сперва у столяров, а потом для фирмы «Штегувейт» – делал оборудование для птицеферм…
– Ну и что?
– А потом Штегувейт отхватил на большой выставке домашней птицы золотую медаль за контрольные гнезда для яиц, и заказы посыпались к нему со всех сторон. А чтобы мы вкалывали на совесть, его мастера тайком приносили нам табак. Это было в ту пору, когда заключенным вообще не разрешалось курить.
– Еще до меня…
– Да, так вот, когда все это выплыло, разразился грандиозный скандал, и наш табачок сгинул. Но те придумали кое-что почище. Нам-тο никакой охоты не было пупок рвать ради того, чтобы Штегувейт греб деньги лопатой, вот мы и сколачивали эти гнезда ни шатко ни валко – только чтобы день скоротать. Тогда мастера с фирмы пришли к нам и сказали: «Ребята, за каждое гнездо, которое вы сделаете сверх пятнадцати на человека в день, получите двадцать пфеннигов. Причем деньги эти будут положены на сберкнижку каждому отдельно. Так что когда вас выпустят, вы придете к нам и заберете свои денежки».
– Чисто сработано, а? Тут уж вы навалились на эти гнезда?
– Не то слово, скажу я тебе! Бывали дни, когда мы выдавали по тридцать два, а то и по тридцать пять с носа сверх нормы. Но и вкалывали до седьмого пота, поглядел бы ты тогда на мои руки, да, мы себя не жалели!
– И деньги действительно положены на твое имя?
– Ясное дело. За первый год набежало больше двух сотен. За следующий и того больше. Теперь, наверное, набралось больше тысячи.
– Ну, так потребуй свою книжку. И просто забери, когда тебе ее предъявят.
– Да, забери. Теперь мне ее уже не показывают. Слишком опасно, говорят, дело, мол, пахнет керосином. За это время куча народу освободилась, и некоторые подняли шум и побежали к директору тюрьмы – мол, денег меньше, чем заработано. Ну, тут Штегувейт и сказал директору, мол, все это враки. Никаких сберкнижек, естественно, никто не заводил, поскольку законом запрещено давать заключенным дополнительные заработки.
– За это время часть выпущенных наверняка вернулась в тюрьму, они-то что говорят?
– Говорят, когда к Штегувейту заявились, он их спросил: вы что, бредите? Ничего, мол, про сберкнижки не знаю. А когда они стали на него наседать, пригрозил вызвать полицию. Некоторым, кто особо унижался, дал по двадцать марок, кое-кому даже пятьдесят. Но это же не идет ни в какое сравнение с теми сотнями, что им причитались? Правду сказать, мне-тο больше всех положено, я работал там с первых дней.
– А что говорят мастера с фирмы?
– Что наши всё врут. Мол, деньги ими давно получены, а они просто не признаются, потому как сразу все пропили и прокутили с девочками.
– Может, так оно и было. Ведь в тюрьму возвращаются одни слабаки. Но почему тебе тогда не хотят показать твою книжку? Зажилили небось твои денежки, вот и боятся! Надо бы тебе вчинить иск Штегувейту. Хотя нет, ни к чему, лучше не надо. А то еще один срок схватишь – за шантаж, как Зете, вон он у стены стоит.
– У него вроде были какие-то дела с главным поваром?
– Были. Замнем для ясности, а то меня начинает трясти, как вспомню. Зете тоже вышел бы послезавтра на волю, а вместо этого прокукует тут еще три месяца – из-за того, что я протрепался. Он меня сейчас на месте готов пришить. Так что замнем…
– Я уж думал – самое умное, что я могу сделать, это пойти к директору. Он дядька симпатичный и помогает нашему брату, когда может, – говорит Малютка Брун.
– Вот именно – когда может. Да только может он куда меньше, чем хочет.
– Почему это он мало может? Пусть спросит любого из третьего барака, каждый подтвердит, что я говорю сущую правду.
– Ну поверит он тебе, а сделать-то все равно ничего не сможет. Ведь сберкнижки нам не положены, не будет же он ради тебя нарушать закон! Вот, к примеру, случай со стариком Зете. Там было все чисто, и все равно старику придется оттрубить еще квартал.
Они стоят в укромном уголке двора. Игравшие в футбол притомились и теперь лежат у стены на солнышке, кто спит, кто курит.
– Опять дымят во дворе, падлы, – ворчит Куфальт. – Знают, что запрещено здесь курить, малолетние рядом. А, черт с ними, послезавтра перейду в четвертую категорию, и мне будет до фени, что случится с третьей. Ну, в общем, старина Зете работал при кухне – чистил картошку. Сидел свои шесть или восемь лет в погребе и чистил. И каждый месяц записывался на прием к инспектору по труду – мол, прошу перевести на другую работу, давно уже сижу в погребе, хочу поработать на свежем воздухе. И всякий раз его просьбу отклоняли. В конце концов он дознался, что это кухонный надзиратель настраивает инспектора, чтобы тот не выпускал его из подвала. Потому как Зете вкалывает за двоих. Вот как у нас здесь работяг ценят.







