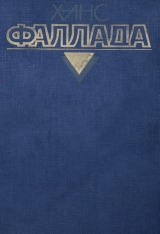
Текст книги "Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
– Ну, Ойген, нам, пожалуй, пора, мы не будем дожидаться звона колоколов.
Старик пробурчал что-то, добавив:
– А вы, детки, пошли бы погулять. Что вы все сидите да сидите дома. На следующий год вы поженитесь и, как знать, выберетесь ли еще когда-нибудь на люди!
При этом он еще раз окинул взглядом фигуру дочери.
Хильда исчезла, а потом появилась в восхитительном светлом в неяркий цветочек платье, на шее у нее была красивая витая цепочка из золота…
«А ведь и впрямь симпатичная», – Хардер очень удивился. Румянец на ее щеках заалел еще пуще, и от избытка чувств она чмокнула отца и мать, сказав:
– Пока, просыпайтесь в Новом году!
И молодые двинулись в путь. Старики из окна смотрели им вслед.
Шел легкий снег, многие витрины на главной улице были освещены. Вначале они немного прогулялись, Хильде понравились одни занавески, а ему другие. Наконец, обоим понравились еще одни. Они разглядывали мебель, и он вспомнил, что на Хельмштедтерштрассе выставлена прекрасная спальня, которую он давно уже хотел ей показать.
И они направились туда, шли долго, а когда пришли, то увидели, что столярных дел мастер Шнеевайс не стал освещать свою витрину.
Они очутились неподалеку от Рендсбургского трактира, и Хильда попросила Вилли на секунду зайти туда. Вероятно, ей хотелось похвалиться женихом перед своими бывшими приятельницами.
– А ведь мы там познакомились, и я тебя сразу приметила. Только виду не подала, когда ты на меня уставился. Ты помнишь, как шел за мной и Врункой до самого туалета? Врунка мне сразу сказала: «Этот знает что к чему». Пошли. Пусть там и не очень хорошо, мы только на секундочку заглянем.
Но он наотрез отказался: наверняка к ним будут приставать. Ему было не все равно, что в его присутствии ее будут называть девой с ребенком, а может, и его попрекнут тюрьмой, и наверняка там будет Малютка Эмиль Брун…
– Ни в коем случае, нет, и все!
И он предложил зайти в маленький подвальчик у рынка, в кафе «Центр», оно давно привлекало его своим обшарпанным сомнительным видом, но до сих пор по странной случайности он еще ни разу не заглянул туда. Однако стоило ему сказать об этом Хильде, как она решительно отвергла этот кабачок.
– Нет, ни за что! Нет, и все.
– Но почему? Я же только хотел заглянуть туда.
– Я туда не пойду!
– Тогда скажи, почему!
– В такое заведение – чего только о нем не говорят!
– Ты хоть раз в нем была?
– Я? Нет, нет, и не собираюсь. Даже с тобой не пойду.
Они продолжали стоять на углу у мастерской столярных дел мастера Шнеевайса, было темно и ветрено, они мерзли.
Мимо прошел мужчина. Заметив, что они спорят, он крикнул:
– Ну, что, киска, не хочет? Дать ему разок по рогам?
– Пошли, – торопливо произнес Куфальт и потащил ее за собой.
Гуляка выругался им вслед
Взяв друг друга под руки, они торопливо зашагали к центру.
– Хотел бы я знать, – задумчиво произнес Куфальт, – почему ты не хочешь зайти в кафе «Центр»?
– Потому что приличные девушки в эти кафе не ходят.
– Вот как? А на танцульки в Рендсбургский трактир такие девушки ходят?
Она вырвалась у него из рук, в отчаянии крикнула, потому что и впрямь была в отчаянии:
– О, Вилли, Вилли, зачем ты все время мучаешь меня?
– Мучаю? – озадаченно произнес он. – Все время мучаю?!.. Только потому, что хочу пойти с тобой в кафе?
Она на секунду взглянула на него, ее лицо дергалось, губы шевелились, как будто она хотела что-то сказать. Но она только взяла его за руку и тихо попросила:
– Пойдем, проводи меня домой.
– Зачем сейчас идти домой! – озадаченно воскликнул он. – Если тебе не хочется идти в кафе «Центр», тогда пойдем еще куда-нибудь. Кафе «Берлин» тебе подойдет?
Она не ответила, и тут он заметил, что она тихо плачет.
– Ну что ты, Хильда, – произнес он, оглядываясь по сторонам, – ну что ты.
– Сейчас все пройдет, – поперхнувшись, сказала она. – Пойдем, встанем на секунду у витрины.
– Почему ты плачешь? Почему я мучаю тебя? Скажи, Хильдочка, я ведь ничего не понимаю.
– Ничего, ничего, – произнесла она, снова улыбаясь. – Я только чуть-чуть накрашусь и прочищу нос…
– Но все-таки мне хотелось бы… – упрямо начал он.
– Пожалуйста, не надо, – попросила она. – Сегодня мы будем веселиться.
Они так и сделали. В кафе «Берлин» выступал прекрасный саксонский комик, который так здорово шпарил по-саксонски, что его можно было даже понять, он постоянно смешил их, а еще выступала танцовщица с выбритыми подмышками и напудренной грудью, и какая-то пожилая дама пела ужасно неприличные куплеты…
Они сидели в самой сутолоке, кругом смеялись, кричали, пили, веселились. Летели конфетти, серпантиновые ленты обвивали их, и они сидели не двигаясь, чтобы не порвать их. Затем музыканты сыграли туш, и наступила полночь. Они торжественно подали друг другу руки.
– Счастливого Нового года, Хильда, за нас обоих!
– И тебе тоже, мой Вилли! Тебе тоже! Ах, мой Вилли!
Они выпили еще по стаканчику грога, и щеки Хильды заалели. Она разговорилась, болтала, сплетничала, что натворила та, и какая репутация у этой, и что воображает из себя такая-то…
– Но я никому не завидую. Ведь у меня есть мой славный Вилли. А теперь добавился еще один славный Вилли – два славных Вилли…
Она громко захохотала. И хотя ее болтовня и смех потонули в общем шуме и никто даже головы не повернул в сторону стены, у которой они сидели, Куфальту стало немного не по себе. Фраза о двух славных Вилли тоже звучала двусмысленно, и смех у нее был неприятным…
– Вставай, Хильда, пойдем.
– Но ведь ты завтра можешь выспаться!
– Пойдем куда-нибудь еще, где можно потанцевать.
– Прекрасно, – сказала она. Она засмеялась. – В Рендсбургский трактир. – Ее глаза храбро засверкали. – Наверное, у тебя там есть другая невеста, и ты не хочешь показать ее мне?
Он зло спросил:
– А кто у тебя в кафе «Центр»?
На мгновение она смутилась, а затем прыснула.
– Ревнуешь, бедняжка Вилли? Нет, ты не должен меня ревновать, я буду хранить тебе верность и не позволю соблазнить себя…
Она пропела это на мелодию популярного шлягера.
Стоявшие вокруг одобрительно засмеялись.
– Девчонка что надо.
– Пойдем, Хильда, – попросил он. А сам подумал: «А все-таки мне она позволила соблазнить себя, а раз позволила мне, то позволит и другому…»
Глубокая печаль охватила его. «Какой тогда смысл во всем этом? – подумал он. – У меня ведь нет с ней ничего общего, она даже мне не очень нравится. Зачем тогда все это? Неужели и правда все из-за того, что она тогда больше не появилась и мне ее стало немного жаль? Только тело, только тело, с любой другой было бы еще проще, а мне даже и тело не нужно… Если бы можно было уйти, расстаться, исчезнуть… Это плохо кончится… если бы можно было начать все сначала!..»
– О чем ты думаешь? – спросила она.
– Ни о чем серьезном, – ответил он.
Но они так и не танцевали, а зашли в какой-то маленький винный ресторанчик и заказали бутылку сладкого вина. Хильда, которая до этого была то грустной и раздраженной, то озорной, веселой и болтливой, выпив вина, выглядела просто усталой, смертельно усталой, глаза у нее закрывались…
– Пожалуйста, проводи меня домой, Вилли, пожалуйста!
Она стояла у двери дома и, опершись о его руку, чуточку шаталась от сонливой усталости.
– Поцелуй меня еще разок, Вилли. О, как я устала!
– И я тоже, – сказал он.
Казалось, она себя немного взбадривает.
– Ты сейчас пойдешь домой, ты никуда больше не пойдешь, правда?
– А куда мне идти в четыре утра, тут же лягу спать.
– Правда?
– Как пить дать, – сказал он и попытался рассмеяться.
– Дай мне честное слово.
– Ну конечно, даю тебе честное слово. Я сразу пойду домой.
Она помолчала чем-то недовольная, раздумывала.
– Ну, Хильдочка, – сказал он, протягивая ей руку.
– Она крепко обняла его.
– Но, Вилли, дорогой мой, любимый Вилли… – она поцеловала его и прошептала, – пойдем со мной, любимый мой Вилли, родители никогда не заходят в мою комнату…
– Нет, нет, – испуганно произнес он.
– Но почему нет? Я так тебя хочу, Вилли, я не выдержу! Чем я тебе не нравлюсь? До Пасхи я не выдержу.
– Подумай о малыше, Хильда. Ведь так нельзя.
– А малыш никогда не просыпается раньше восьми. Уж я-то знаю. Пойдем, один раз, только раз, Вилли.
– Нет, – устоял он. – Я не хочу. Если что потом случится, все будут сплетничать.
– Но ведь и так сплетничают. Разве нам не все равно.
– Нет, я не буду. Будь благоразумна, Хильда. Подумай, до Пасхи всего несколько недель!
Он обнимал ее, утешал (и знал, что каждое сказанное им слово – ложь. Что-то непременно должно случиться. Но что именно, он не знал).
– Подумай только, как нам будет хорошо, совершенно одни в своей квартире, только мы с тобой, светлая приятная комната. И я уверен, что вместо пуховых перин куплю голубые стеганые одеяла из шелка. Вот тогда мы над всеми посмеемся, и никто слова худого не скажет о нас, и это будет гораздо лучше, чем если тайком, и твоих родителей мне не нужно будет стыдиться. Сейчас я ведь могу смотреть им прямо в глаза…
– Но ведь ты… – не понимая, испуганно воскликнула она, – ведь один раз, Вилли, ты уже…
Они смотрели друг на друга.
– Вот что, я иду домой, – сердито сказал он. – Кажется, ты выпила лишку, спокойной ночи.
Он не стал дожидаться, пока она пожелает ему «доброй ночи», не стал ждать, пока она пройдет через дворик.
И хотя он не обернулся, когда уходил, у него в памяти запечатлелась совершенно точная картина, как она стояла, глядя ему Вслед. И взгляд ее выражал страх.
25
Чем кончилась ночь, Куфальт помнил весьма смутно, начиная с того момента, когда он скатился вниз по лестнице, очутившись в кафе «Центр», и до того самого момента, когда он рука об руку с господином главным редактором Фреезе стоял на пустом фабричном дворе и как завороженный смотрел на серую маслянистую, медленно текущую воду, а Фреезе таинственно шептал:
– Трена берет начало у Рутендорфа, ниже Гальгенберга, тридцать шесть кожевенных фабрик и дубильных цехов нашего родного города сливают в нее сточные воды. Она известна как рассадник возбудителя сибирской язвы… Трена…
Ночь призраков. Странно было уже то, как он ввалился в зал, самый обыкновенный зал, без следов порока и извращений, как огляделся и в клубах густого сигарного дыма ничего не мог увидеть. Неожиданно чей-то голос в углу крикнул:
– Эй, Куфальт! Женишок Куфальт!
Он пошел на голос и обнаружил сначала Фреезе, затем Дитриха. Они сидели рядышком в углу и пили грог. Малиново-красный Фреезе с остатками волос, клоками свисавшими на его безобразное лицо, и бледно-желтый Дитрих с угасшими глупыми мышиными глазками.
– Садись, Куфальт, – произнес Фреезе. – Это Дитрих, которого я из-за тебя прогнал.
– Очень приятно, – пробормотал Дитрих, слегка поклонившись.
– Пьяный! – произнес Фреезе. – Присядь, Куфальт. Пьяный, как сапожник. А где твоя невеста?
– Хочу невесту, – пробормотал Дитрих.
– Заткнись! – выругал его Фреезе. – Давай без намеков. Нам здесь никаких намеков не надо. Выпьешь с нами?
– Кружку пива, – ответил Куфальт.
– Минна, пива и тройной коньяк для гостя. Минна, это жених, настоящий жених, взгляни на него.
Куфальт зло посмотрел на толстую бабу с грубым, вульгарным красным лицом, подавшую ему напитки.
– Вот как, так вы и есть молодой человек, обручившийся с Хильдой Хардер? Я слышала, да-да, здесь всякого наслушаешься…
– Убирайся! – приказал Фреезе, и она послушно направилась к стойке буфета.
– Находка эта Минна, верно? – спросил Фреезе, все время следивший за Куфальтом. – Не нравится? Все они такими становятся, внешне или внутренне или и внешне и внутренне, с жиром, без жира, все они такими становятся, бабье.
– Ик-ик, – вырвалось у Дитриха.
– Заткнись! – проревел Фреезе. – Беру тебя на работу, немедленно беру тебя на работу с авансом в пять марок и тут же выгоню!
Фреезе порылся в карманах, ища деньги. Ничего не нашел.
– Дай-ка двадцать марок, которые ты мне должен, Куфальт.
Куфальт смотрит на Дитриха, тот подмигивает ему.
– Ну скорей, приятель, мы выпьем еще.
– Не давайте ему их, – с трудом выдавил из себя Дитрих. – Я сказал, мы работаем вместе, работаем вместе.
Фреезе громко расхохотался. От смеха все его тело подпрыгивало.
– Работать вместе, вот это да! Два жеребца в одном стойле, верно?
Он хохотал, зажмурив глаза, и его дряблые жирные щеки так и тряслись от смеха.
Куфальт со страхом смотрел на него, внутри у Куфальта все дрожало, рука его потянулась к пивной кружке.
– Значит, ты берешь нас обоих? – спросил Дитрих, заговоривший вдруг правильно. – Мы сможем оба работать в твоем стойле, в обанкротившемся «Вестнике»?
Голос Дитриха звучал строго и зло.
Фреезе перестал хохотать и уставился на Дитриха.
– Тебе ведь наверняка понадобятся два человека для рекламы, – утверждал Дитрих.
У Куфальта в голове все перепуталось. «Перепил, – подумал он. – О чем они, собственно, болтают? О том, что говорят, или не о том, что говорят».
Он снова прислушался к разговору.
– В тысяча восемьсот сорок восьмом году, – торжественно произнес Фреезе, – господин ван дер Смиссен был бургомистром нашего города. Господин ван дер Смиссен был настоящим аристократом, человеком прямым, как струна, честным до мозга костей… Уличная толпа собралась возле его дома и бросала в окна дома господина ван дер Смиссена нечистоты и грязь. Городской полиции удалось вскоре рассеять толпу. Господин бургомистр, которого в тот день не было дома, вернулся из поездки поздним вечером. В сопровождении полицейского он прошелся по разоренным комнатам…
В столовой на стене висел огромный портрет его рано почившей супруги, урожденной баронессы фон Путхаммер. И надо же было случиться, чтобы к белоснежной груди этой прекрасной женщины прилип отвратительный, вонючий кусок дерьма…
Полицейский, некий Вильмс, позднее показал, что господин бургомистр минут пять неподвижно, с застывшим лицом, стоял перед оскверненным портретом. Потом подошел к шкафу, вытащил бутылку вина и красивую хрустальную рюмку и, поставив все это перед ним, Вильмсом, настрого приказал ему скоротать время за бутылкой. А он, господин ван дер Смиссен, отыщет все необходимое для уборки. После чего бургомистр твердой походкой вышел из столовой…
На следующее утро его, перепачканного нечистотами, вытащили из Трены, которая текла рядом с садом бургомистра.
Голова Дитриха давно свесилась на грудь, он храпел. Сигара, торчавшая в уголке рта, погасла, успев, правда, прожечь на рубашке дыру.
Фреезе говорил неестественным монотонным голосом экскурсовода. А когда кончил, совсем по-другому воскликнул:
– Твое здоровье, Куфальт… Нам туда еще рановато!
– Зачем вы мне все это рассказываете? – раздраженно спросил Куфальт. Он проклинал себя за то, что зашел сюда, за то, что не смог вовремя уйти, за то, что продолжал пить, и за то, что вообще разговаривал с Фреезе.
– Это, – ответил тот, – странички летописи нашего города, над которой я работаю вот уже сорок лет. Ее мы озаглавим «Жертвы Трены».
– Но меня вы в ней не найдете, мерзавец, вот вы кто, – с неожиданной злостью крикнул Куфальт. – Вы думаете, я не понял, куда вы гнете? Только я этого не сделаю, и уж тем более не сделаю, чтобы вас порадовать, даже если вы будете лить грязь на мою невесту.
Сам испугавшись своих слов, он замолчал. И Фреезе зря приложил палец к губам, намекая на Дитриха. Ибо неожиданно перед мысленным взором Куфальта предстал великолепный дом бургомистра с большими окнами и липами вокруг, мимо которого он часто спешил. Ему почудилось, будто он видит выбитые стекла, осколки которых звездочками летели в траву, темную столовую, освещенную единственной свечой, и длинную узкую руку в набухших синих венах и желтых старческих пятнышках, поднимающую подсвечник с горящей свечой. Из темноты стены, улыбаясь, проступает лицо молодой красавицы, ее лебединая белая шея, ослепительные плечи, и вот, вот…
– Вы видите?.. – кричит Фреезе. – Видите?..
И рядом другое лицо. «Пойдем, пойдем со мной, один раз, только раз», – просят, умоляют эти губы.
Все рухнуло, пропало, пошло прахом. Все зря. Растаяло, исчезло, кануло…
Нет больше руки, держащей подсвечник, вокруг кромешная тьма, но постепенно тьма рассеивается…
– Вздремнули? – спрашивает Фреезе. – Вы кричали во сне. А вот он крепко заснул.
И он показывает на Дитриха.
– Я пойду, – произносит Куфальт, шатаясь от усталости.
– Подожди, я с тобой, – отвечает Фреезе. – Так ты никогда до дома не дойдешь.
Он с сомнением глянул на сонного Дитриха.
– Скажу Минне, пусть уложит его с собой в постель, – пробормотал он.
Вдруг он ухмыльнулся.
– Подожди секунду, Куфальт, сейчас увидишь, что я сделаю.
Куфальт хотел уйти. Он ухватился за спинку стула. Нащупав другой рукой соседний столик, не дотянулся до него, попробовал еще раз.
И тут появился Фреезе с куском картона в руке, в который была продета веревка. Он с хитрецой, ободряюще подмигнул Куфальту, словно предвкушая веселую шутку, и подошел к Дитриху.
Посадил его прямо.
– Сиди как положено, пьяная свинья, – крикнул он. – Прямо сиди!
Дитрих открыл глаза, и тут же они у него снова закрылись, он промычал что-то и снова заснул. А Фреезе уже повесил на шею ему табличку.
– Вот, читать ты еще не разучился?
Печатными буквами углем на ней намалевано было слово «Соблазнитель»…
Сначала все почернело в глазах у Куфальта, потом поплыли красные круги. Ему показалось, будто его рука сама схватила пивную кружку и размахнулась ею… он еще отчетливо слышал, как взвизгнула толстая Минна: «Осторожно, Фреезе, сейчас бросит…» Слышал ехидное хихиканье Фреезе.
А потом раздалось: «Буль, буль, буль, буль!»
Рука об руку с Фреезе он стоял на берегу Трены, в сером тумане брезжило утро, у сваи фабричного двора булькала серая маслянистая вода, он слышал, как Фреезе сказал:
– Трена берет свое начало у Рутендорфа, ниже Гальгенберга, в нее сливают сточные воды тридцать кожевенных фабрик и дубильных цехов нашего родного города. Она известна как рассадник возбудителя сибирской язвы… Трена…
Но когда после обеда он проснулся, от всего этого у него осталось только смутное, призрачное воспоминание.
Ему все приснилось, наверняка ему все только приснилось, но все равно Новый год начался таким нехорошим сном.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Крах
1
Прошел декабрь с приятным легким морозцем, на его место заступил январь с дождями и слякотной погодой. Вздыхая, Куфальт достал из шкафа вместо красивого черного пальто желтый, похожий на мешок, прорезиненный плащ.
Декабрь был самым удачным месяцем в жизни Куфальта. Январь начался с полосы чудовищных неудач. До распродаж было еще далеко, начинались они двадцать первого января, и никто не хотел подписываться на газету.
Куфальт стоял и говорил, и уговаривал, если ему вообще давали говорить. Его слушали, а затем отвечали, он-де знает, как сейчас, после праздника, туго с деньгами, или же говорили прямо, без обиняков, что «Друг» все-таки лучше «Вестника». «Вестник» не публикует даже четверти семейных объявлений «Друга», а уж по крайней мере их нужно читать.
В отдельные дни было по шесть, семь и даже десять – двенадцать неудач подряд, а с неудачами пришло и уныние. И тогда Куфальт битых десять минут стоял у двенадцатиквартирного дома, не решаясь зайти, ходил взад-вперед по улице, мокнул под мелким дождем. Самое разумное идти домой, сесть у теплой печки и вздремнуть…
Но блокнот с квитанциями был пуст, а господин Крафт в четыре ожидал от него шесть новых подписчиков, у него была подленькая манера говорить:
– Так, сегодня только два? Сегодня только два, только два!
При этом он шелестел бумагами.
– Кстати, тридцать семь ваших новых декабрьских подписчиков отказались продлить подписку на «Вестник». Вообще в подписке мало толку…
– Разве это моя вина? – раздраженно спрашивал Куфальт.
– А кто говорит о вине! – равнодушно отвечал Крафт, продолжая шелестеть бумагами. – Вы нервничаете, Куфальт.
Но хотя и осталось невыясненным, что, собственно говоря, действительно произошло в новогоднюю ночь, тем не менее Фреезе был сама приветливость. Да, он стал еще приветливее.
– Вам холодно? – осведомлялся он. – Тогда станьте рядом с моим верным слугой Фридолином, сегодня я ему как следует наподдал! Кстати, у меня есть работенка для вас.
Он рылся в бумагах.
– Тут у меня киношная реклама. Эту дрянь я не смотрел. Вычеркните двадцать строчек и всю ерунду. Вот вам полтинник.
Куфальт хотел было возразить.
– Нет-нет, Куфальт, даром только смерть. И даром она только для умерших. Так что спрячьте-ка полтинник: придет день…
Не изменился… Не изменились и намеки, и пропитой вид, и грубая оболочка, скрывавшая сомнительного качества душу.
Не изменилось и восхищение папаши Хардера способностями Куфальта. Но изменилась, очень изменилась Хильда. Не было больше ни одного добровольного поцелуя. Она почти не разговаривала, стихов и пения вдвоем не было и в помине.
Было полдесятого. Госпожа Хардер подала сигнал прощаться, пожелали друг другу спокойной ночи, жених и невеста остались одни, приличия ради ему нужно было посидеть еще с полчасика.
Он встает, закуривает сигарету, проходится взад и вперед по комнате.
– Ветер какой, – говорит он и останавливается, прислушиваясь к шуму за окном.
– Да, – отвечает она и, не поднимая головы, продолжает вышивать монограмму.
– Хорошо бы остаться на ночь здесь, – говорит он и, смутившись, смеется.
Она не отвечает.
Какое-то мгновение он выжидает, а затем начинает снова ходить взад и вперед. Долго думает и наконец спрашивает:
– Сегодня малыш лучше ел, Хильда?
– Нет, – говорит она и вышивает дальше.
Он ходит, думает, а маятник на стене отстукивает: тик-так, тик-так. Наконец снова короткий вопрос и односложное «нет» или «да».
Но лампа горит так тускло; когда он смотрит на склоненный темный пробор, на белую полоску кожи между волосами и красным воротничком джемпера, когда он смотрит и думает, сколько он причинил ей боли и, может быть, еще причинит, ему хочется открыться, открыть душу:
– Слышишь, Хильда…
Она вышивает.
– Послушай, Хильда…
Он подходит к ней совсем близко.
Она чуть отодвигается от него.
– Да?
И, продолжая вышивать, не смотрит вверх.
Он предпринимает еще одну попытку.
– Ты на меня обиделась, Хильда?
– Я?.. За что?
Но не ее холод, не отказ мешают ему говорить – он ведь чувствует, что причина отказа просто уязвленное самолюбие, мешает что-то другое.
Та ночь и белая картонка с печатными буквами ему просто привиделись.
Может быть, покаяться, а вдруг ей нечего мне сказать? Оскорбленная гордость, да, но ведь и я имею право…
И чуть погодя: «Разве я не знал? Ребенок без отца, с первых минут это было известно. Конечно, она права, но ведь она могла бы…»
Нет, ничего, одна болтовня. Все исчезает. Ничего не происходит. Он шагает взад и вперед с сигаретой в зубах. Проходит долгое время, прежде чем он спрашивает:
– А подушки ты уже обшила, Хильда?
– Еще нет, – отвечает Хильда.
Нет, ничего не происходит, и разве можно назвать происшествием то, что однажды он отправляется на Волленвеберштрассе, 37, поднимается по лестнице на четвертый этаж и спрашивает господина Дитриха?..
Разумеется, господин Дитрих дома, и Куфальта безо всяких разговоров впускают к нему в комнату.
Господин Дитрих в одежде, правда, без галстука и воротничка лежит в шезлонге и спит с открытым ртом. Время – около двенадцати.
– Господин Дитрих, – с порога окликает его Куфальт.
– Привет, Куфальт, – бодрым голосом отзывается Дитрих и рывком садится. – Выпейте-ка со мной коньяку.
– Я только хотел отдать вам двадцать марок, – говорит Куфальт и кладет коричневую ассигнацию на столик.
– Но ведь с этим не обязательно торопиться! Расписки, наверное, вам не нужно?..
Господин Дитрих свернул ассигнацию в трубочку и засунул ее в карман жилетки.
– Ну, присаживайтесь. Да вы совершенно промерзли, дружище. И в такую погоду вы собираете подписку? А где вы теперь собираете подписку?
– На севере, – говорит Куфальт. – Рабочие кварталы кожевенных фабрик.
– Плохи дела, верно? Совсем плохи, а? На вашем месте я оставался бы дома и дождался распродаж. Только вещи перепачкаете и ничего не заработаете.
– Ну, в резиновом плаще не страшно.
– А брюки! – восклицает Дитрих. – А ботинки? Но сначала давайте-ка выпьем коньяку. Или вы предпочитаете грог? Мы это быстро. У моей хозяйки есть газ.
– Нет, – произносит Куфальт и делает вид, будто его корежит. – Только не грог. Мне все время кажется, будто я чую запах вашего грога еще с той ночи.
И Куфальт кажется самому себе ловким дипломатом.
– Тогда ваше здоровье, – произносит Дитрих. – Дай бог нашим деткам вырасти такими же. Еще по одной? Правильно! Вы же замерзли.
– А вы тогда хорошо добрались до дома? – не отставал Куфальт.
– Когда тогда?
– Ну, в ту новогоднюю ночь, господин Дитрих. Кафе «Центр».
– А, вы слышали об этом? – смеется Дитрих. – Да, в тот вечер я хорошо набрался.
– Я тоже там был, господин Дитрих, – с нажимом произносит Куфальт. – Мы ведь даже разговаривали друг с другом.
– Вы тоже там были! – удивляется Дитрих, – Смотрите-ка! Да, в тот вечер я наклюкался.
Куфальт лихорадочно думает: «Он издевается или в самом деле ничего не помнит? По крайней мере, проснувшись, он должен был обнаружить табличку. Или Минна ее сняла?»
И, будто угадав его мысли, Дитрих сказал:
– Да, если и вы были там, дорогой Куфальт, то поступили не лучшим образом, оставив меня в таком беспомощном состоянии.
– Как в беспомощном состоянии?..
– В положении риз. Если бы меня не подобрал мой друг, мясник Куцбах, я бы наверняка очутился в постели у Минны!
Хитер, ведь хитер. Куфальт сдался.
– Ну, мне пора. Сегодня я еще никого не заарканил.
– Но ведь не откажетесь еще от одной! Посмотрите-ка, на что вы похожи? Вы посинели от холода, в таком виде вы не можете идти к клиентам. Вы действительно решили идти?.. Ну, тогда еще по одной. Ваше здоровье! Кстати, – неожиданно серьезным голосом произнес он. Два пальца исчезли в кармане манишки и вытащили коричневую трубочку. – Кстати, вы действительно обойдетесь без них?
– Ну конечно, – ответил сбитый с толку Куфальт. – Я ведь очень хорошо зарабатывал.
– Потому что если вы не… – начал было господин Дитрих. – Во всяком случае, я всегда к вашим услугам. Никогда не забывайте об этом. Я всегда искренне сочувствую вашей трудной, безрадостной судьбе. – И тут же лицо господина Дитриха расплывается в улыбке. – Так что вот, господин Куфальт, был весьма рад вам. Если будет настроение, всегда рад видеть вас у себя.
Рукопожатия. Адье.
Нет, ничего не ясно. Ничего не произошло. Что-то надвигается, какая-то темная туча, гром может грянуть с любой стороны.
Хильда, Хардер, Фреезе, Штарк, Дитрих, Брун, Бацке…
Но гром грянул совсем с другого конца.
2
В тот роковой четверг тринадцатого января Куфальт около половины пятого пополудни с большой неохотой поплелся в «Вестник». Семь часов он был на ногах, а улов никудышный: два подписчика. Честно говоря, даже полтора, потому что вдова Машке, не устоявшая перед его красноречием, уплатила только аванс в шестьдесят пфеннигов, а остаток он должен был получить первого, когда приносили пенсию.
Куфальт побаивался грубоватого голоса Крафта:
– Два, так-так, ну да, всего два… два!
Он зашел в кабачок Линдеманна и задаток вдовы потратил на коньяк. Затем он тем же манером обошелся и со взносом рабочего Пахульке.
И после пяти он в приподнятом настроении появился в экспедиции, где его уже поджидал Крафт.
– Всего двое, господин Крафт, – бросил он, удивившись, почему маленькая стенографистка Утнемер с ужасом посмотрела на него. – Дела идут все хуже и хуже.
– Два… – сказал Крафт, удивив его. – Ну что же, два тоже хорошо, лучше, чем ничего. Зайдите к господину Фреезе, он хочет с вами переговорить.
Куфальт вопросительно посмотрел на Крафта, на Утнемер. Девушка отрицательно покачала головой.
– Почему вы качаете головой? – удивленно спросил Куфальт.
– Я вовсе не качаю головой, – солгала она, покраснев.
– Ну иди те же, господин Фреезе ждет, – раздраженным голосом неожиданно крикнул Крафт.
– Ладно-ладно, – произнес Куфальт, направляясь в кабинет редактора. У него еще не возникло предчувствия грозящего несчастья, коньяк согрел и взбодрил его, но все-таки ему показалось странным, как эти двое вели себя сегодня.
– А что, собственно, с вами происходит сегодня, господин Крафт?
– Ничего со мной не происходит, ну давайте скорей, приятель.
Господин Фреезе был не один. Рядом с ним в качалке сидел человек, с первого взгляда не понравившийся Куфальту, тощий, долговязый мужчина со смешным животиком, с сухой птичьей головой, кожа на которой была совершенно желтой. Из-под металлической оправы смотрели колючие черные глазки.
Перед ними стояли две рюмки с коньяком.
– Господин Куфальт – господин Брёдхен, – представил Фреезе.
Куфальт поклонился, а Брёдхен только кивнул, кивнул подчеркнуто небрежно. Он пристально смотрел на Куфальта. Куфальт снова взглянул на него.
– Вам лучше бы встать возле печки, – ласково произнес Фреезе. – Вы наверняка снова продрогли. Сколько у вас сегодня?
– Двое, – ответил Куфальт.
– Двое, – вздохнул Фреезе. – Пять с половиной марок. Ведь на это не разживешься, верно?
– Отчего же, – настороженно ответил Куфальт.
Тощий с животиком ничего не сказал, он только смотрел на Куфальта.
– Где же вы сегодня были? – с интересом спросил Фреезе, но Куфальт уже понял, что интерес этот был притворным.
– На севере, – коротко бросил он.
– Как на севере? – переспросил Фреезе. – Где кожевенные фабрики? Фабрикштрассе? Веберштрассе? Линзингенштрассе? Тёпферштрассе? Тальштрассе?
Будто защищаясь, долговязый дернулся, но остался сидеть на месте.
– Да, – произнес Куфальт.
Было ясно, что надвигалась беда. Но ясно было и то, что как бы там ни было, но спускать этот необычный допрос было нельзя, на всякий случай нужно было подстраховаться.
– А кстати, господин Фреезе, зачем вы спрашиваете? – осведомился он и взглянул на господина Фреезе.
Тот снова уставился на него своими красными рыбьими глазками. В уголке рта показался язык, облизал губы – наверное, подумал о Трене – и снова исчез.
Фреезе ничего не ответил, а вместо него неожиданно раздалась торопливая злая скороговорка тощего:
– Светлый резиновый плащ – соответствует! Очки в темной роговой оправе – соответствует! Мучнистого цвета лицо – соответствует! Серая фетровая шляпа не соответствует, но наверняка у него есть дома зеленая. Мы поищем ее.
«Легавый! Как же я сразу не заметил, идиот! – с ужасом подумал Куфальт. – Но ведь у Любекских ворот на мне не было резинового плаща!»
Он чувствует – и страшно злится на себя за это, – что краснеет и снова бледнеет. Неожиданно у него подкашиваются ноги, и он вынужден прислониться к печи.
Те, двое, неотступно следят за ним. Он пытается улыбнуться – не получается. Он хочет что-то сказать – и не может. У него вдруг пересохло во рту.







