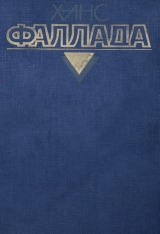
Текст книги "Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
– Вы думаете, что о залоге не может быть и речи? Я бы, конечно, во всех случаях его предоставил.
– Собственно, вы что думаете? – закричал Куфальт. – Думаете, я стал бы писать слезные письма, если б у меня была возможность предоставлять в залог большие суммы денег?
– А маленькую сумму? – спросил господин Дитрих. – Ведь вы могли бы каждый день рассчитываться со мной.
– И маленькую тоже нет, – решил Куфальт. – Я все равно пойду к господину Фреезе.
– Это бессмысленно, – ответил господин Дитрих, направляясь к двери. – Фреезе хам из хамов. А вообще, – сказал он, нащупав наконец дверную ручку, – а вообще, я пришел к вам, потому что меня потрясла ваша судьба, прямо-таки потрясла.
– Да-да, – отрешенно произнес Куфальт, задумчиво глядя на своего длинноносого собеседника. Внезапно его осенило, – А не могли бы вы мне дать взаймы марок двадцать? – спросил он. – Дело в том, что я совсем на мели. – Он рассмеялся.
И случилось чудо. Дитрих, полупьяный субъект, в кармане которого звенело серебро союза трактирщиков, этот самый Дитрих просто засунул руку в карман, вытащил пригоршню мелочи, отсчитал четыре монеты по пять марок, сунул их Куфальту в ладонь, сказав:
– Расписки не надо. Мы таки будем работать вместе.
И, ступая осторожными мелкими шажками, – походка вечно пьяных, понимающих, что им приходится рассчитывать только на себя, – спустился вниз по лестнице.
8
Эмиль Брун жил на Лерхенштрассе далеко за городом, рядом с деревообделочной фабрикой, где он также, как в тюряге, сдельно сколачивал куриные насесты.
В окрашенной а зеленоватую краску каморке он проживал не один. Он делил ее со сторожем с кожевенной фабрики, уходившим в восемь вечера и приходившим в восемь утра, спустя полтора часа после того, как уходил из дома Брун. Они спали на одной кровати. Почти все у них было общим. Если возникали трения, а трения возникали часто, то решались они в воскресенье, когда сторожа с кожевенной фабрики не работали.
За какие-нибудь две недели своего пребывания в городке Куфальт знал их разногласия во всех подробностях, знал, что стервец-сторож никогда не пользовался своим мылом, а всегда брал чужое, что он никогда не убирал свое барахло и каждый воскресный вечер вваливался домой пьяный и с девкой, требуя, чтобы Брун спал на полу. «Погоди чуток, Эмиль. Мы скоро закончим…»
Да, об этих трениях Брун рассказывал долго и подробно. И все же слушать их Куфальту приятнее, чем знать, что Крюгер живет в одной комнате с Бруном.
Слава богу, Крюгер давно попался, он крал у своих коллег по работе. Мелкие, гнусные, бессмысленные кражи табака и запонок. Он снова сидел, и Брун его ничуть не жалел.
Если Эмиль Брун в чем-то изменился, то только в том, что мальчики больше не играли в его жизни никакой роли. Теперь он приударял за девицами, но почему-то у него ничего не получалось. То ли он был слишком робок, то ли слишком дерзок. А может, они чувствовали, что с ним что-то не так, и до серьезного дело не доходило. А он бегал за ними, широко распахнув свои добродушные голубые тюленьи глаза, ходил на танцульки, старался вовсю, покупал для них на свои гроши две-три кружки пива, а они его бросали. Исчезали в темноте или в открытую уходили с другими кавалерами, и Брун оставался в дураках.
Может быть, именно потому он так обрадовался возвращению Куфальта. Такой шикарный парень, так одет, с ним должно все получиться. Девчонки всегда ходят парами. Вот и хорошо, Куфальт возьмет ту, что посимпатичней, ведь та, что покрасивей, обычно ходит с некрасивой, но ведь и у некрасивой есть все, что нужно Эмилю Бруну.
Стоя перед зеркалом, он возился с белым воротничком – в здешних местах его называют крахмальником, – возился, рассказывая, какие симпатичные девочки придут сегодня на танцы в Рендсбургский трактир. Он так надеялся на Куфальта, не подозревая, что у того дела с девицами обстояли ничуть не лучше.
– Только чтобы было не очень дорого, – сказал Куфальт.
– Дорого? – переспросил Эмиль. – Я беру одну кружку пива на весь вечер. Ну конечно, если девочек нужно вначале напоить…
– Это исключено, – произнес Куфальт.
– Еще лучше, – согласился Эмиль. – Я ведь всегда говорил, что с тобой не пропадешь.
– Сколько ты заработал на прошлой неделе? – спросил Куфальт.
– Двадцать одну марку шестьдесят, – ответил Брун. – Эти бандиты каждый раз вычитают у меня все больше, знают, что могут со мной делать что захотят. Недавно рассказали мастеру, что я грабитель и убийца. Теперь тому достаточно открыть рот и шепнуть об этом коллегам, чтобы меня выставили. Ведь если они узнают, то работать с такими, как я, не будут.
Брун стоит перед зеркалом, воротничок и галстук сидят как надо. Он смотрит на Куфальта.
Куфальт – на Эмиля Бруна.
И чувствует прилив нежности. Безвозвратно ушло время, когда они слали друг другу через кальфактора записки, когда в душевой становились под один душ, когда любили друг друга.
И вот они снова рядом. Они разглядывают друг друга. Жизнь не стояла на месте, многое изменилось, в первую голову изменились они сами. Но жив еще дух тех лет, живы еще в памяти прикосновения, жгучие желания, пусть даже и не частые.
Нет, теперь они не жали друг другу рук. Ведь она, эта самая жизнь, шла дальше. Другая плоть, не та, что тогда в тюрьме, другие желания. По улицам спешат девушки, ветер раздувает их юбки; и грудь у них есть. Ах, это прекрасно, это могло бы быть прекрасно!..
– А со сберкнижкой ничего не получилось?
– Не получилось, – произносит Эмиль Брун. – Они меня здорово надули, сволочи. Но если я когда-нибудь попаду в тюрягу…
– Если ты готов, то пошли, – говорит Куфальт.
Нет, все прошло. Другой мир, другие люди, того, что было, не удержишь, не вернешь назад, но всюду – и в доме на Кенигштрассе, и здесь, на Лерхенштрассе. – холодная постель, одни и те же мысли, заботы и лишь желания.
Неужели ничего нельзя изменить?
9
На одной половине прокуренного танцзала, с потолка которого еще свисают гирлянды бумажных цветов и бумажные фонарики, оставшиеся после недавней карнавальной ночи, собрались девушки, а на другой парни.
На девушках короткие простенькие платьица фабричных работниц, у многих парней на голове картуз. Некоторые без пиджаков. Когда им хотелось потанцевать, они махали рукой, и девушка шла через зал и останавливалась перед своим повелителем, который преспокойно доводил беседу до конца и лишь после этого клал на спину своей партнерши руку и пускался с ней в пляс.
Куфальт и Брун сидели за одним из столиков и потягивали пиво. Другие парни в перерывах между танцами направлялись к буфету и стоя выпивали водку или пиво. Или вообще ничего не пили: не зря же они платили тридцать пфеннигов за вход? Музыканты старались вовсю, и девушки, танцуя, пели все шлягеры. А когда танец заканчивался, парни бросали партнерш и шли на свою половину.
– Может, пойдем в другое место, где поприличнее? – спросил Куфальт.
– Где поприличнее и стоит куда дороже, – ответил Брун. – А баба везде баба.
Куфальт хотел что-то возразить, и тут он увидел ее. Она была довольно высокого роста, с веселым открытым лицом, чувственными губами, курносая.
Может быть, платье у нее было немного симпатичнее, чем у других. А может быть, Куфальту это только показалось.
– Кто это? – с интересом спросил он Бруна, уже не думая об уходе.
Брун не сразу понял, кого имел в виду Вилли, а затем сказал:
– А эта, эту можешь забыть. Дело в том, что у нее уже есть ребенок.
– Ну и что? – не понимая спросил Куфальт.
– А то, что никто не хочет за ребенка платить, – пояснил Брун.
– Тогда тем более, – начал было Куфальт.
– Нет-нет, – сказал Брун. – С мужчинами она больше не встречается. Боится. Ее отец, стекольщик Хардер с Лютьенштрассе, отделал ее так, что она больше ни на кого и смотреть не хочет.
– Ах, вот оно что, – медленно произнес Куфальт.
Он тихо сидел и смотрел на нее. Казалось, музыка играла все громче, иногда незнакомка тоже танцевала и смеялась. Ее звали Хильдегард, она была дочерью стекольщика Хардера с Лютьенштрассе. Сегодня ночью она, вероятно, сбежала из дому. А он был Куфальтом с Кенигштрассе и не имел никаких шансов на работу. Но у него оставалось немного денег, был приличный костюм; и иногда она тоже на него поглядывала.
Когда девушки пошли к выходу, он отправился вслед за ними. И ничего страшного, что над тобой посмеялись, потому как оказалось, что ушли они не насовсем, а только в туалет. Что ж, можно спокойно постоять и тут, пусть себе смеются, ведь все равно все поняли: новичок в хорошем синем костюме, которого привел толстяк с деревообделочной фабрики, втюрился. Но кому от этого плохо? Раз в жизни не возбраняется позволить себе то, чего душа желает. Другие для него уже не существовали, он видел только ее, у нее привычка, когда танцует, приглаживать волосы, как будто придерживает голову. Но у нее есть ребенок, у нее уже были мужчины. С ней будет легче…
И еще голова: когда она опускает ее над кружкой, пряди волос закрывают ее лицо. «Ну выйди, – шепчет его внутренний голос, – выйди же скорей, мне нужно поговорить с тобой».
Но она танцует, смеется, болтает и совсем не смотрит на него, потому что знает теперь, что он на нее смотрит.
«Ну иди же!»
Милые одинокие ночи, вы сделали возможным то, что такое может случиться, может стать счастьем, огромным счастьем. И она не откажет, не скажет нет. Пусть они смеются над ним. В следующую субботу он будет танцевать с ней, и он непременно найдет работу, и женится на ней, и у него будет сын.
Ах Лиза, Лиза, как изменилась жизнь!
Вот они, маленькие, плохо освещенные, узкие городские улочки с маленькими домишками. Чувствуешь небо, чувствуешь, как низко висит оно и как оно близко. Ветер взвихривает пыль по углам, две идущие впереди девушки теснее прижимаются друг к другу. Он идет следом за ними. Идет, на шаг отстав от них, и все еще не произнес ни слова. Вот и Лютьенштрассе, она открывает дверь парадного, напоследок болтает с подружкой, а он стоит рядом, совсем рядом, умоляя: «Приди же, приди!»
Дверь дома захлопывается, та, другая, проходит мимо него, смеется, говорит: «Дурачок!» – и идет дальше. А он остается. На дворе темно, и ему становится страшно при воспоминании о своей пустой комнате.
Спустя какое-то время он обнаружил, что за домом есть двор и что калитка во двор не заперта, во двор можно войти, и что в окне на первом этаже еще горит свет.
Он и сам не знает, как это получилось, но надо же когда-то набраться мужества. Он тихо поскреб ногтем по стеклу, постучал громче. Окно распахнулось. И в окне показалась она. Тихонько спросила:
– Да?
– О, пожалуйста!.. – произнес Куфальт.
Окно снова захлопнулось, свет погас. Он стоял один в чужом дворе; неожиданно он посмотрел на небо и увидел звезды, странно, что они были такими близкими и большими. Он стоял и одиноко смотрел вверх и вдруг ощутил чью-то руку в своей руке и услышал шепот:
– Иди!
И снова в комнате зажегся свет, но кровать, которую он увидел, была не ее. Это была детская кровать, в ней спал ребенок. Он свернулся калачиком, подтянув колени под самый подбородок, вероятно, так он раньше сидел в материнском чреве. Щечки у него розовые, волосы на лбу спутаны…
Вдвоем они смотрят на ребенка.
А потом смотрят друг на друга.
О милое, милое лицо!
Вот он поднимает обе ладони и кончиками пальцев касается ее щек, клоня ее голову к своей. Ему кажется, будто он слышит, как шумит ее кровь. Так они долго смотрят друг на друга, он видит ее глаза с дрожащими ресницами, карие глаза. Лицо все ближе, ближе… огромное лицо.
Еще совсем недавно были звезды, и ночь, и безысходное одиночество. А теперь девичье лицо может заменить целый мир. С его горами и долинами, с утонувшими озерами глаз…
О милое, милое лицо!
А еще у нее есть губы. Они крепко сжаты. Они не поддаются, когда к ним прижимаются его губы.
Неожиданно от него отстраняется сначала ее плечо, затем лицо. Ребенок все еще спит. Они стоят: чужой мир.
– Иди, – просит она и за руку выводит его через двор на улицу.
И он идет домой.
Так все началось.
10
Есть множество вещей, о которых с Эмилем Бруном не поговоришь. В тюряге, казалось, была какая-то спайка, а теперь ее нет, есть множество вещей, о которых приходится молчать.
– Куда ты пропал вчера ночью?
– Я так устал, было так скучно…
– Наверное, потому что ушла Хильдегард Хардер?
– Ах, эта!
– И ты еще разрешаешь такой, как Врунка Ковальска с кожевенной фабрики, называть себя дурачком?
– Вранье, – только сказал Куфальт. – Все вранье. – И, видя, что Брун молчит, добавил: – С попами тоже ничего не вышло. Они тоже ничего не хотят делать, говорят, есть ведь собес. Как будто я сам не знаю!
– Ты даже не зашел к ней в комнату!
– Я вот что о тебе думал, Эмиль, – говорит Куфальт, и вид у него деловой. – Твоя деревообделочная фабрика – штука временная. Ведь ты прекрасный столяр…
– Верно, – соглашается Эмиль. – Кто одиннадцать лет столярничал в тюрьме…
– А если тебе сдать экзамен на подмастерье и наняться к настоящему мастеру, в Киль или в Гамбург, где никто тебя не знает?
Брун снова насупился:
– А деньги, дружок, где взять денежки на экзамен и на все то время, когда я ничего не буду зарабатывать? Нет, ты вчера осрамился перед всем городом. С тобой я, пожалуй, больше на танцы не пойду!
Может быть, рассказать ему? Да, можно и рассказать, ведь в конце концов он был в ее комнате, ночью, после двенадцати… Но детская кроватка и близкое милое лицо…
– А что, если мне пойти вместо тебя к директору и поговорить о тебе? – спрашивает Куфальт. – Ведь существует же фонд помощи бывшим заключенным. И есть резон помочь тебе, ведь ты получил бы приличную работу.
– Ты не сможешь это пробить, – примирительным тоном отвечает Эмиль. – Совет инспекторов будет против.
– Значит, я пойду и туда, – говорит Куфальт. – Старик всегда ко мне хорошо относился. Вот увидишь…
Ночь забыта, и забыт друг, которым хотелось похвалиться перед другими и который позволил назвать себя дурачком, так и не влепив польке, как положено, пощечину.
– Вот бы стать подмастерьем у столяра, – мечтательно произносит Эмиль, – Ты не представляешь, как мне надоела эта работа. Я делаю насесты уже восемь лет. Знаю каждый взмах. А вот если бы сделать шкаф или настоящий стол, ножки из хорошего дерева…
– Я скажу директору, – заявляет Куфальт. – Но, наверное, пройдет время, прежде чем это разрешат.
– У меня время есть. Я могу подождать, – говорит Эмиль.
– Ну хорошо! Значит, завтра, – решает Куфальт. – Мне нужно подумать, как у меня со временем. На завтра у меня много дел…
– А какие у тебя дела? – спрашивает Эмиль. – Ты ведь не работаешь.
– Вот поэтому-то у меня и много дел. Я весь день в бегах. – Он делает паузу и откашливается. Смотрит на дорогу – осенняя погода, холодно, ветрено, мокро, часов шесть, – тем не менее не исключено, что Хильдегард Хардер все-таки выйдет на улицу.
Но нет, она не появляется. И он небрежно замечает:
– Наверное, скоро я буду зарабатывать десять – двенадцать марок в день.
– Брехня, – бросает Брун,
– То есть как брехня? Вовсе не брехня, – возмущенно возражает Куфальт. – Я сегодня в обед был у Фреезе…
– Не знаю, – произносит Брун. – Не знаю, кто такой Фреезе. И сколько тебе пришлось заплатить ему за это тепленькое местечко?
– Ровным счетом ничего, – выпаливает Куфальт. – Ни одного пфеннига! Сначала ко мне зашел один тип, зовут его Дитрихом. Хотел получить залог. Ну, того я здорово надул, он хотел иметь двадцать пять процентов с моих доходов. А в конце одолжил мне двадцать марок!
Куфальт хохочет, и Эмиль смеется вместе с ним, хотя ему не все здесь понятно. И Куфальт рассказывает о Дитрихе: за кружку пива и стопку водки в кабаке, вот болван, хотел отнять у меня последние деньги, вот дурак…
Теперь смеется уже Эмиль.
– Поделом ему, стервецу! А потом ты тайком от него пошел к господину Фреезе?
– Да, пошел, – отвечает Куфальт, но отвечает как-то странно.
– Мне разрешили вербовать подписчиков и собирать объявления, и за все я буду получать деньги.
– Вот это, брат, да, ну молодчина! – ликует Брун. – Если ты еще и к директору пойдешь и дело выгорит, тогда мы оба заработаем кучу денег и сможем ходить в шикарные рестораны к настоящим бабам, а все эти Врунки и Хильды пусть…
И в этот самый момент рядом с ними раздался голос:
– Нельзя ли мне на секунду переговорить с вами?
Они смущенно замолчали.
Куфальт первый пришел в себя:
– Может, я сегодня вечером еще зайду к тебе, Эмиль!
– Отлично, – сказал Эмиль. – И помни о директоре!
– Само собой! – произнес Куфальт. – Все будет хорошо, дружище! – Его голос звучал неестественно бодро. А затем Хильдегард Хардер и Вилли Куфальт, миновав темный городской парк, вышли из города.
11
Куфальт не зря умолчал о беседе с господином главным редактором Фреезе. Хотя «Городской и сельский вестник» был меньше «Друга отечества», тем не менее господин Фреезе наверняка был не менее важной персоной, чем господин Шалойя.
Конечно, войти к нему было нетрудно. Ждать не пришлось…
– Идите прямо, – пробормотал долговязый костлявый человек с лошадиным лицом, указывая на дверь. – Но сегодня настроение у него не ахти.
И Куфальт вошел.
За письменным столом сидел толстый, грузный, неряшливый человек с грязно-белой, как у моржа, бородкой, со съехавшим вниз пенсне.
Итак, с одной стороны письменного стола сидит господин Фреезе, а с другой – стоит Куфальт. Между ними на письменном столе куча бумаг, пивные бутылки, пузатая бутылка коньяка, рюмки. У господина Фреезе серое лицо, а вот глаза, красные, смотрят зло.
Он щурится на Куфальта, открывает рот, словно желает что-то сказать, и снова закрывает его.
– Доброе утро, – произносит Куфальт. – Я пришел к вам по совету господина Дитриха.
Фреезе крякает раз, другой, наконец ему удается прочистить глотку так, что можно разобрать:
– Вон!
Куфальт на секунду опешил. Теперь это уже не прежний Куфальт, вышедший из тюрьмы с надеждой, что все пойдет гладко, он знает, что нужно быть немного настырным, глотать обиды, собственно говоря, так же, как в тюрьме. Поэтому он задумывается, а затем произносит:
– Я, собственно, пришел как раз вопреки совету господина Дитриха!
Он стоит и ждет, как это подействует.
Господин Фреезе зло смотрит на него своими маленькими красными глазками. Он снова крякает, прочищает глотку, затем ищет глазами бутылку коньяка, мрачно кивает головой, крякает еще раз и медленно произносит:
– Молодой человек. Вы хитры. Но вам не перехитрить старого человека.
Внезапно он прерывает себя.
– Вам не мешает печка?
Куфальт теряется, оглядывается на большую белую изразцовую печь, которая пышет жаром, стараясь угадать, что же хочет услышать от него собеседник (ему хочется сказать именно это), и потому он говорит:
– Да нет, она мне не мешает.
– А мне мешает, – с трудом выговаривает господин Фреезе. – Здесь холодно, ужасно холодно. Подбросьте-ка три брикета, нет, лучше пять.
В комнате стоит ящик с брикетами угля, но нет ничего, чем можно ухватить эти черные штуковины. Куфальт оглядывается по сторонам, его осеняет идея, он берет с письменного стола бумажку, по всей видимости рукопись, этой бумажкой он берет брикеты, швыряет их в топку, следом за ними и бумагу… поворачивается и смотрит на Фреезе.
– Ну и хитер, – бормочет тот, – ну и хитер. А все-таки не перехитришь.
Он сидит, опустив плечи, и выглядит мрачно, этот старик. Из окна на серое старое лицо, на покрасневший лоб, на редкую поросль седых белых волос падает отсвет осеннего луча солнца.
«Заснул, что ли?» – недоумевает Куфальт. Но тот и не думал спать.
– В тюрьме побывали, – произносит он. Знакомый цвет лица. А руки холит, сукин сын, надеется получить приличную работу.
Он мрачно поднимает вверх собственную лапищу и разглядывает ее. Вероятно, он не моет ее неделями, такая она у него грязная.
Фреезе качает головой. Снова смотрит на Куфальта, говоря:
– Все ерунда, юноша, все ерунда. За городским парком течет Трена, за кожевенной фабрикой есть пристань, везде вода, холодная и мокрая. Вам, может быть, еще есть смысл.
– А вам? – едва дыша, обращается Куфальт к этому призраку, пропитанному алкоголем и меланхолией.
– Стар, слишком стар. Когда больше ничего не ждешь, живешь себе дальше, и все… Вы еще чего-то можете ждать, ну и ладно!
Оба молчат.
– Холодно, – говорит старик и, морщась, глядит на печку. – Хватит, все равно не поможет. А как вы попали к Дитриху?
– Он был у меня на квартире.
– И что он вам предлагал?
– Разную работу, двадцать пять процентов доходов ему.
– Дали ему что-нибудь взаймы? – спрашивает Фреезе.
– Нет, – гордо отвечает Куфальт. – Он мне дал взаймы.
– Сколько?
– Двадцатник.
– Крафт! – громко кричит старик. – Крафт!!!
Дверь в переднюю открывается, и через нее просовывается лошадиное лицо.
– Ну, – спрашивает оно.
– Этот молодой человек с завтрашнего утра работает у нас, подписка и объявления. Ставка обычная. Если он не даст шести подписчиков в день, уволим. А пока уволим Дитриха.
– Но… – начал было Крафт.
– Уволим Дитриха, дает взаймы! – внушительно говорит Фреезе. И добавляет: – Вон!
И господин Крафт выходит вон.
– Значит, завтра утром в девять, – бросает господин Фреезе. – Но я вам сразу скажу, это бессмысленно. Вы никогда не сделаете шести, и я вас выставлю, а тогда вода… – Он сидит, наверняка он видит, видит ее. – Вода, – бормочет он. – Серая, холодная, мокрая. Вода… Мокрая… – морщась, повторяет он.
На сей раз он наливает себе рюмку коньяка. Кривится, когда пьет. Затем внятно говорит: – А как быть с двадцатью марками Дитриха? У него еще есть долги. Оплатите их сразу.
– Но… – начал было Куфальт.
– Ну вот, – говорит старик. – Боитесь, не на что будет жить в ближайшее время, а еще хотите вербовать подписчиков?! Всего хорошего.
– Всего хорошего! – отвечает Куфальт, и, уже стоя в дверях, еще раз слышит «вода», и видит серое оплывшее лицо, грязные седые волосы, видит этого вурдалака с бутылкой водки…
– Вода, – повторяет тот.
12
– Тебе понравился малыш? – спросила она.
– Очень, очень, – торопливо ответил он.
– Его зовут Вилли. Вильгельм.
– Меня тоже так зовут.
– Да, я знаю.
Ночь была темная. Над голыми деревьями городского парка нависло беззвездное небо. Сначала они шли рядом по освещенным улицам, затем, переходя шоссе, взялись под руки, потом, обнявшись, шли по пустынному городскому парку. Так они дошли до скамейки, вокруг которой росли молодые сосны. Ветер шумел над ними, шумел где-то далеко. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, было тепло.
Он видел ее лицо, от которого словно исходило сияние, темнели бархатом впадины глаз, и из этой темноты пробивался наружу яркий свет.
– У детей должен быть отец, – сказала она.
– Я тоже долго жил один, – произнес он, прижавшись головой к ее плечу. Было мягко. Она притянула его к себе ближе, и его рука легла ей на грудь.
– А я и подавно! – произнесла она. – Когда случилась эта история с ребенком и все пялили на меня глаза, я вдруг стала дрянью, отец постоянно бил меня, а мать вечно плакала…
Она погрузилась в собственные мысли.
– А мой отец умер, – сказал он.
– Ах, так было бы лучше! – воскликнула она. – Тогда бы я могла снять комнату и работать для ребенка… а так…
– А почему бы тебе не уехать отсюда? – спросил он. – Ведь ты совершеннолетняя.
– Нет, так нельзя, – убежденно возразила она. – Ведь отец здесь мастер, а до того, как со мной это случилось, он был старшим мастером. И меня здесь все знают! Нет, нет, лучше мне оставаться дома, пока не выйду за кого-нибудь замуж.
Некоторое время царило молчание. Ладонь, прижимавшая его голову к теплой мягкой груди, разжалась. Девушка высвободила другую руку, и вот уже обе ладони подняли его голову, их губы коснулись друг друга, и на сей раз губы девушки не были плотно сжаты. Рот ее полуоткрыт, губы мягкие, кажется, будто от поцелуя они распускаются, как почки.
На секунду губы Хильды отстраняются, она издает звук: удовлетворение, глоток воды после долгой жажды – а затем ее рот словно падает с ночного неба на его губы, пьет, требует, обжигает, становится полным, горячим, нежным…
Ни звука, ни слова, ни ласкового имени. Два страждущих наконец-то утоляют жажду. Тихие бесконечные поцелуи – а в промежутках Куфальт вслушивается в ночной ветер в лесу, сучки со скрипом трутся друг о друга, внезапный ветер кружит осеннюю листву, далеко-далеко слышен гудок автомобиля.
И пока Куфальт, не переводя дыхания, пьет, безграничная печаль наполняет его сердце: ушло, еще целую, но все уже ушло… Все в самом начале, и уже конец. И еще: у детей должен быть отец… его зовут Вилли… пока не выйдет за кого-нибудь замуж… ушло, ушло вместе с поцелуями…
Бедная, скудная земля, вместе с утолением желаний приносящая печаль, планета, едва согретая лучами солнца и уже окаменевающая от ледяного холода… холодный жар, бедный Куфальт…
Ах, как они целуются, обнимаются, часто дышат, мозг пылает, сердце трепещет, перед глазами пляшут огоньки, словно тлеющие в пепле угли. Они целуются все более страстно, жадно, с упоением, но в голове Куфальта роятся злые мысли: «Ты хитра, а я похитрее тебя… Хочешь поймать меня, а я, может, поймаю тебя…» – и его рука скользит с плеча под пальто, по блузе, на грудь, берет ее. И его нога трется об ее ногу.
Хильда вскакивает. Будто железка от магнита отрывается она от него.
Какое-то время оба стоят шатаясь. Она – он чувствует это даже ночью – трогает свои волосы, как делала это вчера на танцплощадке.
– Нет. – Он слышит ее шепот. – Никогда-никогда.
– Я только хотел… – торопливо говорит он.
– Если ты этого хочешь, – произносит она, – тогда нам лучше тут же разойтись. С меня одного раза хватит.
Она вздрагивает. Берет его под руку.
– Пошли. Холодно. Давай немного пройдемся.
Они идут. Нет, она не обиделась, но… от этого никогда не избавиться, думает Куфальт. С нее действительно хватит. Она боится. И говорит:
– Тебе не пора еще домой? Что скажет отец?
– Отец играет в кегли.
Даже в темноте она находит нужную тропинку. Городской парк не такой уж маленький, а она – знает каждую тропинку.
– Нам нужно свернуть влево, там, где все черное-пречерное. Тогда мы выйдем к шалашу.
«Сколько раз она гуляла здесь с другим, – думает Куфальт. – Или с другими. Кто отец – неизвестно, и потому за ребенка никто не платит. И надо же было мне появиться тогда, когда она больше никого не хочет. Всегда мне не везет».
– Тот маленький толстяк, с которым ты был в Рендсбургском трактире, он что, твой друг?
– Брун? Да, – отвечает Куфальт. – Он мой друг.
– Остерегайся его, я слышала, он грабитель и убийца.
– Грабитель и убийца… – сердито говорит Куфальт. – Что ты знаешь об убийцах? Он славный парень.
– А в тюрьме сидел, – упрямится она. – Я это знаю наверняка.
– Ну и что? – спрашивает Куфальт. – Ты считаешь, что это ужасно?
– А это как посмотреть, – заявила она. – Я бы не хотела такого. И безработного тоже не хотела бы. Сам подумай, жить на пособие и целый день терпеть мужика в доме! Да у меня таких могла бы быть целая куча.
– Да, – говорит Куфальт.
Ему показалось, что она еще дальше отстранилась от него. С ней было так хорошо, пока оба молчали, а теперь, когда заговорили, они отдаляются друг от друга.
– Да, – повторяет он.
– Где ты работаешь? – спрашивает она. – Сидишь где-нибудь в бюро или работаешь продавцом?
– Нет, я работаю в газете, – говорит он.
– Вот здорово! – вырывается у нее. – У тебя наверняка много контрамарок. А нельзя нам в ближайшее время сходить в кино?
– Не знаю, – в нерешительности произносит он. – Нужно сначала посмотреть, как это сделать. Ведь у нас в «Городском и сельском вестнике» есть еще люди.
– Так ты работаешь в «Вестнике». – Она немного разочарована. – А я думала, в «Друге». Мы всегда выписываем «Друга». Ведь «Друг» гораздо интересней!
– Но ведь вы не читаете «Вестника»?
– Нет, мы его читаем. Но мы привыкли к «Другу». Может быть, «Вестник» стал лучше, – примирительно произносит она. – Я ведь не знаю, мы всегда пробегаем «Вестник» только глазами. Пойдем, вот и шалаш. Может быть, там будет теплее.
– Нет, – говорит он. – Мне хочется домой.
– Ну вот, ты и рассердился! – растерянно восклицает она. – Это из-за того, что я говорила о «Вестнике»? Никогда больше не буду говорить плохого о «Вестнике», обещаю!
– Нет, я устал. Хочется домой, – говорит он.
Они стоят рядышком. На поляне, где притулился маленький шалаш, немного светлее. Он видит ее лицо; ее руки, умоляя, прижимаются к груди.
– Вилли, – произносит она, впервые называя его по имени. – Не обижайся на меня. Пожалуйста, пойдем.
– А я и не обижаюсь, – говорит он, а в его голосе слышится досада. – Но я действительно устал и хочу скорее в постель. Завтра у меня много дел.
Она опускает руки, молчит.
– Тогда иди, – беззвучно шепчет она. – Иди.
Помедлив, он оборачивается, бормоча «спокойной ночи».
– Спокойной ночи, – тихо отвечает она.
А затем:
– Поцелуй меня еще раз, Вилли, пожалуйста.
И вдруг он обнимает ее. О боже, ведь она – женщина, женщина, женщина, которую я желал годами, жена, женщина, грудь, счастье, великое, великое счастье… Устал, назад в комнату, в одинокую постель…
И он обрушивает на нее шквал поцелуев. Дурманит ее водопадом прикосновений – здесь, тут, там. Он бормочет слова, бессвязные, бессмысленные слова.
– О ты, ты снова со мною… ты моя… как я тебя люблю!..
Они шатаются как пьяные. Шалаш близко, скрипит дверца.
Внутри темень, затхлый холод, пропитанный запахом гниющего дерева…
Стало тише. Дыхание успокаивается, они дышат ровно, Хильда тихо плачет. Его голова покоится у нее на коленях. Она гладит его волосы, но думает, вероятно, о других волосах, мягче, светлее, моложе.
В постельке, в полутора километрах отсюда, спит маленький Вилли. Она может пойти к нему, но может ли она остаться у него? Никогда, никогда, сказала она, и пока это так.
– Да не плачь же, – просит он. – Наверняка все в порядке.
Она плачет. А затем шепчет:
Я тебе хоть чуточку нравлюсь, Вилли? Пожалуйста, скажи!
13
Он ответил, а сам подумал: «Сказать можно что угодно. Только верит ли она сказанному?» Потом они расстались. Свет уличного фонаря падал на ее заплаканное лицо.
Сказать можно что угодно.
Но вот он лежит в постели один: видишь, хорошо лежать в постели одному, среди прохладного гладкого белья, без чужого тепла. Он лежит один, в комнате сумрачно, отсвет уличного фонаря высвечивает стену, на которую он глядит.
Сказать можно что угодно. И еще: она хотела меня обмануть, а обманул ее я.
Он закрывает глаза, становится совсем темно. Но из бездонной глубины выплывает маленький светлый образ: вчерашняя Хильдегард у постели ребенка. Вот она склоняется над ним – и сегодня ночью в шалаше у нее было такое же движение… Нет, она не только сопротивлялась, не только выражала отчаяние и плакала, она принадлежала ему, на мгновенье она заключила его в свои объятия, его, Вилли Куфальта, и она желала его – всего одно мгновенье.







