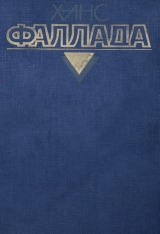
Текст книги "Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Идем на дело
1
Первая декада февраля. Гамбург пропитан дождями, туманом, холодом, слякотью и быстро тающим снегом.
Стоит ночному ветру подуть со стороны Аусен и Инненальстера, как люди поднимают воротники пальто и стараются быстрее попасть домой. Напрасно сверкают великолепным блеском шикарные магазины на Юнгфернштиге; разве что разгоряченная и оживленная молодая парочка после театра или кино остановится поглазеть на витрину: «Смотри, какой красивый большой аквамарин! Не этот, другой, оправленный в старое серебро…» – «Да, прекрасно! Пойдем, нам еще до дома добираться, а эта сырость и холод до костей пробирают!»
Еще десять минут, и поток зрителей из театров и кино уже иссяк, свет в витрине гаснет, с шумом спускаются жалюзи, стальные решетки вставляются с внутренней стороны окон – улица пустеет, лишь озябшие девицы стоят на углах в ожидании клиентов.
– Ну, миленький, что будем делать?
– Некогда, крошка, некогда, – торопливо произносит молодой человек в пальто и котелке. – В следующий раз.
Он быстро шагает дальше, воротник его пальто тоже высоко поднят, но, похоже, сырость и резкий ветер ему нипочем. Он довольно насвистывает что-то и твердо ступает каблуками, разбрызгивая снежное месиво.
«Порадуется же старушка Флеге утром моим порткам», – мельком проносится у него в голове.
Возле Альстерского павильона стоит полицейский. Он возвышается на посту темной грозной фигурой и зорко следит за улицей, но молодой человек только громче насвистывает…
«Ну и стой себе. Только стоишь на двести метров дальше, чем нужно!» – И он поворачивает на Гроссе Блейхен.
Больше ему спешить не нужно. Он идет довольный, снова насвистывает, останавливается перед витриной магазина мужской одежды и заговаривает с девушкой. Уходя, дарит ей сигарету и обещает на следующий вечер в восемь быть у этого же магазина. Сейчас у него, к сожалению, свидание.
За Гроссе Блейхен начинается Вексштрассе.
Кажется, уличные фонари здесь тускнее, да и людей почти не видно. Часы на Михеле бьют полночь.
Молодой человек перестает свистеть, идет медленно. Мрачной громадой возвышаются неосвещенные дома, в гавани воет сирена: из-за сырого воздуха кажется, будто пароход плывет за ближайшим углом.
На Гроссе Ноймаркт человек в нерешительности останавливается, снова закуривает сигарету, потом быстро идет в кафе, подходит к стойке и заказывает грог с двойной порцией рома.
Когда он его допивает, на часах двадцать минут первого. Он платит и снова выходит на улицу. Но дальше не идет, а возвращается и снова отыскивает Вексштрассе.
На углу Трампганга тоже стоит одинокая девушка. На сей раз он не ждет, когда с ним заговорят, а сам заговаривает с ней. Он немногословен.
– Ну? – спрашивает он.
– Он у Лютта, – торопливо шепчет она.
– Точно?
– Клянусь. А где мои пять марок?
– Две, – немного подумав, отвечает мужчина. – Вот. Остальные три получишь, если он действительно там.
– Будь осторожен, Эрнст, – предупреждает она. – Это зверь. Вчера избил Эльзу до полусмерти и вытряс из ее дружка все бабки.
– Значит, у него есть деньги? – Человек разочарован.
– Да, марок двадцать наверняка.
– Хм, хм! – раздумывает он. – Тогда пока.
– Точно?
– Клянусь, – передразнивает он ее, смеется и идет дальше.
2
Он идет не на Трампганг, а прямо, останавливается у Радемахерганга, смотрит в темный провал, где тускло светит газовый фонарь, оглядывается по сторонам – и ныряет в Трущобы. Идет направо, еще раз направо, снова пересекает Вексштрассе, исчезает в Лангенганге, проходит до Дюстернштрассе и снова исчезает в Шульганге.
Он идет все время посередине узких переулков, иногда вытягивает руки, пытаясь достать стену дома справа и слева. Иногда это ему удается, а иногда переулок слишком широк.
До сих пор ему не встретился ни один человек. Старые фахверковые дома стоят тихие, неосвещенные, будто давно вымершие, они склоняют друг к другу крыши, словно хотят упасть, и неба совсем не видно.
Иногда на мостовую, по которой он идет, падает свет из пивных, звенит цимбалами и колокольчиками оркестрион, пронзительно визжит граммофон. Окна пивных завешены желтыми или красными гардинами.
Человеку больше не до свиста, хотя идет он медленно, ему даже жарко, раз он хватается за задний карман брюк. Все в порядке, но решиться все-таки не легко, даже если храбришься перед девушками.
Еще не поздно повернуть к дому!
Человек очутился прямо на Кугельс Орт, уже виден красноватый свет из окон пивной Лютта. Теперь за дело!
Двое дюжих полицейских, перепоясанные ремнями, шагают прямо на него, ремешки касок туго затянуты под подбородком, дубинки покачиваются в такт шагам.
Они пристально следят за любителем поздних прогулок.
– Вечер добрый, – говорит он, вежливо поднимая черный котелок.
– Скверная ночь, – неожиданно мягко и тихо произносит один из полицейских. – Скверная погода, скверное место.
Человек – он хотел пройти мимо них в Кугельс Орт – вынужден остановиться. Оба верзилы смотрят на него сверху вниз – как на куклу.
– Туда можно? – спрашивает осторожно человек, кивая головой на свет из кабачка Лютта.
– Почему вы хотите именно туда? – дружелюбно спрашивает полицейский на мягком гольштинском диалекте.
– Мне интересно, – отвечает человек. – Я так много слышал об этом квартале.
– Лучше бы вам туда не ходить, – тихо, но твердо шепчет полицейский. – А то ненароком котелок проломят. – И сам смеется своей шутке.
– Ну и ну! – разочарованно произносит человек. – Куда же еще тогда пойти?
– Домой! – неожиданно рявкает другой полицейский. – И как можно быстрее. Нам здесь еще хлопот не хватало!..
Он хотел еще продолжить, но человек уже торопливо прощается, еще раз приподымает шляпу, быстро пересекает Кугельс Орт, бежит по Эбрееганг, резко сворачивает в Амидаммахерганг и в третий раз появляется на Вексштрассе. Девушки здесь больше нет, он спешит вниз по Вексштрассе и через четыре минуты снова появляется на Кугельс Орт, но теперь уже с другой стороны. Кугельс Орт безлюдна, кабачок Лютта мирно отбрасывает на булыжники красноватые блики. Какое-то время человек переводит дух, вытирает потное лицо носовым платком, вынимает из заднего кармана брюк пистолет, прячет его в карман пальто, а затем решительно нажимает на латунную ручку двери кабачка Лютта.
3
Кто-то пронзительно закричал: «Шухер!»
Воцарилась глубокая тишина.
Человек закрыл за собой дверь и, щурясь, оглядел затянутое дымом помещение. Все повернулись в его сторону.
– Вечер добрый, – сняв шляпу, сказал он.
Толстый хозяин с одутловатым синим лицом, обезображенным красно-сизым бесформенным носом, мирно поздоровался:
– Вечер добрый, Хайдеприм, – и едва заметно кивнул на дальний угол своего заведения.
– Вечер добрый, господин сыщик, – произнес какой-то парень. – Окурком не угостите?
– Сам на мели! – бодро ответил человек, пытаясь улыбнуться.
У него за спиной – теперь он стоял у стойки – поднялись двое и двинулись на него.
– Ну-ка отвали! – приказал человек.
– Оставьте его в покое, вы, – скомандовал и хозяин. – Он свой.
Парни остановились в нерешительности.
– Ты, стукач, – сказал один. – Нам только новой рожи тут не хватало? Самим уже делать нечего.
– Заткни глотку и сядь! Сядь, или я вышвырну тебя вон. Ты что, сюда задарма погреться зашел?
Парни сели, сердито перешептываясь между собой.
Человек выпил у стойки большую рюмку коньяку. Потом еще одну.
Молодые парни с завистью смотрели на него: у этого деньги водятся!
Из глубины пивной не спеша вышел высокий мрачный человек, ширококостный, с мощными, как моечные вальки, руками. Он медленно надвигался на человека у стойки и бесцеремонно встал перед ним, упершись в него взглядом. Это был злой, ненавидящий взгляд, низкий лоб под черными волосами – выпуклый и морщинистый, толстогубый рот полуоткрыт, видны черные испорченные зубы.
– Здравствуй, Бацке, – сказал человек у стойки и прикоснулся пальцами к шляпе.
Бацке посмотрел на человека, шевельнул губами. Потом медленно поднял громадную ручищу…
– Бесполезно, – бросил человек, но его голос немного дрожал. – Пушка!
Рука в кармане приподнялась, и ствол оттопырил ткань пальто, Бацке рассмеялся.
– Малец и с пушкой! Прежде чем выстрелишь, я тебя прихлопну. – Его рука снова поднялась.
– У меня есть для тебя четыре сотни, – быстро произнес человек.
Лицо Бацке изменилось, он опустил руку и еще раз посмотрел на человека. Потом, не говоря ни слова, пошел в свой угол, плотно засунув руки в карманы пиджака.
Человек проводил его взглядом. Затем вытер рукой лоб, мокрый от пота, и сказал хозяину:
– Еще один коньяк, а?
Он чувствовал на себе взгляды всех сидевших в передней части пивной, но их выражение было другим. Он лил свой коньяк, вопросительно поглядывая на хозяина. Тот отрицательно покачал головой.
– Не теперь, – прошептал он. – Он здесь не один.
Человек допил коньяк, расплатился и, прикоснувшись пальцами к своей черной шляпе, сказал:
– До свидания.
– До свидания, Хайдеприм, – ответил хозяин, и человек удалился.
4
На улице стояла девушка.
– Он там? – спросила она.
– Вот твои три марки, – сказал человек. – Дождись, пока он выйдет. Не называя моего имени, скажи, что «четырехсотенный» его ждет. Поняла?
– Да, – сказала девушка. – «Четырехсотенный» ждет тебя.
– Потом приведи его ко мне.
– А что я буду иметь? – спросила девушка. – Холодно, а у меня подметки дырявые.
– Еще три марки, – сказал человек. – Не хочешь, не надо.
– Договорились, – сказала девушка.
Человек быстро вышел на Вексштрассе, осмотрелся по сторонам (встреча с полицейскими была бы для него теперь некстати) и быстро зашагал вниз по Вексштрассе к Фулентвите.
Пройдя немного, он снова внимательно осмотрелся: улица была пуста, он быстро открыл дверь и вошел в дом. Потом тщательно запер за собой дверь. Без света, ощупью поднялся по лестнице, открыл дверь на этаж, включил свет и вполголоса сказал:
– Все в порядке, госпожа пасторша. Спите спокойно.
Он слышал, как зашуршала постель и женский старческий голос произнес:
– Хорошо, господин Ледерер, а как там в театре?
– Отлично, отлично, – сказал человек и повесил пальто и шляпу в шкаф. – Между прочим, возможно, ко мне еще придет мой коллега с женой. Вы не беспокойтесь, я сам вскипячу воду для грога.
– Большое спасибо, – сказала старушка. – Спокойной ночи. Завтрак – как обычно?
– Завтрак – как обычно, – сказал человек. – Спокойной ночи.
Он выключил свет в прихожей и прошел в свою комнату. В темноте он постоял минутку в раздумье.
Ветер бушевал вокруг дома, завывал за окнами, затем ударил в стекла, словно кто-то швырнул горсть колючего снега.
– Скверная ночь. Скверная погода. Скверное место, – повторил он и вздохнул.
Некоторое время он стоит в темноте, слушает шум ветра и снега. «Может, он вообще не придет, – думает он. – Тоже хорошо. Придет завтра. Прийти-то он придет. У него двадцать марок – четыреста его наверняка приманят».
Он включает свет.
Чистая, приличная комната, темный дуб, большие темные кабинетные кресла, настоящий шкаф для ружей, люстра из оленьих рогов со светильником в виде женской фигурки. За большой ширмой зеленого шелка – кровать.
Человек берет из книжного шкафа пачку сигарет, ящичек с сигарами и ставит их на курительный столик. Потом достает бутылку коньяка и бутылку рома из буфета, ставит их рядом. Затем три рюмки, три чайных стакана, сахарницу.
Стоит минуту в задумчивости, прислушивается. «Эти старые дома слишком тихие», – думает он. Потом достает три чайных ложки.
Он снова задумывается и медленно идет к двери. Затем возвращается, достает бумажник из пиджака и отсчитывает восемь купюр по пятьдесят марок. Он складывает их, кладет на курительный столик и ставит на них большую, тяжелую мраморную пепельницу. Внимательно проверяет, не выглядывают ли купюры из-под пепельницы. Потом опять задумывается.
Он заходит за ширму и появляется оттуда в домашних туфлях и куртке. В руке у него пистолет.
Он оглядывает оба клубных кресла и, не удовлетворившись, придвигает к столу еще стул из плетеного камыша. Стул с подлокотниками и с подушками на спинке и сиденье. На сиденье сбоку он кладет пистолет и прикрывает его носовым платком.
Потом отходит на два шага и смотрит на стул. Все хорошо: пистолета не видно, а платок лежит как будто его забыли.
Он слегка вздыхает, смотрит на часы (час пятнадцать) и идет на кухню, где ставит на совсем слабый огонь кастрюлю с водой. Вернувшись в комнату, берет книгу и начинает читать.
Проходит очень много времени, в доме мертвая тишина, но ветер, кажется, усиливается. Он сидит и читает, его бледное напряженное лицо с безвольным подбородком и чувственным ртом выглядит усталым, но он продолжает читать.
Потом он снова смотрит на часы (два часа пятьдесят семь), в нерешительности рассматривает приготовленное на курительном столике, встает, прислушивается. Ничего.
Он осторожно проходит через прихожую, заглядывает на кухню, доливает воды в наполовину выкипевшую кастрюлю, открывает входную дверь и прислушивается, что происходит в подъезде. Ничего.
Продрогший, он возвращается в комнату, наливает себе рюмку коньяка, потом вторую, третью…
Поверх пистолета ложится еще и книга, человек принимается ходить взад и вперед. Он ходит неслышно, безостановочно, одна половица скрипит под его ногой, и, хотя он весь погружен в свои мысли, после третьего раза нога сама уже не наступает на нее.
Снаружи в прихожей слышится тихий шорох, он открывает дверь своей комнаты и говорит вполголоса:
– Сюда. Пожалуйста, тише.
Бацке входит первым, за ним девушка, он кажется развязнее, чем раньше.
– Ну, старина Куфальт…
– Нет, никаких имен! – быстро говорит человек. – Ильза, принеси воды для грога, она наверняка давно вскипела. – И когда она вышла: – Между прочим, меня зовут Эрнст Ледерер…
– Ерунда, – говорит Бацке, – налей-ка мне коньяку, Ледерер. Или мне можно прямо из бутылки?
5
Овдовевшая госпожа пасторша Флеге никогда еще не имела такого приятного квартиранта, как господин актер Эрнст Ледерер, который жил у нее с конца января. Не только потому, что, будучи натурой широкой, сам объявил, что пятьдесят марок – слишком низкая плата за такую прекрасную комнату, да еще с отоплением, да с завтраком, и что он будет платить семьдесят пять. Нет, он был также щедр на букеты, коробки конфет, театральные билеты. И все это для старой семидесятилетней женщины!
Но самым приятным было то, что он охотно сидел и болтал с ней, старухой. Ее любимый муж умер более двадцати лет назад, ее дочь была замужем за помещиком в теперь уже датской части провинции Фленсбург и приезжала чрезвычайно редко. У старой дамы не было больше друзей или были такие же старые и дряхлые, как и она, и не могли ходить в гости.
Она уже долго одиноко жила в своей комнатке и к тому же боялась своих квартирантов и квартиранток, которые были шумными и грубыми, плохо платили, портили вещи, постоянно предъявляли новые требования… а господин актер Ледерер!..
Поначалу он ей не очень-то и понравился. Он был шумным и излишне откровенным, нанимая комнату, много и беспричинно смеялся, глядя на нее нахально, а потом вдруг притих и сделался немногословным.
Со временем она лучше его узнала. У госпожи пасторши Флеге была серо-черная кошка Пусси, самая обычная домашняя кошка, которая пришла к ней когда-то совсем маленьким котенком, едва живым от голода. Она привыкла к Пусси, к этому ласковому доверчивому зверьку, с которым можно было разговаривать в сумерках и который мило мурлыкал как бы в ответ…
Но, к сожалению, дворовая кошка навсегда сохраняет свои привычки, Пусси была бродяжкой и не могла от этого отвыкнуть! Как бы внимательно ни следила за ней госпожа Флеге, Пусси время от времени все-таки сбегала через открытое окно или проскальзывала под ногами через входную дверь, пока пасторша разговаривала с молочником – и исчезала!
Тогда для госпожи пасторши наступали горестные часы и даже дни. Насколько позволяли ей старые ноги, она обегала соседние дворы и справлялась о кошке. Но вокруг было так много жестоких людей, они потешались над ней, называли «полоумной старухой» или «кошачьей мадам»! Они не понимали, как она тревожилась: по соседству столько больших злых собак. Она, конечно, знала, что нельзя всем сердцем привязываться к неразумному созданию, но ее любимый муж так давно умер, а дочь Гета жила так далеко!..
В такие дни она много плакала, крупные светлые слезы катились по ее лицу, плакала беззвучно, даже не всхлипывала. Ведь жизнь в одиночестве так тяжела, и Господу Богу давно пора над ней сжалиться.
Господин Ледерер прожил у нее только три или четыре дня, когда Пусси вновь убежала. Поначалу госпожа пасторша ничего не хотела ему говорить – Пусси ведь всегда возвращалась. Но потом, когда измученная первыми поисками, она сидела у окна и на улице пронзительно взвизгнул тормозами автомобиль, она вздрогнула от испуга – ей показалось, что это был крик Пусси, и тогда все-таки пошла к нему.
Сначала он, правда, не совсем ее понял, он сидел за письменным столом, обхватив голову руками, и ей даже показалось, что ему дурно… Но когда он поднял голову, она увидела, что он чем-то расстроен. Лучше бы ей вообще ничего не говорить, но он уже кивнул головой и сказал: «Поищем…»
Она стала отговаривать его, сказала, что вовсе не это имела в виду, и господину Ледереру непременно нужно к вечеру повторить роль… На госпоже Флеге был смешной черный чепчик, плоская нашлепка из черного бисера, какие сейчас уже никто не носил, и господин Ледерер не отрываясь смотрел на съезжавший набок чепчик…
Затем решительно объявил, что сейчас же отправится на поиски!
Каждые четверть или полчаса он возвращался и докладывал: то он видел Пусси, но не поймал, то купил копченую сельдь для приманки, то зеленщица фрау Леман сказала, что видела Пусси во дворе у мусорных баков…
Наконец госпоже пасторше Флеге пришлось напомнить ему, что уже пора в театр. А этот смешной, чересчур старательный человек только пожал плечами и сказал: «Да какой там театр!», – но, опомнившись, все-таки пошел.
Вернувшись в половине двенадцатого – обычно он так рано не приходил, – постучал к ней в дверь – она еще не спала – и сказал:
«Я с Пусси!»
Вдова вышла в ночной блузе и нижней юбке, в кружевном чепце на маленькой головке с редкими седыми волосами – только любимый муж видел ее в таком одеянии, но она не стеснялась и лишь тихо плакала. «Ничего, ничего, госпожа пасторша, – сказал он. – Вот она – Пусси. Кстати, моей заслуги здесь нет, она сидела перед дверью дома. И не надо меня благодарить – не за что».
Он сходил вместо нее в полицейский участок (там часто грубят старым женщинам), заказал для нее уголь и встал в восемь утра, когда его привезли, и впервые она получила все сполна и все брикеты целыми, он повесил гардины и вынес во двор ведро с мусором… И не требовал никакой благодарности. Когда же она пыталась благодарить и брала его за руку, он искренне смущался и, не говоря ни слова, уходил в свою комнату. Или же сердился и говорил: «Не стоит благодарности, госпожа пасторша, благодарить будете после…» Вдова долго думала, не значит ли это, что он собирается съезжать с квартиры?
Да, он был любезным, тихим и мирным человеком, но самым приятным было все-таки то, что вечерами, когда смеркалось, он сидел у нее и слушал рассказы о муже и прекрасном приходе в Вильстермарше, где родилась Гета и где фрау Флеге провела самое счастливое время.
Он тихо сидел или неслышно ходил по комнате, покуривая сигарету. (Вообще-то она не выносила дыма, однако находила, что его сигареты пахнут приятно.) Он умел слушать, никогда не скучал, к месту задавал вопросы, и взгляды их во всем совпадали.
Своим высоким старушечьим голосом она нараспев рассказывала о пасторской усадьбе с шестьюдесятью моргенами земли. Правда, ее любимый муж ничего не понимал в сельском хозяйстве, но ему доставляло большое удовольствие самому обрабатывать землю, – разумеется, вместе с батраком. Он любил сам походить за плугом, после чего чувствовал себя разбитым, но бесконечно счастливым и говорил: «Гета (ее тоже звали Гетой, как и дочь), Гета, сейчас я смогу прочесть проповедь на празднике урожая совсем по-другому, не так, как раньше».
– А вода у вас была? – спросил господин Ледерер.
– Ну разумеется! У нас было все.
Она рассказала, как однажды в январе маленькая Гета, ей тогда как раз исполнилось пять лет, упала в пруд. Она даже не заплакала и, выбравшись из пруда, залезла в старый пыльный ландо в каретном сарае, где разделась догола, аккуратно развесила свои вещи сушиться и не хотела возвращаться домой, пока все не высохнет. «А ведь ее черное бархатное платьице и за три недели не высохло бы. И ни насморка, вообще ничего. Сейчас у Геты собственные дети, должно быть, совсем большие… Старшую зовут Ингрид – вам нравится это имя? Они ведь теперь датчане, дети переехали в Копенгаген, вы представляете, господин Ледерер?»
Иногда госпожа пасторша Флеге спохватывалась, что все время рассказывает только о себе, краснела, извинялась, и тогда наступал черед господина Ледерера.
Но его рассказы были короткими, ему, собственно, было не о чем рассказывать. Он был простым актером, каждый вечер ходил в театр, после спектакля репетировал до полуночи. Нет, знаменитым он не был, так, на вторых ролях, она же видела его на сцене…
Да, конечно, видела, он часто одаривал ее билетами. Сначала она его не узнавала, но он объяснил, что искусство как раз и состоит в том, чтобы быть совершенно неузнаваемым. Однажды он был генералом, а другой раз, в сказке, водяным, злым духом – понятно, что каждый раз выглядел по-разному и что она его не узнавала, да и глаза ее уже плохо видели. Госпожа Флеге очень гордилась своим квартирантом и старательно собирала программки, в которых стояло его имя: Эрнст Ледерер.
А Куфальт…
После приезда в Гамбург Куфальт не сразу поселился у вдовствующей госпожи пасторши Геты Флеге: это произошло через несколько дней после того, как был выработан четкий план, и далекая от мира госпожа пасторша стала частью этого плана.
Сначала он поселился в маленькой, довольно грязной гостинице, где провел несколько ночей. Днем совершал дальние прогулки, размышлял о жизни и строил планы относительно своего будущего.
Он перебирал в памяти события за последние три четверти года, с тех пор как вышел на свободу. Плохое это было время, все девять месяцев. Ни одного хорошего часа, ни одного! Он старался, унижался, трусил и льстил, усердно работал – никакой пользы!
Нет, он понимал, что причина была не только в других: в Волосатике, Яухе, Марцетусе, Мааке, Хильде и так далее – причина была в нем самом. Порою казалось, что наконец все идет гладко. но потом что-то непременно мешало. Он не мог спокойно жить, он сам создавал себе сложности, унижался десятки раз и трусил, когда в том не было никакой необходимости, то вдруг бессмысленно домогался чего-то, возносился, а затем разрушал все, когда в этом опять-таки никакой необходимости не было.
Почему все так случалось? Был ли он таким уже раньше?
Нет, говорил он, причина не только в том, что нужно что-то скрывать, это чепуха. Просто я от чего-то еще не избавился и по существу ощущаю себя в каталажке. Я все время чувствую, как легко там очутиться снова.
Однажды, еще в заключении, он сказал начальнику тюрьмы, что ощущает себя человеком без рук. Начальник возражал, но это было именно так. В течение пяти лет он был лишен всего, даже мыслить самостоятельно не имел права и выполнял лишь приказания, а теперь приходится делать все самому… Нет, без рук ничего не получалось!
Какой смысл имеют работа, унижения, лишения, когда все равно крах неизбежен?!
Перед его мысленным взором всплыла целая вереница знакомых, вернувшихся в тюрьму, пока он отбывал пятилетний срок. Они возвращались снова и снова. Или же сидели по другим тюрьмам, или занимались как раз тем, что их однажды опять приведет в тюрьму. Бацке тысячу раз прав: нужно провернуть какое-нибудь дело, но в подходящий момент, и какое-нибудь крупное, чтобы действительно было за что сидеть.
Взять хотя бы Эмиля Бруна. Из газет Куфальт знал, что никогда – ни в Гамбурге, ни где-нибудь еще – не встретит своего Эмиля, не поддастся соблазну дать ему в морду. Эмиля нашли с проломанным черепом под обгоревшими обломками, и какой-то польский рабочий, сезонник, сознался в его убийстве и поджоге фабрики.
Итак, Эмиль Брун: одиннадцать лет покорности, всегда любезный, вкалывал как одержимый, запросы самые скромные: кино, девочка, место подмастерья. А кончил плохо, ничего у него не вышло. Судимый остается судимым. Самым гуманным приговором было бы казнить всех подряд.
Когда же он по-настоящему чувствовал себя в своей стихии, когда за эти месяцы был хозяином положения и точно знал, что делать и говорить? Где его родина?
Да, секретарь уголовной полиции Шпехт пожаловался на него судебному следователю, полицейский офицер вышвырнул его в ярости, а ассистент уголовной полиции Брёдхен пришел от него в бешенство.
Когда с ним обращались как с настоящим вором, он чувствовал себя уверенно, становился говорливым и нахальным, ему это нравилось, этому он уже научился.
Но если за время заключения он действительно стал вором, если опять туда попадет, тогда нужно взять себя в руки на три, четыре недели, пока не выгорит большое дело. Нужно держать себя в рамках приличия, готовить большое дело со всей осмотрительностью, пока есть деньги. А они у него еще есть. Это давалось тяжело – трусость, нерешительность мешали ему, по природе он не был преступником, он только стал им, научился им быть.
И Куфальт слонялся без цели, он побывал в Вальдеке, был в Фирланде, взбирался на Зюльберг, видел Эльбу, корабли, деревни, зимнюю природу, он был человеком, как все, внешне от других ничем не отличался, он не был ярко выраженным типом преступника, но – с кем поведешься, от того и наберешься. И вот у него зародился план.
Тогда он и стал актером Эрнстом Ледерером, снял комнату у бедной овечки, госпожи пасторши Флеге, стал регулярно выходить по ночам на Юнгфернштиг и отправил проститутку Ильзу на поиски Бацке.
6
– Отошли шлюху, Вилли, – сказал Бацке.
– Эту милую девушку зовут Ильзой, – ответил Куфальт.
– Она все испортит, – сказал Бацке.
– У меня нечего портить, – ответил Куфальт.
Короткая пауза. Бацке внимательно оглядел комнату, потом налил себе еще рюмку коньяка.
– Неплохо устроился, – произнес Бацке.
– Сносно, – согласился Куфальт.
– Помнится, когда мы ехали с тобой в Фульсбюттель, ты был здорово на мели, без гроша, – вспомнил Бацке.
– Точно, – сказал Куфальт.
– Тогда ты мог бы себе позволить снять такую комнату?
– Снять можно всегда.
– Не понял?
– А вот платить!..
– А коньяк? Ром? Сигареты?
– Могут быть и добычей, Бацке.
– Ну а обещанные мне четыре сотни?
– Возможно, Бацке.
Возникла пауза, потом Бацке подался вперед и свирепо прорычал:
– Ты меня заставил сюда прийти, пацан, из-за четырех сотен. У тебя они есть или нет?
Их наклонившиеся друг к другу лица разделяло не более метра.
Глаза Бацке сверкали безумной яростью, лицо Куфальта было бледно и подергивалось, но он выдержал взгляд Бацке.
– Посмотри сюда, Бацке. – Он едва заметно указал глазами на пистолет в опущенной руке. Бацке посмотрел, потом поднялся, расправил свои широкие плечи столяра, из-за работы рубанком одно плечо было развито сильнее. Расхаживая по комнате, он сказал:
– С тобой что-то произошло, Куфальт. Ты здорово изменился.
– Возьмем эту комнату, – сказал Куфальт. – Хорошо устроился, говоришь. И вещи. И деньги тоже у меня еще есть. И четыре сотни для тебя, может быть, тоже – может быть, потому что все это я сам добыл, – Куфальт сделал рукой широкое движение, – может быть, поэтому я другой.
Бацке снова заходил по комнате.
– Ну говори: что тебе от меня нужно, ведь не посылал же ты девку разыскивать меня просто так.
Вошла девушка с водой для грога. Куфальт в раздумье посмотрел на нее, взглянул на Бацке, снова на девушку и произнес:
– Только два стакана. Ты можешь идти, Ильза. Вот пять марок.
Бацке покосился на деньги, но ничего, кроме приготовленных заранее пяти марок, не увидел. Он сказал недовольно:
– Мог бы, по крайней мере, угостить ее горячим грогом, а то ей снова на улицу. Не стоит пересаливать, Куфальт.
Куфальт посмотрел на него с ухмылкой:
– Ах нет! Ты уже не торопишься? Выпей рюмку коньяку, Ильза, и гуляй!
– Почему – Куфальт? – спросила девушка, колеблясь. – Я думала, Ледерер.
– Разве я сказал «Куфальт»? – с издевкой спросил Бацке. – Протри уши. Его зовут Простофиля. Такой он и есть.
Переводя быстрый, бегающий взгляд с одного на другого, девушка сердито пробурчала:
– Ладно, я пойду.
– Выпей еще рюмочку. Марийка, – сказал Бацке и подмигнул Куфальту. Но девушка не захотела больше пить. Обиженно и скороговоркой она заявила, что не позволит так обращаться с собой и не собирается в каталажку за пять марок и рюмку коньяка, и, кроме того, ее зовут не Марийка.
Бацке ухмыльнулся.
– Ладно, Ильза, увидимся завтра как обычно, – сказал Куфальт.
– Можешь не приходить, – ответила она, – оставайся со своим «другом» и своими двумя фамилиями.
При этом она не сдвинулась с места и вызывающе смотрела на обоих.
– Ну ладно, ступай, ступай, – нетерпеливо сказал Куфальт.
– Я пойду, когда мне захочется, – сказала она, свирепея. – Я не позволю, чтобы такие, как ты, мне указывали. А если я сейчас пойду в полицию… Я прекрасно слышала, что ты здесь говорил о плате за комнату, о добыче…
Но закончить ей не удалось.
Бацке быстро вскочил, обхватил ее обеими руками и злобно прорычал:
– Марийка, – и так сжал ее, что она вскрикнула от боли. – Проваливай. Ты ведь меня знаешь, а?! – Он отпустил ее.
Она постояла какой-то миг, не зная еще, стоит ли ей расплакаться, но затем молча ушла.
– Чтобы провернуть дело, – сказал Куфальт, – мне придется подыскивать новую квартиру. И все из-за того, что ты так неосторожен.
– Какое дело? – спросил Бацке. – Ты мне еще не говорил.
Как изменилась ситуация! Куфальт был уже наверху, Бацке же сделал столько ошибок. И все-таки Куфальт непонятно как оказался слабее. (Может быть, потому, что Бацке так обошелся с девушкой?)
– У меня есть идея, Бацке, – сказал он.
– Хороша же будет идея, – с издевкой ответил Бацке. – Ты ведь даже наврать красиво не умеешь.
– Тогда вот, – гневно сказал Куфальт и сдвинул в сторону пепельницу, открывая кучку пятидесятимарковых купюр. – Забирай деньги и уматывай. Я проверну это с кем-нибудь другим.
Бацке посмотрел на деньги, взял их, спокойно пересчитал, сунул в карман и очень довольный сказал:
– Итак, Вилли, выпей грог, пока не остыл. А потом рассказывай, что ты придумал. Мы старые тюремные волки…
7
Снова резкий ветер, снова снег, снова время ближе к полуночи.







