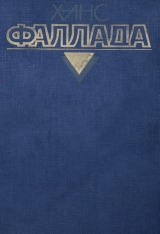
Текст книги "Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Перед выходом на волю
1
Заключенный Вилли Куфальт слоняется по камере из угла в угол. Пять шагов туда, пять – обратно. Снова пять туда.
На минуту он останавливается под окном. Оно немного скошено, насколько позволяют железные жалюзи; снизу доносится шарканье множества ног и окрик надзирателя:
– Держать дистанцию! Пять шагов!
У секции В-4 прогулка, полчаса будут кружить по двору, дышать воздухом.
– Не разговаривать! Ясно?! – опять орет надзиратель, и шарканье продолжается.
Куфальт подходит к двери, замирает и прислушивается: в тюрьме тихо.
«Если от Вернера сегодня не будет письма, – думает он, – придется пойти к попу и поклянчить, чтобы взяли в приют. А то куда мне деться? Больше трех сотенных я тут вряд ли заработал. На них долго не протянешь».
Он опять прислушивается. «Через двадцать минут прогулка у них кончится. Тогда наш черед. Надо успеть раздобыть табачку. Не могу же я последние два дня сидеть без курева».
Он открывает шкафчик. Заглядывает. Конечно, табаку и в помине нет. «Да, не забыть выдраить миску, а то Руш наорет. Где взять пасту? Стрельну у Эрнста».
Он кладет на стол куртку, шарф и шапку. Даже если на дворе солнечный майский день, всем положено надевать шапку и шарф.
«Через два дня забуду про эту муру. И буду надевать, что захочу».
Он пытается представить себе, как сложится его жизнь на воле, но ничего не получается. «Иду себе по улице, а тут кабачок, запросто открываю дверь, захожу и бросаю: „Кельнер, пива!“»
Где-то там, в центральной дежурке главный надзиратель Руш постучал ключом по железной решетке. Стук разносится по всей тюрьме, его слышат во всех шестистах сорока камерах.
«Сволочь, вечно громыхает, чуть что не так! – ворчит Куфальт. – Ну, чем тебе на этот раз не угодили, дорогуша? Только бы знать, чем я займусь, когда выйду на волю! Ведь спросят же, куда мне выписывать документы… И если не смогу назвать конкретного места работы, весь здешний заработок переведут благотворителям, а те будут выдавать раз в неделю какие-то гроши… Черта с два! Лучше уж проверну с Бацке солидное дельце».
Погруженный в эти мысли, он переводит взгляд на свою синюю куртку с тремя белыми нашивками на рукаве. Нашивки означают, что он, Куфальт, относится к третьей категории заключенных, то есть его поведение «позволяет сделать вывод о глубоком нравственном выздоровлении и примерном поведении по выходе на свободу».
«Как изгилялся, чтобы заполучить эти нашивки! А что толку? Чуток табаку, да лишних полчаса на прогулку, ну еще радио послушать раз в неделю вечером, и камеру днем не запирают…»
Это и впрямь так: дверь камеры Куфальта не заперта, вообще двери камер третьей категории не запирают, а лишь прикрывают. Странная она, эта привилегия: распахнуть дверь, выйти в коридор и сделать хотя бы два шага и думать не моги! Запрещено. Стоит хоть раз нарушить, третью категорию отберут. Вот она и не заперта, эта дверь, и уже одно то, что он об этом знает, считается подготовкой к жизни на воле, где двери комнат тоже не запираются… Постепенная акклиматизация, выдумка какого-то тюремного чина.
Куфальт опять стоит под окном и раздумывает, не взобраться ли ему наверх и выглянуть. Может, увидит за тюремной стеной женщину?
«Не, лучше не буду, потерплю уж до среды».
Чтобы чем-то заняться, хватает сеть и вяжет шесть, восемь, десять ячеек. И тут ему приходит в голову, что и табак, и пасту для чистки посуды можно выклянчить у кальфактора, который раздает работу. Он бросает деревянный крючок и идет к двери. На секунду он останавливается, раздумывая, стоит ли рисковать. Потом его осеняет, он быстро расстегивает штаны, садится на парашу и справляет большую нужду. Потом наливает немного воды, закрывает крышку, застегивает штаны и берет парашу в руки.
«Если засекут, скажу, мол, уборщики утром позабыли опорожнить парашу», – соображает он на ходу и локтем распахивает дверь.
2
Через плечо он бросает, однако, косой взгляд на застекленную дежурку, где обычно, как паук на паутине, сидит главный надзиратель Руш и обозревает коридоры и двери всех камер тюрьмы.
Куфальту повезло: главного нет на месте. Вместо него в стекляшке торчит старший надзиратель, которому служебная маета давно надоела: он читает газету.
Стараясь не топать, Куфальт направляется в уборную. Проходя мимо камеры кальфактора, ведающего вязанием сетей, он застывает, прислушиваясь: за дверью спорят двое. Один голос ему знаком – чистый елей, ни с кем не спутаешь: это мастер по сетям. А вот другой…
Постояв с минуту и послушав, он идет дальше.
В уборной полно народу. Кальфакторы В-2 и В-4 укрылись тут, чтобы покурить.
И еще кое-кто оказывается здесь.
– Господи, Эмиль, это ты, Брун, приятель, неужели я и впрямь тебя вижу?! Ведь и у тебя скоро выходит срок?!
Говоря это, Куфальт выливает содержимое параши в унитаз.
– Ну и свинство! Мы же здесь курим! – возмущается один из кальфакторов.
И Куфальт тут же взрывается:
– А ну, закрой поддувало, гнида! Сколько ты вообще отмотал? Полгода? Мелочь пузатая, а туда же еще! «Свинство» ему, видите ли! Вот и гулял бы себе на воле, раз ты у нас такой чистенький. Клозет со смывом тебе не новость! Заткнись лучше! А у меня третья категория, ясно? Эй, у кого табачку найдется?
– Бери, Вилли, – говорит Малютка Брун и протягивает ему целую пачку дешевого табака и резаную папиросную бумагу. – Бери все. У меня еще есть, до среды за глаза хватит.
– До среды? Значит, ты в среду выходишь? Так ведь и я тоже!
Малютка Брун спрашивает:
– Вилли, а ты как решил: здесь и осядешь, в этой дыре?
– Еще чего! Тут на каждом шагу тюремщики! Нет уж, я махну в Гамбург.
– А работа у тебя есть?
– Пока нету. Но что-нибудь наверняка подвернется. Может, родня поможет… Или там поп… Как-нибудь перебьюсь!
И Куфальт улыбается. Но улыбка у него какая-то вымученная.
– А у меня кое-что наклевывается. На деревообделочной фабрике. Сбивать контрольные гнезда для курятников, сдельно. Мастер сказал, буду огребать не меньше полсотни в неделю.
– Это уж точно! – соглашается Куфальт. – Ты же на этом деле собаку съел. Как-никак девять лет тренировался.
– Не девять, а десять с полтиной, – поправляет его Малютка Брун, помаргивая водянисто-голубыми глазками. Он похож на тюленя – голова круглая, физиономия добродушная. – Всего было бы одиннадцать. Но потом полгода скостили – перевели на условно-досрочное.
– Эмиль, дружище, я бы ни за что не согласился! Полгода скостили! А условно сколько?
– Три года.
– Вот и видно, что дурак. Проштрафишься самую малость – ну там стекло разобьешь по пьяной лавочке или поскандалишь на улице – и, пожалуйста, загремишь опять на полгода. Лучше уж все сразу отсидеть, и баста.
– Знаешь, Вилли, когда отмотаешь десять с половиной…
– Меня и директор, и воспитатель, и поп все время уговаривали – подай и подай прошение о досрочном освобождении с условным сроком. Но я не такой дурак. Зато когда выйду отсюда в среду, то полечу, куда захочу…
Один из кальфакторов вмешивается:
– Небось прошение-то твое отклонили?
– Отклонили? Да я его и не писал, ты что, оглох, что ли?
– Слышать-то слышу, а только кальфактор кастеляна по-другому рассказывал.
– Этот-то? Да что он смыслит?! Знаю я эту гниду, вокруг кастеляна крутится! Только нос дерет, а сам шпана шпаной! Запросто пнет под зад малыша и отберет монету, с которой того мать в лавку послала. И такое дерьмо ты слушаешь! А паста для посуды у тебя есть?
– Этот Калибе еще говорил…
– Чушь собачья! Лучше скажи, есть у тебя паста или нет? Покажи-ка. Годится, беру. Обратно не получишь. Мне нужно еще кое-что подраить. А ты, парень, поменьше трепи языком. Кстати, у меня в вещах есть большой кусок туалетного мыла, дам его тебе за пасту. Приходи в среду к расчетной кассе. Хочешь, письмо вынесу? Ладно, заметано. В среду у расчетной…
Кальфактор из В-3 подает голос:
– Во расхвастался. Совсем башку потерял – как же, послезавтра воля!
Но Куфальт вдруг взвивается:
– Это я-то из-за воли башку потерял?! Ты сам спятил! А мне начхать, просижу еще пару недель или в срок выйду. Двести шестьдесят недель оттрубил, значит, тысячу восемьсот двадцать пять дней, как отдать. И буду теперь выпендриваться за-ради воли?
Потом, уже спокойнее, обращается к Малютке Бруну:
– Слушай, Эмиль… Ого, тебе пора сматываться? Прогулка сейчас кончится. Постарайся сегодня как-нибудь подгадать под третью категорию…
– Может, и получится. У нас дежурит Петров. Он сговорчивый.
– Лады. Надо кой о чем потолковать. А теперь дуй.
– Пока, Вилли.
– Пока, Эмиль. Тогда я сейчас тоже… – говорит Куфальт и берет в руки пустую парашу. – Да, вспомнил! Знает кто из вас, куда девался кальфактор, который сетями заправляет?
– На него кто-то настучал. Сидит теперь в карцере.
– Вот это да! А за что?
– За то, что в мешке с грязным бельем какой-то бабе в женскую тюрьму письма носил.
– Какой именно?
– Не знаю. Говорят, маленькая такая, чернявенькая.
– A-а, знаю, – роняет Куфальт. – Она из Альтоны, под Гамбургом. Маруха взломщика. Навела пяток ребят на дело, а куш себе замылила… Кто же теперь кальфактор?
– Еще не познакомился. Новенький какой-то, прихлебала у мастера. Толстый такой еврей. Говорят, за ложное банкротство сел.
– Да ну?! – восклицает Куфальт, и на ум ему приходит обрывок разговора, который он подслушал, когда проходил с парашей мимо камеры сеточника. – Вот оно что. Ну, на этого слизняка-сеточника я давно зуб имею, теперь самое время приложить его как следует. Эй, новенький, зыркни-ка в коридор, чисто там? О, господи! – кричит он тут же вне себя от злости. – Насовали сюда всяких молокососов! Дергает дверь, аж стены трясутся! Тебе говорят: погляди, сидит ли Руш в стекляшке? Нет? Тогда я потопал к сеточникам, так сказать, визит вежливости. Общий привет!
Куфальт берет парашу и отправляется в обратный путь.
3
По дороге он бросает взгляд на стекляшку: там ничего не изменилось, старший надзиратель Зур по-прежнему сидит, уткнувшись в газету «Городские и сельские новости».
У двери кальфактора-сеточника Куфальт делает шаг в сторону, вжимается всем телом в дверную нишу и прислушивается.
Вот он стоит: на нем синие холщовые штаны, полосатая тюремная рубаха, на ногах сабо, нос у него острый, желтоватый, сам бледный, тощий, но с большим животом. На вид ему лет двадцать восемь. Глаза темные и смотрят на мир беззлобно, только все время беспокойно бегают, блуждают, ни на чем подолгу не останавливаясь. Волосы у него тоже темные. Он стоит у двери и прислушивается, стараясь понять, что говорят в камере. Парашу все еще обеими руками прижимает к животу.
За дверью взволнованный голос говорит:
– Эти десять марок вы мне дадите! Разве не для этого жена постоянно присылает вам деньги?
И робкий, елейный голосок сетевого мастера отвечает
– Я делаю для вас все, что в моих силах. Я добился, чтобы инспектор по труду назначил вас кальфактором. А где благодарность?
– Еще чего, благодарности захотел! – злобно бросает первый. – Уж лучше пойти клеить пакетики. А с этими сетями все руки в кровь раздерешь.
– Это только на первых порах, – успокаивает елейный голос. – Мало-помалу привыкнете. Пакетики куда хуже. Оттуда все ко мне просятся.
– И ножницы мне достаньте, а то руки вон все в заусенцах…
– Тут уж придется вам самим записаться в среду на прием к кастеляну. Ножницы только у него. Он вас примет, и вы прямо там обрежете себе заусенцы.
– А когда он примет?
– Когда у него будет время. В субботу или в понедельник. А может, уже в пятницу.
– Да вы в своем уме?! – кричит первый. – В следующий понедельник! Руки-то у меня уже сегодня все в крови! И вся сеть в крови, не видите, что ли? – Он уже не кричит, а вопит.
Куфальт, стоя за дверью, ухмыляется. Он по себе знает, каково это, когда руки кровоточат от жесткого шпагата, и утром, когда берешься за работу, тоненькие колючие волоконца забираются в трещины кожи. Ему-тο никто не подсказал, что у кастеляна есть ножницы. И он научился обрезать заусенцы с помощью двух черепков.
«Психуй на здоровье, милок, – думает он про себя. – Срок тебе, надеюсь, приличный навесили, так что всему еще научишься. Однако параша моя здорово воняет. Придется почистить соляной кислотой. Вот сегодня, как пойду к врачу, выклянчу чуток у лазаретного кальфактора…»
– А ну, выкладывайте эти десять марок. И нечего мне зубы заговаривать. Свои собственные деньги и то никак не получишь.
– Смотрите, господин Розенталь, только подведете и себя, и меня под монастырь, – доносится просительный голос мастера. – На что вам тут, в тюрьме, деньги? Я ведь приношу вам все, что вы хотите. Даже ножнички согласен вам купить. Но деньги здесь, в тюрьме, – за это нам обоим не поздоровится!
– Не прикидывайтесь, – говорит заключенный Розенталь. – Вы же не тюремщик и присяги не давали. Вы здесь представитель фирмы рыболовных сетей, распределяете работу среди заключенных. Так что ничего вам не грозит.
– Но все же – на что вам нужны наличные? Скажите хотя бы это!
– Хочу купить табаку.
– Но это неправда, господин Розенталь. Табак вы всегда можете получить через меня. Так для чего же вам деньги?
Тот молчит.
– Если честно скажете, получите эти десять марок. Но я хочу знать, кому вы хотите их дать и за что. Люди тут разные, есть и могилы, с этими можно иметь дело.
– Что значит «могилы»?
– Это люди, которые не настучат, не заложат, не сдадут. Так это здесь называется, господин Розенталь. Короче, они на нас не донесут.
– Так я вам скажу, – второй понижает голос до шепота, и Куфальту приходится плотно прижать ухо к дверной щели, чтобы расслышать, – но смотрите, никому ни слова. Тут есть такой высокий, черноволосый, настоящий бандит, скажу я вам, грозится, что пришибет, если я его выдам. Он в котельной работает и на прогулке пристал ко мне как банный лист…
– Это Бацке, – перебивает мастер. – Нарвались на самого что ни на есть отпетого.
– Он пообещал, что, если я дам ему десять марок… Мастер, вы нас не выдадите? Как раз против окна моей камеры, за тюремной оградой, на той стороне улицы стоит дом. – Розенталь глотает слюну и делает глубокий вдох. Потом продолжает: – Из моего окна видно все, что внутри. И я два раза уже видел там одну женщину. А черноволосый пообещал, что, если я дам ему десять марок, завтра утром в пять часов она подойдет к окну совершенно голая, и я ее увижу. Ах, мастер, ну дайте же мне эти злосчастные десять марок! Я погибаю здесь, я уже наполовину свихнулся! Мастер, вы просто должны мне их дать!
– Ну и ловкачи! – говорит мастер, и в голосе его слышится восхищение и гордость. – Какие номера откалывают! Но если Бацке сказал, он сделает. И нас не заложит. Вот вам…
Куфальт просовывает ногу в щель между дверью и притолокой, толкает дверь плечом и, шагнув в камеру, говорит вполголоса:
– Отступного или заложу!
И застывает в выжидательной позе.
Те двое стоят как громом пораженные. Глаза у мастера рыбьи, выпуклые, лицо мясистое, усы моржовые. Он пялится на Куфальта, судорожно сжимая в руке бумажник. Под окном трясется от страха новый кальфактор Розенталь – бледный, одутловатый, черноволосый, слегка заплывший жирком.
Куфальт резким движением ставит парашу на пол.
– Только не пытайся запудрить мне мозги, мастер, а то заложу, и сам загремишь как миленький. Потому как прежнего кальфактора упек в карцер, чтобы этого гада пристроить на теплое местечко. Да не трясись ты так, ублюдок, чего бояться-то? Деньги на бочку, и баста! А завтра в пять я и сам не прочь поглядеть в окошко. Так что, давай, мастер, выкладывай! В долю? Какой уж тут дележ? Я ж не знаю, сколько ты хватанул. Беру недорого: всего сто марок.
– Ничего не попишешь, Розенталь, – сразу сдается мастер. – Придется отстегнуть ему эту сотню, если не хотите угодить в карцер минимум на два месяца. Я этого Куфальта знаю.
– А там такой холод, приятель, – ухмыляется Куфальт. – Полежишь денька эдак три на каменных нарах, все кишки насквозь промерзнут. Ну, так как?
– Соглашайтесь, господин Розенталь, – канючит мастер.
Два удара колокола разносятся по всему зданию. В их секции начинается суета, лязгают дверные замки…
– Теперь по-быстрому! А то через минуту стукну главному.
– Да соглашайтесь же, господин Розенталь!
– Еще и Бацке натравлю на тебя, хряк поганый. Бацке – мой кореш. Он тебе покажет, где раки зимуют.
– Ну, пожалуйста, соглашайтесь, господин Розенталь!
– Ладно, дайте ему… Только почему это я один должен нести убытки?
– Почин дороже денег, – говорит Куфальт и символически плюет на сотенную. – Послезавтра я на воле, кабанчик. И как пойду к девочкам, обязательно помяну тебя добром. Эй, мастер, отнесешь парашу ко мне в камеру, пока я на прогулке. И кислоту достанешь для чистки. Не то я тебе такое устрою! Привет!
И Куфальт тенью проскальзывает в свою камеру.
4
С шумом, стуком и гомоном восемьдесят арестантов скатываются по четырем пролетам железной лестницы вниз. У дверей во дворик стоят два надзирателя и повторяют как автоматы:
– Держать дистанцию! Не разговаривать! Держать дистанцию! За разговоры подам рапорт!
Но арестанты все равно разговаривают друг с другом. Вблизи от надзирателя умолкают, но едва отойдут, вновь начинают оживленно беседовать тем громким шепотом, который слышен как раз при интервале в пять шагов: надо только наловчиться не шевелить губами, а то нарвешься.
Куфальт возбужден сверх всякой меры. Он общается сразу с двумя: с идущим впереди него и позади. Оба хотят услышать от него, третьекатегорника, какие-нибудь новости.
– Брехня, что второй категории теперь тоже разрешат слушать радио. Не верь, лажа чистой воды! – Ага, послезавтра на волю. – Пока не знаю. Может, проверну какое дельце, а то, может, и к зятю в контору подамся. – Ну как же они разместят сто двадцать пять человек из второй категории в классной комнате?! Туда и полсотни-то едва втискивается! Да ты просто болван, приятель. Всякой брехне веришь! – Кто такой мой зять? Тебе наверняка интересно. У него своя фабрика. Производит войлочные шлепанцы из каменного угля. Могу и тебя устроить, коли будет охота.
– Куфальт, замолчите наконец! – говорит надзиратель. – Вечно эти третьекатегорники нарываются!
– А я и не разговаривал, господин надзиратель, я просто глубоко дышал.
– Заткнитесь в конце концов, а то подам рапорт.
– Шмотки мои у кастеляна. Все шик-блеск, фрак на шелку, лаковые штиблеты… Вот чудно будет после пяти-то лет! – Да плюнь ты на эту образину-надзирателя! Пусть только пикнет, я его заложу. Заставил меня связать для него налево гамак и сумку. – Боюсь вот только… Ты давно тут кукуешь? Три месяца? Тогда скажи: бабы все еще носят короткие юбки? Мне рассказывали, будто в моде опять длинные… – Не смогу доказать? Еще как смогу! Стоит только сказать директору: гляньте-ка на сумку: в четвертом ряду одна петля двойная. Вот он и влип! – Слава тебе господи! Раз так, значит, когда сидят, все ляжки видны? А на велосипеде – даже то местечко над чулком?
– Куфальт, а ну-ка выйдите из круга! Вы сегодня как с цепи сорвались. Хотите на последние деньки загреметь в карцер? Вот здесь будете прогуливаться, вдоль стены. Особый терренкур для господ из третьей категории.
Теперь Куфальт гуляет один. Из круга долетают до него ехидные выкрики:
– Ясное дело – высшая лига! – Прихлебатели! Радиослушатели! – Что нос-то дерешь? Подумаешь, три нашивки! – Подхалим!
– А пошли вы все…
А сам думает: «Сто марок. Здорово! В сумме получается четыре сотни как минимум, а если от Вернера Паузе сегодня придет письмо, и там деньги…»
– Скажите, господин надзиратель Штайниц, сколько стоит третий класс до Гамбурга?
– Решили еще и со мной побеседовать? Угомонитесь наконец, а то прикажу отвести вас в камеру.
– Что вы, господин надзиратель, зачем так сурово? А ведь я хотел связать вам на память сумку!
– Так ты еще и наглеть?! Ну, погоди, приятель, вот огрею ключами по кумполу! А ну…
– Нет, честно, сегодня у меня как раз есть время, господин надзиратель. А тот фунт маргарина, что вы за гамак посулили, мне тоже все еще светит.
– Ах ты, сволочь полосатая! Вымогать вздумал? Напоследок заложить меня хочешь? Гнида вонючая! Ладно, вставай в круг. Еще нервы на такого тратить! Пять шагов дистанция! И чтобы язык за зубами, Куфальт!
– Молчу как могила, господин надзиратель. Ни звука!
На дворе май, небо голубое, по ту сторону тюремной ограды, возвышаясь над ней, цветут каштаны. Круг, по которому ходят арестанты, обсажен брюквой. Она только что взошла – хилые жухлые ростки на унылом сером фоне: шлак, пыль, цемент.
Они ходят по кругу и шепчутся. Ходят и шепчутся. Ходят и шепчутся.
5
Вернувшись в камеру, Куфальт сразу падает духом. С ним так всегда. На людях он оживлен, вечно что-то рассказывает, хвастается, старается произвести впечатление закоренелого уголовника и бывалого арестанта, но наедине с самим собой чувствует себя очень одиноким и ничтожным и быстро впадает в уныние.
«Не надо было хамить надзирателю Штайницу, – думает он. – Подло с моей стороны. И все ради того только, чтобы эти птенцы желторотые, эти салаги, убедились, что он у меня на крючке. Не стоит овчинка выделки, все я делаю шиворот-навыворот – как-то пойдут мои дела на воле?»
«Если бы хоть зять успел прислать письмо! А так… Вся эта жизнь на воле, эти города и комнаты, которые придется снимать, да еще поиски работы, не говоря уже о деньгах, – не успеешь оглянуться, как они кончатся. Что тогда?»
Он сидит, уставясь в одну точку. До освобождения, о котором мечтал все пять лет, осталось меньше сорока восьми часов. А теперь вот боится. Здесь ему жилось неплохо, он быстро освоился с местными правилами и обычаями, быстро сообразил, когда надо изображать смирение, а когда можно и похамить. Камера его всегда была выдраена, крышка параши блестела, как зеркало, а цементный пол он дважды в неделю чистил графитом и скипидаром, так что тот сиял и сверкал, как зад у павиана.
Норму по сетям он всегда выполнял, иногда даже перевыполнял вдвое, а то и втрое, мог покупать в лавке продукты и табак сверх положенных. Получил вторую категорию, потом третью, считался образцовым арестантом, начальство ему доверяло и водило в его камеру разные комиссии, а он всегда отвечал на задаваемые ими вопросы скромно и почтительно.
– Да, господин тайный советник, мне здесь очень хорошо живется.
– Нет, господин старший прокурор, здешний режим мне на пользу.
– Нет, господин президент, я ни на что не жалуюсь.
Но иногда… Он улыбается, вспомнив, как огорошил молоденьких студенток, готовившихся работать в комитетах общественного призрения и жадно расспрашивавших его о совершенном им преступлении: не сказал о растрате и подчистке денежных документов, а, скромно опустив глаза, признался: «Кровосмешение. Переспал с родной сестрой. Весьма сожалею».
На память приходит одобрительная ухмылка, какой отметил эту его выходку инспектор полиции, а также горячие взгляды одной студентки, все время старавшейся держаться к нему поближе. Симпатичная такая девочка. Благодаря ей сколько приятных картин рисовалось ему перед сном!
Дорогого стоило и то блаженное времечко, когда ему пришлось помогать католическому священнику готовить алтарь к службе. Тот, правда, энергично возражал против «протестанта», но среди заключенных «не было католиков, внушающих доверие», так гласил язвительный ответ тюремных чиновников-протестантов католическому священнику.
Куфальт стоял позади органа и раздувал мехи, и кантор всякий раз угощал его сигарой, а однажды на мессу к ним припожаловал католический церковный хор, и девицы из хора подарили ему шоколад и душистое туалетное мыло. Правда, главный надзиратель Руш потом все у него отобрал. «Бордель! Чистый бордель! – воскликнул он, потянув носом в камере Куфальта. – Пахнет, как в борделе!» И искал, пока не нашел, так что старое доброе хозяйственное мыло вновь вступило в свои права.
Нет, хорошее это было время, в общем и целом, и освобождение, в сущности, свалилось на его голову несколько преждевременно. Ничего как следует не подготовлено, он с радостью остался бы еще недель этак на шесть или восемь, продумал бы все, что надо, в деталях. А может, он уже тоже слегка того, умом тронулся? Ведь сто раз видел, как самые что ни на есть разумные и спокойные из арестантов перед самым выходом на волю вдруг слетали с тормозов и начинали нести околесицу. Неужто и его уже заносит?
Вполне может быть, ведь раньше он бы ни за что не решился ворваться в камеру к этому толстяку еврею и взять их с мастером за жабры. Да и Штайницу тоже не рискнул бы хамить!
Только бы зять прислал письмо! А раздавал ли главный сегодня почту? Подонок, на него вообще нельзя положиться, не захочет – три дня не будет раздавать!
Куфальт делает несколько шагов по камере и вдруг застывает как вкопанный. Таз для умывания всегда стоял у него на шкафчике так, что его край совпадал с ребром шкафчика с точностью до миллиметра, так? А теперь он отступает минимум на сантиметр!
Он открывает шкафчик.
«Гляди-ка, этот старый востроглаз-сеточник шмонал мою камеру! Никак не может попрощаться с сотенной! Ну погоди, малый, я тебе коготки-то оттяпаю!»
Куфальт бросает быстрый настороженный взгляд на глазок в двери и щупает рукой шарф. Уловив внутри слабый хруст, успокаивается. Но тут же вспоминает, что максимум через полчаса предстоит врачебный осмотр, придется раздеваться и, значит, сотенную нельзя держать при себе. Сеточник тоже об этом знает и, значит, опять заявится…
Куфальт напряженно думает, наморщив лоб. Он, конечно же, знает, что в камере нет и не может быть укромного местечка, о котором бы не знали тюремщики. У них в конторе есть такой список, – надзиратель как-то ему рассказывал, – там перечисляются двести одиннадцать мест, где можно что-то спрятать в этой говенной камере.
Но ему-тο сейчас надо бы придумать, куда спрятать ассигнацию часа на полтора. Дольше врачебный осмотр не займет, и значит, дольше тот не сможет искать.
Сунуть за переплет молитвенника? Нет, не пойдет. Может, зашить в тюфяк? Это бы еще ничего, но времени в обрез, за полчаса не успею и распороть, и зашить. Кроме того, еще пришлось бы разжиться у шорника подходящими нитками.
Выходит, зря он ходил опорожнять парашу, полтора часа ассигнация уж как-нибудь полежала бы на дне под дерьмом, ничего бы ей не сделалось, зато потом можно было бы оттуда ее извлечь. А теперь параша пуста.
Может, приклеить снизу к столешнице?
Точно – приклеить хлебным мякишем к столешнице!
Он уже крутит в ладонях хлебные шарики, но потом отказывается от этой мысли: слишком известно, одного взгляда достаточно. Лучше не надо.
Куфальт начинает нервничать. Уже звонят – конец последней прогулки, через четверть часа начнется прием у врача. Может, все же взять сотенную с собой? Свернуть плотно и засунуть себе в зад. А вдруг сеточник дал знать главному в лазарете, и тогда его так обшмонают! С них станется – возьмут и обследуют на рак прямой кишки!
Он в полной растерянности. Вот точно так будет, когда он отсюда выйдет. Там тоже тысячи возможностей и в каждой своя закавыка.
Нужно уметь принимать решения, а он именно этого и не умеет. Да и откуда бы? Ведь в течение пяти лет за него все решали другие. Они говорили: «Ешь!» – и он ел. Они говорили: «Проходи в дверь!» и он проходил. А когда говорили: «Сегодня напишешь домой», – он садился и писал письмо.
Форточка тоже неплохая вещь. Но каждому дураку известна. В одной из досок на койке есть трещина, но если кто случайно кинет взгляд, бумажка сразу бросится в глаза. Он мог бы поставить табуретку на стол и положить эту штуковину сверху на плафон лампы, но так все делают, а кроме того, вдруг кому-то взбредет заглянуть в глазок как раз в тот момент, когда он залезет на стол.
Куфальт рывком оборачивается и глядит на глазок. Точно, нутром учуял, – это он и есть, это его рыбий глаз зырит в камеру!
С наигранным бешенством он подскакивает к двери, молотит по ней кулаками и вопит:
– Проваливай от глазка, кальфактор, чего пялишься, падла проклятая!
Гремят ключи, дверь распахивается, и в проеме возникает главный надзиратель Руш.
Теперь полагается разыгрывать сцену, ибо Руш любит только собственные шутки. Главный надзиратель ценит в арестанте в первую очередь смирение, поэтому Куфальт изображает полную растерянность и, заикаясь от робости, лепечет:
– О, простите, господин главный надзиратель! Господин главный надзиратель, простите, я думал, это гад кальфактор, он вечно подглядывает, куда я табак прячу.
– Ну и что? Ну и что? Чего шум-то поднимать. А то краска с двери облетит!
Куфальт, льстиво улыбаясь:
– Господину главному надзирателю известно, у меня всегда все в наилучшем виде, и в краске ни одной трещинки.
Главный надзиратель Руш – этакий маленький, заросший щетиной бонапартик, истинный властитель тюрьмы, молчун и любитель ошарашить арестантов неожиданным ходом, непримиримый враг любых новшеств, противник деления арестантов на категории, а так же директора, других тюремщиков и каждого заключенного в отдельности, – главный надзиратель Руш не отвечает, а молча направляется к шкафчику, на котором висит табличка с личными данными и перечнем положенных льгот.
– Что с птицами? – спрашивает он.
– С птицами? – переспрашивает Куфальт, еще не зная, обернется все шуткой или нет.
– Да, да! С птицами! – злобно рычит деспот и тычет пальцем в перечень льгот. – Тут написано: две канарейки. Где они? Продал, так?
– Что вы, господин главный надзиратель, – обиженно тянет резину Куфальт, а сам с ужасом думает об ассигнации, засунутой в шарф. – Желтые пичужки загнулись зимой, когда отказало отопление. Я же вам докладывал!
– Враки. Враки. Чистая брехня. Враки. У сапожника две лишних. Наверняка твои. Продал!
– Что вы, господин главный надзиратель, я же вам заявлял, что они подохли! Ходил к вам в стекляшку и докладывал!
Главный стоит под окном, повернувшись к Куфальту спиной. Тому видны лишь пухлые белые руки, играющие ключами.
«Только бы ушел! – мысленно молит Куфальт. – С минуты на минуту объявят медосмотр, а у меня ассигнация в шарфе! Я же завалюсь! Опять попаду под следствие!»
– Третья категория! – ворчит главный. – Вечно третья категория… Все беспорядки от нее. Ваши деньги, те, что здесь заработаны…
– Да? – спрашивает Куфальт, поскольку никакого продолжения не следует.
– В благотворительном обществе. Можешь еженедельно получать по пять марок.
– Господин главный надзиратель, – канючит Куфальт, – пожалуйста, не делайте этого, ведь я так старался, так драил камеру!
– Ну и что? Сделаю. Еще как сделаю. Мне все едино. Драил? А с птицами – полный порядок! Ха-ха-ха!
– Ха-ха-ха! – послушно вторит ему Куфальт.
– А что случилось, – спрашивает главный (вдруг оказывается, что он умеет говорить связно), – что случилось с сетевым мастером и новым кальфактором?







