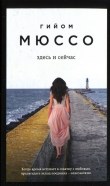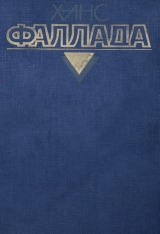
Текст книги "Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
Известно, что год 1923 стал вехой в становлении германского фашизма. Именно на волне деморализации широких масс смог возвыситься и приобрести популярность в Баварии Адольф Гитлер. Правда, его «пивной путч», сатирически изображенный Л. Фейхтвангером в романе «Успех», кончился провалом, но он обнаружил известную притягательность фашизма для обывателей, выбитых из колеи хозяйственной разрухой. Понятно, что Фаллада не говорит прямо о фашизме, о национал-социалистах – он вовсе не хотел подставлять свою голову под топор. Но он дает понять, что не только в Баварии, но и в других областях бывшей германской империи плелись политические интриги, готовились или даже происходили вооруженные выступления правых сил. Один из запоминающихся, безусловно удавшихся автору действующих лиц романа – лейтенант Фриц, типичный головорез фашистского образца. Жизненный принцип Фрица выражен в словах «цель оправдывает средства». Но по сути дела у него нет цели, нет идеи, которая одушевляла бы его поступки. Стимулы его подпольной деятельности – авантюризм, неуемное властолюбие, потребность самоутверждения, ради которой он готов шагать по трупам. Его двойник и подручный – лакей Редер, человек с «мертвыми глазами», – подобострастный и наглый, способный ка любое преступление, – своего рода немецкий Смердяков. Оба эти персонажа очерчены Фалладой отчетливо и беспощадно, – именно людьми такого склада фашистская диктатура пополняла свои кадры.
Но в этом романе, где столько ущербных типов, отталкивающе грубых ситуаций, проявилась свойственная романисту «тоска по идиллии». В финале доминируют примиряющие мотивы. После денежной реформы жизнь обывателей входит в свою колею. Беспутный Вольфганг Пагель, обогатившись жизненным опытом, берется за ум, женится на матери своего ребенка, брошенной им, – все хорошо, что хорошо кончается. Рисуя благополучный финал романа, Фаллада-реалист изменил себе. Он чрезмерно идеализировал образ главного героя, Вольфа Пагеля, лишил его жизненности. Такая непоследовательность в трактовке главного персонажа отрицательно сказалась на художественной цельности «Волка среди волков». Некоторые сцены чрезмерно растянуты, иные – слащаво-чувствительны. И все же автор заставляет читателя задуматься над тем, какой болезненный след в жизни людей оставили описанные здесь события. Одна из глав романа недаром названа «Гроза прошла, но духота осталась».
Фаллада не был политическим мыслителем. Он не предполагал, что господство фашизма окажется гораздо более долговечным, чем ему поначалу казалось. И как истинный художник он не мог не задумываться: почему гитлеровцы сумели прийти к власти, почему они так долго держатся у власти? Его мысль упорно возвращалась к минувшим десятилетиям, к тем потрясениям, которые довелось перенести его народу.
Случай подсказал ему выигрышную тему. Откликаясь на просьбу популярного киноактера Эмиля Яннингса, он стал писать роман о «последнем берлинском извозчике», который на старости лет совершил конный пробег по маршруту: Берлин – Париж и обратно. (Такой пробег действительно был устроен в 1928 году, и Яннингс полагал, что тут можно найти подходящий материал для кинобоевика.) Но когда Фаллада стал обдумывать этот сюжет, когда он представил себе характер упрямого и энергичного старика, – перед его взором вырос не только его будущий герой, Густав Хакендаль, но и его семья, – в конечном итоге получилось масштабное повествование, где поездка в Париж стала лишь одним из заключительных эпизодов, а история семьи Хакендалей отразила в себе существенные моменты истории страны почти за четверть столетия.
Роман «Железный Густав» (1938) – одно из лучших произведений Фаллады, и больше того – одно из классических произведений немецкой литературы XX века. В лице Густава Хакендаля романист создал образ большой обобщающей силы. Тут неуместны школьные обозначения – «положительный» или «отрицательный» тип. Густав Хакендаль – образ многогранный, воплощающий в себе многие – и светлые, и темные – черты своего народа.
Об этом верно писал Б. Сучков. «Фаллада не прощает Густаву ни его деспотизма, ни педантичного следования заскорузлым нормам мещанской морали, не снимает он с Густава и вины за горестные судьбы его детей. Но он видит реальную сложность характера Густава, характера народного и национального в своей основе»[6]6
Сучков Б. Лики времени, т. 1. М., 1976, с. 199.
[Закрыть].
В начале повествования Густав Хакендаль – человек преуспевающий и самоуверенный. Он гордится, что в юности успел принять участие во франко-прусской войне; гордится и своим извозным предприятием, созданным в результате упорного труда; он беззаветно привержен «идеалам» прусского милитаризма. Начало первой мировой войны вызывает в Густаве прилив патриотических чувств. Он сдает своих породистых коней военному ведомству, подрывая тем самым основу своего благосостояния. В дальнейшем он жертвует на «военный заем» все свои сбережения, накопленные за много лет. Так становится неизбежностью превращение былого предпринимателя в рядового извозчика, а в конечном итоге – нищая старость.
Нам хорошо памятен сатирический образ буржуа-верноподданного, созданный Генрихом Манном в его знаменитом романе «Верноподданный». Густав – иной тип немецкого верноподданного, менее однолинейный. Для Генрих-манновского Дидериха Геслинга преданность кайзеру – выгодное дело, она способствует его возвышению и обогащению. Иное дело Густав Хвкендаль; он по натуре скорей прижимист, чем щедр, но готов отдать все ради кайзера и фатерланда. Правда, четыре года спустя, он с нескрываемым презрением судит о Вильгельме II, который не оправдал надежд своих подданных, трусливо бежал в Голландию…
Густав – человек по-своему сильный, по-своему цельный. Но его непреклонность иной раз оборачивается упрямой жестокостью, его скрупулезная честность – казарменным педантством. Так обозначены в романе истоки семейной драмы; отец, искренне желавший вырастить детей порядочными и счастливыми, по сути дела морально изуродовал каждого из них. Вялый, во всем покорный отцовской воле старший сын Отто бессмысленно гибнет на фронте; Зофи, унаследовавшая от отца неумолимый властный характер, делает карьеру медсестры, а потом администратора частной клиники; Эрих, рано покинувший родительский дом, пускается в политические и финансовые авантюры и в конечном счете становится преступником крупного калибра. С уголовным миром связана и судьба его сестры Эвы, которая по слабоволию дает себя втянуть в кражу и попадает в рабскую зависимость от профессионального вора и сутенера Баста. И лишь младший из Хакендалей, Гейнц, оказавшийся было в дурной компании, находит в себе достаточно порядочности, чтобы выйти на честный трудовой путь; но на него, как на миллионы других, обрушивается беда – затяжная безработица и связанные с нею бесправие и бесперспективность.
Как видим, в истории Хакендалей Фаллада коснулся по преимуществу тех тематических областей, которые были им разработаны в предыдущих романах. Безработица, инфляция, быт городской бедноты, среда люмпенов и уголовников – все это было ему знакомо по личным жизненным впечатлениям. В романе «Железный Густав» вместе с тем немало нового, не только в живых картинах быта, но и прежде всего – в самом диапазоне повествования. Впервые у Фаллады жизнь «маленьких людей» дана с большим охватом времени и вписывается в историю страны. Действие не раз выплескивается из домов и квартир на улицы, – будь то в картинах воинственного возбуждения берлинцев в августе 1914 года, или – в эпизодах ноябрьской революции 1918 года, в зарисовках шествий рабочих и солдат. Но все-таки на всем протяжении романа народ по преимуществу не действующая сила, не субъект истории, а пассивный, страдающий ее объект.
Характерно авторское отступление, в котором переданы разговоры и размышления рядовых берлинцев. Почему растет преступность? Понятно почему, – ведь законы написаны давно, а теперь жизнь пошла другая, на заработную плату не проживешь, приходится подворовывать или покупать у спекулянтов. Народу безразлично, кто «сидит наверху», Шейдеман, Вирт или Куно, или кто еще, – так или иначе есть «бонзы» и «шиберы», которые наживают миллионы, и масса маленьких людей, которым жить не на что…
В романе сказалось, не могло не сказаться, мировоззрение Фаллады, его принципиальная отчужденность от политики, от борьбы классов. Но существенно, что романист с большой реалистической зоркостью запечатлел повседневный быт страны, движущейся навстречу катастрофе.
Понятно, что в романе социальная панорама страдает неполнотой. Коммунисты, ставшие к концу двадцатых годов внушительной политической силой в стране, для него как бы не существуют. С другой стороны, романист старательно избегает упоминаний о нацизме и даже вообще не касается правых групп или организаций, – тут нет ни одного персонажа, подобного, скажем, лейтенанту Фрицу из «Волка среди волков». Казалось бы, повествование о честном немце Густаве и его семье не содержало ничего такого, что могло бы рассердить идеологов гитлеровской Германии. И тем не менее – публикация романа натолкнулась на препятствия. Ведомству Геббельса оказалась неугодна общая критико-реалистическая направленность романа. От Фаллады потребовали, чтобы он приписал бодрый «хэппи-энд» а официальном духе, привел старого Хакендаля и его сына Гейнца в ряды национал-социалистского движения.
Что было делать писателю? Вовсе отказаться от намерения напечатать свой роман – или подчиниться требованиям цензуры? После мучительных раздумий он выбрал второе. В Доме-музее Фаллады в Карвице хранится рукопись «Железного Густава», где бисерным, малоразборчивым почерком писателя обозначены купюры и добавления. (После смерти Фаллады литературовед Гюнтер Каспар, проделав поистине гигантскую текстологическую работу, восстановил текст романа, каким он был до вынужденной «доработки», и «Железный Густав» появился в ГДР, а потом и у нас, в своем первоначальном виде.)
Моральная капитуляция, на которую пошел Фаллада, не спасла его от разносной критики. Фашистская прессе травила его, экранизация романа не состоялась. Писатель-реалист оставался на подозрении у власть имущих. Его силы были надломлены, он утратил веру в себя, впал в тяжелую депрессию. Его поместили в психиатрическую больницу тюремного типа в Штрелице. То. что он пережил в последние годы гитлеровской диктатуры, отражено в двух автобиографических повестях, – сами их названия говорят за себя: «Пьяница», «Кошмар». Во второй из этих книг, впрочем, отражено и начало духовного возрождения, которое Фаллада испытал после войны.
Последние месяцы войны герой повести «Кошмар», писатель Долль, проводит в состоянии уныния и горькой бедности. Он на грани полного духовного краха – не только из-за своих житейских невзгод, но прежде всего потому, что он чувствует свою причастность к национальной вине: как и миллионы других немцев, он пассивно терпел господство преступников, опозоривших Германию в глазах всего мира. Он встречает приход советских войск с грызущим чувством стыда – но и с надеждой. Так было и с самим Фалладой.
Девятого мая, в День Победы, советский военный комендант города Фельдберга созвал на митинг население города и его окрестностей. Деревня Карвиц примыкает к Фельдбергу, – Фаллада был тоже приглашен, и его спросили: согласен ли он выступить перед своими согражданами. Писатель никогда в жизни не выступал на собраниях, не произносил политических речей. Но тут он согласился. Говорил он экспромтом, однако текст его речи сохранился в сокращенной записи, которую сделал один из присутствовавших:
«Дорогие жители Фельдберга! Этой минуты я ждал двенадцать лет. Всем нам тяжко пришлось, – и все потому, что мы, множество маленьких Пиннебергов, не сумели вовремя понять, что к чему. Теперь все у нас пойдет лучше! У нас еще не хватает хлеба, не хватает молока для наших детей. Но если удалось, благодаря разумным и осмотрительным действиям Красной Армии, уберечь наш город от бессмысленного разрушения, то нам удастся также, приложив все силы, справиться с нынешними трудностями. Поблагодарим Советский Союз и примемся за работу, чтобы утолить наш голод. Поклянемся: пусть мы будем есть один черствый хлеб – только бы не было больше войны! Маленький человек – иди дальше! Научись жить по-новому, теперь это возможно, и мы все тебе в этом поможем»[7]7
Lіегsсh W. Hans Fallada, S. 365.
[Закрыть].
Через неделю советское военное командование предложило Фалладе стать бургомистром Фельдберга, – он согласился и с большим рвением принялся за работу. Но административная деятельность оказалась для него не только непривычной, но и физически непосильной. В августе его болезнь обострилась, и после пребывания в больнице он переехал в Берлин.
Фалладе хотелось возобновить литературную работу, и он получил эту возможность. Ему помог Иоганнес Р. Бехер, который, вернувшись из эмиграции, организовал и возглавил Культурбунд – Союз демократического обновления немецкой культуры. Бехер стремился объединить лучшие силы творческой интеллигенции, – не только тех, кто теперь возвращался в страну, но и тех, кто из нее не уезжал. По просьбе Бехера Фалладу привлекли к сотрудничеству в газете «Теглихе Рундшау», органе Советской военной администрации, выходившем на немецком языке. Там появилось несколько очерков и рассказов Фаллады, там были напечатаны и отрывки его повести «Кошмар». Писателя радовало, что ему оказано доверие, что ему представляется возможность участвовать в строительстве демократической немецкой культуры.
В конце повести «Кошмар» литератор Долль размышляет над своими новыми задачами, – ему хочется писать по-иному, не так, как он писал раньше. Ему хочется, чтобы его читатели извлекли уроки «из собственных страданий, крови, слез…». Самому Фалладе хотелось, пока силы его еще не оставили, создать большой роман, где отразилось бы то, что было пережито его народом в черные дни фашизма.
И снова случай помог ему. Публицист и общественный деятель Гейнц Вильман, один из ближайших помощников Бехера, получил для просмотра материалы из архива гестапо, касавшиеся подпольщиков-антифашистов. Он нашел там документы следствия по одному необычному делу: некий рабочий вместе со своей женой по собственной инициативе составлял и распространял антифашистские листовки – пока не был пойман и казнен. Вильман хотел было написать об этом очерк, но Бехер сказал ему: «Тут есть материал не только для очерка… Пусть об этом напишет писатель. Поговори с Фалладой. Я думаю, он возьмется. Ему надо дать задачу».
И действительно – эта задача увлекла Фалладу, Он написал статью «О все же существовавшем сопротивлении немцев против гитлеровского террора». Статья, появившаяся в конце 1945 года, заканчивалась словами:
«Отто и Анна Квангель когда-то жили. Их протест отзвучал и не был услышан, они, казалось бы, напрасно пожертвовали свои жизни во имя бесполезной борьбы. Но быть может, все-таки не совсем бесполезной? Быть может, все-таки не совсем напрасной?
Я, автор романа, который мне еще предстоит написать, надеюсь, что их борьба, их страдания, их смерть не были совсем напрасны».
И тут произошло чудо, о котором свидетельствует Вильман в своих мемуарах. «Насколько было тогда возможно, мы избавили его от житейских забот. Он писал как одержимый, днем и ночью. За четыре недели он управился с рукописью романа „Каждый умирает в одиночку“ объемом в пятьсот сорок печатных страниц. Конечно, потом потребовалась еще некоторая шлифовка, но в октябре 1946 года рукопись пошла в набор»[8]8
Wіllmаnn H. Steine klopft man mit dem Kopf. Lebenserinnerungen. Berlin. 1977, S. 302, 304.
[Закрыть]. За предельно короткий срок Фаллада не просто изложил в виде связного повествования, богатого неожиданностями и перипетиями, историю подвига супругов Квангель и их гибели, но и создал силою творческого воображения ряд персонажей, о которых ничего не мог прочесть в документах гестапо. Примечательно при этом, что среди вымышленных действующих лиц романа присутствуют люди гуманные, оказывающие супругам Квангель поддержку а трудные минуты, – таковы советник Фром, музыкант Рейхард, пастор Лоренц; на стороне Квангелей и невеста их сына Трудель Бауман. В замысел писателя явно входило показать, что в немецком народе имелись пусть малочисленные, пусть недостаточно активные – потенциально антифашистские силы.
Фаллада, как мастер прозы, в последнем своем романе верен себе: он создал еще одно остросюжетное повествование, в котором большое место занимают криминальные мотивы. Но в прежних романах писателя, – по крайней мере, в отдельных эпизодах, – власти Веймарской республики боролись с преступностью. Здесь иное соотношение сил: преступная система борется с порядочными людьми, не приемлющими фашизма.
Исторические корни гитлеровской диктатуры, ее социальная природа, ее идеология – все это вне поля зрения Фаллады. Он силен в другом: он чутко передает общественную атмосферу страны; он хорошо знаком с полицейским аппаратом власти, с механизмом сыска и режимом тюрем. Охота гестаповцев за «невидимкой», распространявшим антифашистские открытки, допросы супругов Квангель, суд над ними – все это дает ему материал для драматичных эпизодов. В них обнажается антигуманная, по сути дела враждебная всякому праву и законности, природа фашистского правящего аппарата. Штатные чиновники гестапо опираются на преступный сброд, находят добровольных или платных осведомителей в среде люмпенов, тунеядцев, алкоголиков, воров. В этом смысле символична судьба многоопытного полицейского чиновника Эшериха: он пытается придать своим поступкам некий декорум правопорядка, но в конечном счете сам превращается в уголовного преступника. И перед лицом мужественного Квангеля, который даже на пороге смерти не склоняется перед своими мучителями, Эшерих вынужден признать свое поражение.
Впервые у Фаллады в центр повествования встала тема сопротивления, освободительной борьбы. Притом писатель вовсе не отрешился от своего былого недоверия к организованной политической деятельности: эпизод тайной сходки нелегальной антифашистской группы, образ руководителя этой группы, бессердечного Григолейта – все это написано недостоверно, малоубедительно. (О деятельности подпольных антифашистских организаций в гитлеровской Германии Фаллада прежде не знал и не мог ничего знать – материалы об этой деятельности стали появляться в печати ГДР лишь годы спустя.)
Борьба и судьба супругов Квангель привлекли Фалладу как сюжет для романа, возможно, именно потому, что тут он нашел героев, поднявших знамя борьбы в одиночку, из побуждений не политических, а стихийно-нравственных.
Превращение аполитичного, замкнутого, осторожного в словах и поступках мастера мебельной фабрики в активного, безоглядно отважного противника фашизма тщательно мотивировано художником. Квангель по сути своего характера прежде всего труженик и человек долга. Он знает себе цену, ему в высокой степени свойственна рабочая гордость, – в этом основа его твердого и независимого характера. Он полон презрения к фашистским бездельникам и крикунам, в нем нет ни тени приниженности, робости, – уже поэтому он был и остался невосприимчив к культу фюрера. Смерть единственного сына, погибшего на фронте, дала ему толчок к действию.
Ведя свою незаметную, упорную, оригинальную по своим формам антигитлеровскую пропаганду посредством открыток, которые он разбрасывает в разных уголках Берлина, Квангель руководствуется вовсе не одним лишь желанием успокоить свою совесть. Он думает не только о себе, обличает фашистов не только от своего имени. Еще в самом начале своей деятельности он говорит жене, что каждая написанная им открытка – пусть она и попадет в руки нацистов – «свое дело сделает, даже если только лишний раз им напомнит, что не все покорились, не все стоят за их фюрера».
Трагическая ошибка Квангелей в том, что они недооценили силу фашистского аппарата власти, зловещую власть страха над умами людей. Именно страхом, сковывающим громадное большинство подданных Гитлера. объясняется тот факт – болезненно поразивший Отто Квангеля, – что почти все его открытки оказались в гестапо.
В романе прослежена судьба лишь одной, первой открытки, написанной Квангелем. В числе эпизодических персонажей романа – популярный киноактер Хартейзен. Ему иронически дана фамилия, означающая «твердое железо». Нет, Хартейзен совсем не из железа. И в момент, когда он появляется в романе, – он глубоко встревожен: он попал в немилость к «самому» Геббельсу, когда имел неосторожность оспорить какие-то его вздорные высказывания по поводу искусства. Всесильный рейхсминистр мстит артисту, осмелившемуся иметь свое суждение. Хартейзен отстранен от работы в кино, – если так будет продолжаться, ему грозит творческая смерть (все это напоминает ситуацию, в которой оказался сам Фаллада после написания романа «Железный Густав»). А тут еще эта злополучная открытка! Желая показать свою лояльность фашистскому режиму, Хартейзен немедленно сдает крамольный документ в гестапо… И читатель может себе представить, что многочисленные рабочие, служащие, лавочники, безработные, в руки которых попадали воззвания Квангелей, оказались не храбрее, чем известный во всей стране артист.
Квангель испытывает своего рода шок, когда узнает, что гестапо завладело его открытками. «Я хотел действовать один, а ведь знаю же я, что в одиночку ничего не сделаешь. Нет, мне незачем стыдиться того, что я делал. Только делал я неправильно… Дайте мне волю, и я опять буду бороться, только по-другому, совсем по-другому…» Так говорит Квангель комиссару гестапо Эшериху. Как видим, он осознал ошибочность своего образа действий, но ни в коей мере не сломлен. Не сломлен и тогда, когда изверги приходят ночью к нему в камеру, издеваются над ним, бьют его, обливают водкой. В этой пьяной оргии гестаповцев принимает участие и комиссар Эшерих. «И все время он чувствовал на себе строгий, презрительный взгляд Квангеля, молча смотревшего, как топчут его достоинство». И не Квангель, а Эшерих чувствует себя побежденным.
В прежних романах Фаллада безраздельно отдавал симпатию людям кротким, покорным судьбе. Таковы у него прежде всего образы женщин: Овечки в «Маленьком человеке…» и родственных ей фигур в других романах – Петры в «Волке среди волков», Тутти в «Железном Густаве». Мягкосердечие, связанное с известной пассивностью, присуще и молодым людям – Пиннебергу, Пагелю, младшему из Хакендалей. Активность, сила воли чаще всего оказывалась у Фаллады привилегией людей деспотичных и, в сущности, недобрых. В последнем романе – иная концепция личности. Если человек хочет быть в полной мере человеком, он должен жить не только для себя, не только для своей семьи, следовательно должен обладать сильной волей и уметь сопротивляться обстоятельствам. Именно так изменяются на глазах у читателя Отто и Анна Квангель.
Поэтому понятно, отчего романист не торопится завершить свое повествование и после того, как супруги Квангель попали в лапы гестапо. Их участь предрешена, их ожидает казнь, – казалось бы, о чем же еще рассказывать? Но Фаллада знает, о чем еще стоит рассказать. Его герои продолжают борьбу и после ареста, обретают новых друзей, находят в себе резервы духовного величия.
Фаллада и тут, как обычно, избегает патетики. Благородство его героев проявляется не в каких-либо громких речах, а скорей в том, что они презирают официальную ложь и демонстрируют это презрение. Советский литературовед Н. Павлова верно говорит об эпизодах, где описывается расправа над Квангелями: «Открывается внутренняя свобода поступкам героев, рождается раскованность и раскрепощение. Согласившись погибнуть за свою правду, человек может позволить себе все. Озверевшему чиновнику, выведенному из себя бесстрашием Квангеля, приходится выслушать от своего коллеги, что приговоренного к казни, в сущности, наказать больше нечем. В самые трагические сцены романа неожиданно прорывается смех. В нем же – высвобождение и фамильярность, как и в непристойном ругательстве, которым равнодушно кроет своих палачей Отто Квангель»[9]9
Павлова Н. С. Типология немецкого романа. 1900–1945. М., 1982, с. 200–201.
[Закрыть]. И эта же стихия высвобождения – добавим – проявляется в возгласе: «Прощай, товарищ!», которым Отто Квангель отвечает на прощальные слова, несущиеся ему навстречу, когда его ведут мимо камер смертников на казнь.
«Но мы не хотим смертью заключить эту книгу, она посвящена жизни», – такими словами начинает Ханс Фаллада последнюю главу своего последнего романа. Здесь появляются персонажи, которым до тех пор была отведена роль скорей эпизодическая – почтальонша Эва Клуге и ее приемный сын Куно: теперь, после краха третьего рейха, они живут в деревне, работают на земле. В таком завершении повествования есть своя художественная логика – и не только потому, что Эва Клуге, принесшая Квангелям известие о смерти сына, открывала повествование. Фалладе было необходимо закончить роман картиной мирного труда, чтобы в этой картине воплотить начало новой жизни народа, избавленного от гнета фашизма, от позора и слез.
Ханс Фаллада скончался вскоре после завершения работы над романом – в феврале 1947 года. Стоит в заключение еще раз предоставить слово Иоганнесу Бехеру:
«Он владел широчайшей шкалой человеческих чувств. Ничто человеческое, ничто бесчеловечное не осталось ему чуждым. Он касался самых сокровенных чувств, в его клавиатуре не отсутствовало ничто бессознательное; простым, народным языком он умел сделать понятным и доступным необычное и сомнительное. Но любовь его принадлежала простой жизни и маленьким людям. Насколько простая жизнь порой бывает сложной и сколько величия таится в маленьких людях – это он рисовал мастерски. Он знал жизнь маленьких людей, как вряд ли кто другой, и точно отражал их настроение; но его сила в то же время была и его слабостью как человека и художника. Он часто слишком легко поддавался настроениям и колебаниям этих слоев, регистрировал их, колебался вместе с ними, вместо того, чтобы противостоять им и оказать сопротивление. Но поскольку он сердцем чуял правду, он скоро начинал противодействовать бесчеловечности, так же, как лучшие из его героев, – вместе с ними, на их, на свой лад: упорно, упрямо, чудаковато, сам по себе»[10]10
Бехер И.-Р. О литературе и искусстве, с. 479.
[Закрыть].
Т. Мотылева