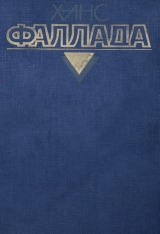
Текст книги "Кто хоть раз хлебнул тюремной баланды"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
– Но она ведь никогда так рано не уходит. Я же договорился с ней, – говорит Куфальт в отчаянии.
– Ах, значит, это были вы, – говорит хозяйка, – значит, это вы звонили так рано утром.
– Конечно, я, – говорит он. – Она должна была ждать меня здесь.
– Нет, – говорит фрау Машиолль, – мне она сказала, что должна идти в городской парк. У нее там очень важное дело. И обещала подарить мне сто марок, если все будет хорошо.
– Правильно, в городском парке, – задумчиво говорит Куфальт. – Как можно все разбалтывать?
И он бросается прочь.
Выплату десяти марок он откладывает до следующего раза, хотя крик хозяйки преследует его до самого низа.
Собственно говоря, он должен сейчас позвонить и вызвать в городской парк полицию. Но, во-первых, ему нельзя терять ни минуты, и потом у него появилась надежда захватить добычу самому, прославиться и выйти сухим из воды. Или разбогатеть. Угроза – «Добычу пополам или заложу» – действует в такой ситуации всегда безотказно.
Он щедр. Снова берет машину на большое расстояние и едет до городского парка. При этом он все время оглядывается через заднее стекло, не преследуют ли его, но ничего подозрительного не замечает. Может быть, в полиции недооценили его денежные средства и послали следить за ним человека, у которого нет денег на машину. Или они потеряли его след в Трущобах. Или просто верят ему.
Он лихорадочно соображает, в каком месте городского парка могла быть назначена встреча. Парк велик, и хотя Бацке смел, но никак не беспечен. Господин Воссидло может хоть десять раз давать в газетенке честное слово крупного гамбургского коммерсанта. Это совсем не значит, что Бацке поверит. Бацке крепко поостережется прийти туда, где полиция может застать его врасплох.
Нет, Бацке наверняка не зря так торопился. Даже если полиция предупреждена, у нее не хватит времени оцепить городской парк. Он выберет подходящую, большую, просторную территорию, откуда всегда сможет уйти, даже если двое или трое агентов будут сидеть в засаде.
Куфальт вышел у Штадтхалле и расплатился. Он направился сначала в Парковое кафе, в котором сейчас едва наберется несколько посетителей, потом обошел озеро, и вот перед ним просторная площадь Праздничного поля. Здесь пусто. Он идет все время за кустами, по обочине дороги и поглядывает на поле, покрытое свежим пушистым снегом.
Внезапно он останавливается, и его сердце начинает быстро и радостно колотиться.
Нет, он не опоздал. Там на поле стоит крупный мужчина в светлом плаще, и Куфальт осклабился – Бацке все же продувная бестия!
Он принес с собой фотоаппарат со штативом. И занят сейчас его установкой, а его невеста (неужели это Ильза? Конечно, Ильза!) стоит под заснеженным деревом, приняв для фотографирования прелестную позу.
«Отлично придумано, – думает Куфальт, – не подкопаешься! – И он чувствует нечто вроде умиления и гордости своим старательным собратом. – Этого легавые еще долго не поймают, даже если будут сидеть под каждым кустом. Этого так просто не возьмешь!»
С другой стороны через поле идет в направлении парочки крупный мужчина с портфелем. В роговых очках, острая бородка с проседью. Он непринужденно бредет по пушистому свежему снегу и останавливается в нескольких шагах от группы, чтобы не попасть в кадр, и, кажется, о чем-то спрашивает.
О чем он спрашивает, Куфальт не слышит, слишком далеко. Он хорошо спрятался за кустами. Но похоже, что тем абсолютно все равно, стоят ли за кустами люди. Они даже не оглядываются.
Ильза продолжает спокойно стоять под деревом. Но нет, Бацке не такой уж легкомысленный. Куфальт видит, что она засунула одну руку в карман, несколько принужденно согнув в локте. Он знает это движение. Бацке наверняка вооружил свою «невесту» на этот случай пушкой.
Тем временем между мужчинами завязался разговор. Они чинно стоят в трех шагах друг от друга, словно каждый из них испытывает уважение к партнеру. Бацке прекратил возиться с аппаратом, нагнулся и теперь разворачивает круглый пакет. По мнению Куфальта, не слишком удачная упаковка для драгоценностей в сто пятьдесят тысяч марок. Насколько он смог разглядеть, это просто старая консервная банка в газетной бумаге.
Бацке чертовски нетороплив. Куфальт думал, что обмен колец на деньги будет для него несколько затруднителен. Однако Бацке спокойно протягивает консервную банку господину с бородкой. Потом, правда, сует руку в карман пальто.
Но господин, улыбаясь, что-то говорит, и Бацке вынимает руку из кармана и спокойно наблюдает, как господин вытаскивает из консервной банки вещицу за вещицей, рассматривает и бросает в портфель.
Но уже через минуту оба бизнесмена настолько понимают друг друга, что вор Бацке держит крупному коммерсанту Воссидло портфель. Так удобнее и дело идет быстрее.
Потом господин бросает консервную банку в снег, сует руку в карман, вынимает пачку бумаг и отдает Бацке. Бацке зажимает портфель под мышкой и начинает считать. Этот крупный коммерсант Воссидло оказался приличным парнем. Он даже позаботился о том, чтобы принести банкноты не по тысяче марок, с обменом которых у воров всегда трудности, а помельче, так как Бацке считает довольно долго.
Потом портфель окончательно переходит к своему владельцу. Ильза оставляет свое место под деревом и подходит к ним. Посмотри-ка, господин Воссидло и впрямь приподнимает свою жесткую черную шляпу, и договорившиеся стороны окончательно расстаются. Господин Воссидло идет обратно к противоположному краю Праздничного поля, а Бацке под руку со своей невестой к кустам, где спрятался Куфальт.
Одинокий, покинутый, черным пятном в снежной пустыне, стоит на поле фотоаппарат, единственный признак того, что господин Бацке все-таки немного торопился.
Возможность догнать господина Воссидло обходным путем и смелым приемом выхватить портфель, еще раз освободить его от бриллиантовых колец, Куфальт отбрасывает сразу. Сбыт таких вещей труднее, чем он думал. А наличные деньги всегда греют. Особенно когда нельзя вернуться в свою квартиру.
Значит Бацке. Бацке, конечно, голыми руками не возьмешь, но нечто подобное он однажды уже пробовал с ним проделать и убежден, что и сейчас все пройдет гладко. Он не будет предъявлять чрезмерных требований. Он хочет получить из пятнадцати тысяч всего лишь три или четыре. Сумма, на которую Бацке легко согласится.
Направляясь, очевидно, к Штадтхалле, пара выходит на дорогу, по которой шел Куфальт. Куфальт идет быстро, чтобы догнать их. Оба совершенно спокойны, чувствуют себя совершенно уверенно и даже не заглядывают за небольшой изгиб дороги, скрывающий от них Куфальта.
Поэтому ему удается неожиданно вынырнуть перед ними и сказать: привет, Бацке, привет, Ильза. Хорошее сегодня утро.
Бацке не выказывает и следа удивления, тогда как Ильза слабо вскрикивает.
– Ба! – говорит Бацке довольно. – Ты тоже здесь, Вилли?? Сколько? Я очень тороплюсь.
– Понимаю, – соглашается Куфальт. – Я скажу. – И так как он видит, что Бацке в прекрасном настроении, то бросает как бы вскользь: – Пять тысяч.
– Восемьсот, как договаривались, – говорит Бацке.
– Восемьсот была договоренность с пяти тысяч, – говорит Куфальт, – а сейчас дела обстоят несколько иначе.
– Значит, две, – говорит Бацке, – чтобы меня не мучила совесть.
– Четыре, – говорит Куфальт.
– Три, – отрезает Бацке, заканчивая обсуждение.
– Не будь таким идиотом, – возражает, рассвирепев, Ильза.
– Заткнись, – говорит Бацке, достает из кармана толстую пачку денег, оглядывается и удовлетворенно замечает: – Горизонт чист, – и в этот момент наносит Куфальту кулаком удар снизу в подбородок, от которого Куфальт качнулся назад, вскинул руки…
Но уже новые удары градом обрушиваются на его голову, глаза застилает красным, потом черным, и он падает.
8
Куфальт долго не мог прийти в себя и понять, что случилось и где он лежит.
Прежде чем открыть глаза, он почувствовал холод и сырость.
К нему медленно возвращалось сознание. Он подтянул колени, руки шарили вокруг, как будто искали одеяло.
Потом на какое-то время все снова исчезло, но опять вернулся холод, и руки опять безуспешно искали одеяло.
На этот раз он приоткрыл глаза и тут же закрыл их: в сумрачном, сером воздухе носились снежинки. Наверное, он ошибся.
Но холод усилился, Куфальт медленно приподнялся, голова была тяжелая и соображала с трудом. Он бессмысленно озирался. Потом стал различать сквозь плотную мглу поздних туманных сумерек кусты, пень, наполовину занесенный снегом. Он снова закрыл глаза. Наверное, это все-таки сон.
Холод все больше давал о себе знать, и когда он опять открыл глаза и увидел те же голые кусты, тот же заснеженный пень, то попытался вспомнить, как он сюда попал.
Голова безумно болела, как будто раскалывалась. Он схватился за нее руками, нащупал шишки – и в памяти всплыли воспоминания о Бацке, о полученных ударах.
Шатаясь, он встал. Огляделся. Нет, он лежал не на дороге, где у него с Бацке произошло столкновение, он лежал где-то в кустах, куда его тот, наверное, оттащил.
В снегу он заметил что-то чернеющее и поднял. Это была шляпа. Со шляпой в руке он медленно пошел прочь.
Но далеко идти ему не пришлось. Всего лишь шесть или восемь шагов. И он оказался на той самой дороге, на которой Бацке застал его врасплох. Особого труда это ему не стоило. И все же Куфальт пролежал незамеченным не только минуты, но и часы. Стало почти темно.
Только бы его никто не заметил именно в первые минуты. Передвигался он с большим трудом, через каждые два шага начинались приступы головокружения, и он хватался за какое-нибудь дерево, чтобы не упасть. Только не упасть. Подняться ему будет тяжело. Мучительно ковыляя по дороге, которую раньше он легко преодолел бы за пять – десять минут, он непрерывно думал о своей уютной комнате у Флеге, о постели, о початой бутылке с коньяком, оставшейся в шкафу, как бы ему это было сейчас кстати! Он совсем не думал о Бацке, кольцах, деньгах. Он был всего лишь раненым зверем, которым владел один инстинкт – заползти и укрыться в своей норе.
Но постепенно приступы головокружения становились реже, шаг тверже, а воспоминания отчетливее. Сначала он чувствовал себя человеком, который хочет что-то сказать, и в тот момент, когда открывается рот, чтобы произнести это, забывает, что именно. Все-таки он должен еще что-то обдумать, ведь что-то еще не так! Что, собственно говоря, произошло в квартире?
Наконец вспомнил: он сидит на кровати, кто-то с ним разговаривает. Он встает, начинает одеваться. «Между прочим, вы не фетишист?» – спрашивает другой. Он видит его, этого легавого, сделавшего невозможным его возвращение домой. О, он видит его, будто он стоит сейчас здесь, в пустынном зимнем парке.
Головокружение опять усиливается. Он держится за дерево. Внезапно его начинает знобить. Он стучит зубами, его тошнит.
Обделался, трус, – думает он.
Потом приступ ослабевает, но Куфальт еще долго неподвижно стоит у дерева. Время идет к позднему вечеру. Ему кажется, что похолодало, что снег хлещет его злее и что завывание ветра становится все громче и громче.
Шорохи вокруг него превращаются в громкие звуки, шелестит листва, какой-то сучок трется со скрипом о другой, и к нему приходит смутное воспоминание о другой такой же ночи. Тогда у него была девушка, как же ее звали? И тогда тоже плохо кончилось. Прошло, уплыло.
Потом он снова идет. Идет просто потому, что не может же он вечно там стоять. Если можно было бы, он бы остался. И вот он медленно бредет дальше. Появляются огни Паркового кафе. Ладно. Он не может обратиться к людям за помощью. Он может выпить рюмку-другую шнапса. Это его взбодрит.
Мимоходом он думает о том, как он выглядит. Может ли войти в кафе, не обращая на себя внимания. Он отряхивает с пальто снег насколько возможно, поправляет шляпу и ждет, пока зажгутся фонари, чтобы разглядеть себя в карманном зеркальце.
Из осколка зеркала на него смотрит мертвенно-бледное лицо. Но может быть, виной этому освещение? И все не так уж плохо? На подбородке большой красный отек. Удар Бацке – не легкое похлопывание. Посредине вздутия кожа лопнула и сочится кровь. Куфальт ищет в нагрудном кармане носовой платок и вытирает кровь. Так, теперь можно идти в кафе.
Нет, идти нельзя. Уже когда он вынимал зеркальце из жилетного кармана и потом, когда доставал носовой платок из нагрудного, у него было четкое ощущение, что что-то не так. Он сунул руку в один нагрудный карман, потом в другой, на левой стороне, и точно, – кошелек с бумагами и семьюстами марками исчез!
Какое-то мгновение он хотел вернуться на место, где лежал, не выпал ли кошелек там. Но не пошел. Кошелек был большим, плотно сидел в кармане и не мог сам по себе выскользнуть. Это дело рук его приятеля Бацке.
Вместо того чтобы поделиться, избил его до полусмерти да еще освободил от последних денег. Все правильно. Все прекрасным образом вписывалось в события последних недель, в течение которых он неотвратимо скользил по наклонной, навстречу концу, перед которым можно было бы зажмуриться, но от этого вероятность его приближения отнюдь не становилась меньше.
Нет. Теперь, когда у него вроде были все основания, о гневе и отчаянье не могло быть и речи. Напротив. От этого последнего самого тяжелого удара его почти утраченная стойкость как будто окрепла вновь. На этом мучительном пути, когда голова упорно отказывалась соображать, он прежде всего должен был расстаться с надеждой на постороннюю помощь: он остался один. Затем оставить и мысль о своем доме у старой добросердечной женщины; у него не было больше дома. И наконец, о деньгах: небольшая сумма, собранная с трудом по грошам и награбленная по грошам с опасностью для себя, ушла.
Алкоголь тоже не мог ему больше помочь. Помощь могла исходить только от него самого. Раньше, в те немногие недели, когда дела шли относительно хорошо, он иногда подумывал о том, чтобы добровольно сдаться полиции или натворить что-нибудь эдакое и засыпаться, чтобы опять вернуться в родной дом – тюрьму, но теперь он даже не помышлял о чем-либо подобном.
Теперь он стоял под деревом, полузамерзший, избитый до полусмерти, и раздумывал о способах, как еще раз раздобыть денег и еще раз добыть себе свободу, с которой он не знал, что делать.
9
Овощной магазин фрау Леман расположен не на самой Фулентвите, а за углом, на Нейштедтерштрассе. Куфальта там знают как господина Ледерера. Он справлялся там о кошке Пусси, принадлежащей пасторше Флеге. Иногда покупал у фрау Леман что-нибудь для себя или своей хозяйки. Поэтому его дружески приветствуют, когда он появляется там в начале восьмого и просит десяток яиц и две бутылки пива. Он все получает. Но пока заворачивают покупки, бедному господину Ледереру становится плохо, прежде чем он успевает расплатиться. Фрау Леман быстро подставляет ему стул и посылает служанку, которая последней задержалась в магазине, сбегать в кабачок за углом и принести для господина восьмушку коньяка.
Ему, видимо, очень плохо. Он сбивчиво рассказывает, как упал на улице. Подбородком прямо на острый камень, и голова все еще кружится. Когда девушка возвращается с коньяком, фрау Леман хочет послать ее еще к госпоже пасторше, но господин Ледерер энергично возражает. Старая семидесятилетняя женщина может умереть от испуга, а у него это уже скоро пройдет. Ему бы только посидеть пяток минут в теплой комнате за служебным помещением магазина.
Конечно, можно. Он берет с собой коньяк и позже, когда фрау Леман убирает помещение, просит ее еще раз, уже несколько бодрее, дать ему два десятка сигарет. Получив сигареты, он опять скрывается в задней комнате и запирает за собой дверь.
Оказавшись в задней комнате, он сначала быстро выпивает коньяк, затем закуривает сигарету, открывает окно и выпрыгивает во двор.
Двор ему хорошо знаком. Вот мусорные ящики, в которых Пусси любила рыться в поисках остатков копченой сельди. Он встает на мусорный ящик и, подтянувшись, взбирается на стену. И вот он в саду, абсолютно заброшенном в это время года. Он быстро проходит через сад, на другой стороне опять перелезает через стену и оказывается во дворе дома Флеге.
Теперь наступает самое трудное. Он должен со двора попасть на освещенную лестничную клетку, а агент, которого он перед этим видел на Фулентвите, возможно, стоит как раз перед дверью. Или подходит к двери и застанет его на лестничной клетке, когда он, видимый со всех сторон, будет подыматься по лестнице в квартиру Флеге.
Но нужно решиться, промедление бессмысленно. Поэтому он быстро входит в подъезд, поднимается по лестнице и открывает дверь. И только тут он решается бросить взгляд вниз: чисто. Теперь главное, чтобы обратный путь прошел гладко.
Он очень тихо открывает дверь и очень тихо входит. Потом беззвучно закрывает за собой дверь и останавливается, прислушиваясь. Рядом с ним на кухне горит сеет и слышен стук кастрюль. Старушка готовит свой ужин. Это хорошо. Он не хотел бы обойтись с ней жестоко.
Он даже и не думает идти в свою комнату, а направляется прямо в жилую комнату госпожи Флеге и тихо закрывает за собой дверь. В комнате темно. Но не очень. Уличные фонари бросают на потолок свет, и Куфальт отчетливо видит под окном столик для шитья. Ему достаточно мгновения, чтобы нащупать руками корзину с ключами. Там целая связка ключей, но она ему не нужна. Его пальцы продолжают шарить и находят под носовым платком отдельно лежащий гладкий ключик с зубчатой бородкой.
Он на цыпочках подходит к низкому шкафчику, рукой находит отверстие для ключа, вставляет ключ, открывает дверцу, которая слегка скрипит, и мгновение стоит, прислушиваясь: тихо. Его пальцы шарят по верхней полке, находят высокий гладкий деревянный ящичек для шитья и вытаскивают его. Он относит ящичек на стол перед софой, открывает крышку, вынимает содержимое, кладет его возле ящичка – ив этот момент у двери что-то щелкает, вспыхивает свет, и в дверях появляется пасторша Флеге.
Он стоит как окаменевший.
Она беспомощно смотрит на него. Он видит ужас на ее лице, нижняя челюсть начинает дрожать, по сморщенному старушечьему лицу текут слезы…
Он не знает, что делать. Она стоит и плачет. Он растерянно смотрит в ящичек. Открывает коробку, видит деньги, сберегательную книжку, рука тянется за ними…
– О, господин Ледерер… – шепчет она.
Вдруг он слышит собственный голос. Слышит свою собственную речь. Рассовывая по карманам деньги, сберегательную книжку, он слышит свой шепот:
– Садитесь, быстро, ни звука. Я ничего вам не сделаю.
Она шепчет с еще большим ужасом, еще растеряннее:
– Господин Ледерер…
Потом поворачивается, будто хочет выйти в прихожую.
В три прыжка он настигает ее. Сгребая в охапку маленькое, хрупкое, беззащитное, дрожащее и всхлипывающее создание, он зажимает ей ладонью рот, тащит через жилую комнату в спальню, кладет на кровать и опять же шепотом произносит:
– Полежите спокойно всего лишь три минуты! Потом можете кричать!
Из спальни он выбегает снова в жилую комнату, на миг в растерянности оглядывается: где же шляпа? Ах, совсем спятил, шляпа у него на голове. Сейчас пасторша закричит.
Он уже в коридоре, бежит к входной двери, но на миг останавливается и прислушивается.
Тихо, мертвая тишина. Ни звука. Он берется за дверную ручку, осторожно поворачивает ее вниз, сантиметр за сантиметром беззвучно открывает дверь, выглядывает в подъезд, ничего подозрительного не замечает, быстро выходит и оказывается перед служащим уголовного розыска.
– Ну что ж, Куфальт, я же обещал найти вас. – И, обращаясь к другому сыщику, стоящему сзади: – Сейчас же осмотрите квартиру, не натворил ли он и здесь чего-нибудь. – И опять к Куфальту: – Ну что, как самочувствие? Не очень рады, а?
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
В гостях хорошо, а дома лучше
1
Дом находился в самой верхней части горной улочки, начинающейся сразу у подножия горы, на которой возвышался замок. Комната гимназиста располагалась под самой крышей четырехэтажного дома, куда вели лестницы, становившиеся с каждым этажом уже и круче.
Когда в ясный день гимназист подходил к окну своей комнаты, он видел крыши маленького города, неширокую долину реки, пологие зеленые холмы, окаймляющие противоположную сторону долины, и даже крутые базальтовые скалы, поросшие темными елями и соснами и называвшиеся «Филином».
Он часто смотрел туда, потому что неподалеку от Филина, менее чем в часе ходьбы, находилась его родина – поместье Грибкендорф.
Гимназист стоит у окна и мысленно спускается по крутым тропинкам Филина. Проливной дождь смыл с дороги глину, он осторожно перебирается с одной каменной глыбы на другую. Одни камни крепко опутаны тугими, отмытыми дождями корнями деревьев, другие шатаются, как бы собираясь выскользнуть из-под его ноги.
Постепенно тропинка становится менее крутой, деревья подступают вплотную к ней, и теперь он идет словно по прохладному зеленому залу. Впереди светлеет, он выходит из леса, горная тропа сквозь холмы спускается к плодородной равнине.
Еще несколько шагов, и проезжая дорога, огибая заросли кустарника, выводит мальчика к деревне. Это, скорее, не деревня, а поместье с длинными скучными домами крестьян – наемных работников, где всегда пахнет сыростью и гнилым картофелем.
Но вот в конце дороги он видит черно-серую каменную стену и большие ворота в ней, открывающие путь к усадьбе. Напротив ворот, в другом конце двора, окруженного сараями, конюшнями, амбарами, стоит господский дом. Но не это главное. Важнее стоящий справа маленький дом из красного кирпича с шестью окнами под низкой крышей. Это родина мальчика. Дом как дом, ничего особенного.
Красная коробка, – дом управляющего, – каких тысячи в поместьях, с выбеленными стенами внутри, стертыми полами, закопченной кухней – но здесь он дома.
Перед крыльцом растут две липы – большие и крепкие, они возвышаются над коньком крыши и дымовой трубой. Они всегда были здесь, начиная с самого раннего его детства, и он не помнит, чтобы они когда-либо были менее гордыми и раскидистыми.
Если погода была более-менее сносной, мать выставляла коляску с ребенком во двор. Он смотрел вверх в зеленое колдовское буйство пронизанной золотым светом листвы, которая тихо шевелилась от ветра, и тянулся к ней.
Он познакомился с деревьями, когда они были еще покрыты светлой редкой листвой, и сквозь узловатые, извивающиеся черными змеями ветви просвечивало небо. Позднее, когда листва стала гуще, ничего уже не было видно, только зелень, зелень, зелень. Скоро деревья покрылись цветами и загудели, словно большие колокола, от беспрестанного жужжания пчел. Но вот листья завяли и пожелтели и стали опадать поодиночке, а потом они стали опадать один за другим. Каждый порыв ветра срывал их и гнал по двору, они скапливались в поилках для лошадей, у каменных стен конюшен, и все было пропитано их острым и печальным запахом.
Когда мальчик подрос и переселился из спальни родителей в комнату под крышей, привык спать один, тогда липы утешали его, если ему становилось страшно в пустоте ночного одиночества, – ему был знаком каждый звук, он ведь вырос под ними.
Ученик стоит у окна дома пастора на нагорной улице и пристально смотрит на Филина. Ему кажется, что он видит гладко причесанную голову матери, склонившуюся у окна над шитьем. Из конюшни выходит отец с хлыстом в руке. Он останавливается посреди двора под деревянным навесом, где висит отслуживший свое лемех.
Отец вынимает часы и, обождав немного, говорит старосте: «Час!» И староста бьет молотком по лемеху, звонкий стальной звук разносится по двору.
Из ворот конюшни появляется первая упряжка лошадей. Перед домом управляющего люди становятся в ряды. Впереди батраки – сначала парни, потом девушки. За ними депутанты, сначала женщины, потом мужчины…
Он видит это, он видел это сотни, тысячи раз. Поэтому он видит это и сейчас, из окна пасторского дома через семь гор, через семь долин.
Вот в долине торопливо начали звонить колокола, субботний вечер, канун выходного дня. Гимназист вздыхает. Он больше не смотрит на Филина, он смотрит на городок, там у реки – гимназия, из-за которой ему приходится находиться здесь.
Затем он глядит на горную улицу, на расположенную наискосок швейную мастерскую. Там тоже складывают работу, трудовой день закончился. Стайка молоденьких девушек занята уборкой. Это дочери именитых горожан, у которых был урок шитья.
Как это уже часто случалось, его взгляд задерживается на веселой стройной блондинке, и когда она смотрит в его сторону, он кивает головой.
Она кивает в ответ. Так они стоят несколько мгновений. Пятнадцатилетний гимназист и маленькая блондиночка. Они кивают друг другу и смеются.
Вдруг у него мелькает мысль. Он делает ей знак, бежит в комнату, окидывает взглядом стол, хватает пустой конверт от полученного сегодня маминого письма и опять бросается к окну.
Она смотрит на него, он высоко поднимает конверт и многозначительно кивает. Она оглядывается в нерешительности, но потом тоже кивает…
Он бросается от окна по лестнице вниз.
На первой площадке он останавливается. Она тоже побежала вниз по лестнице и тоже остановилась. Он снова поднимает вверх письмо, и они оба кивают.
Следующий марш лестницы, следующий кивок.
Последний марш, последний кивок.
Тяжелую, скрипящую дубовую дверь настежь! И на неровную, мощенную булыжником улицу.
Они встречаются на полдороге между домами.
– Добрый день, – говорит он робко.
– Добрый день, – отвечает она смущенно.
Вот пока и весь разговор.
Она в нерешительности смотрит на письмо в его руках. Странный конверт: вскрытый, с почтовой маркой и штемпелем.
Он тоже смотрит на конверт.
– Дайте же мне письмо, – торопливо говорит она.
– Да у меня его нет, – отвечает он. – Я просто хотел, чтобы вы спустились вниз.
Пауза.
– Мне нужно идти, – говорит она.
– Сегодня вечером в восемь у городского вала, – предлагает он.
– Нет, нельзя, – говорит она. – Моя мама…
– Пожалуйста! – просит он.
Она поджимает губы и смотрит на него.
– Я попытаюсь, – говорит она.
– Пожалуйста! – просит он. – В восемь у городского вала.
– Хорошо, – соглашается она.
Они смотрят друг на друга. И вдруг оба смеются.
– Какой вы смешной с вашим письмом! – смеется она.
– Здорово придумано? – гордо спрашивает он. – Я вас все-таки выманил.
– Итак, в восемь!
– Ровно!
– До свидания!
– Пока!
Теперь по домам. Опять сломя голову вверх по лестницам. До восьми осталось несколько часов, только несколько часов, до восьми – ему приходит в голову, что это можно даже петь.
Но долго петь не пришлось.
Как только он увидел, что толстая портниха Губальке с коротко остриженными седыми волосами переходит улицу и звонит в их дверь, ему сразу же расхотелось петь.
Но он заставляет себя петь дальше, пение звучит жалко, он слишком часто прерывается, чтобы выглянуть из окна и посмотреть, не вышла ли портниха.
Нет, она все не выходит, и опустевшая швейная мастерская, напротив, ухмыляется уныло и противно.
Несколько часов до восьми? До восьми время тянется бесконечно!
Вот она возвращается. Она идет через улицу назад к своему дому, но в дверях оборачивается, замечает в окне гимназиста, зло смотрит на него и даже грозит кулаком.
Потом дверь захлопывается.
«Нет, ничего плохого не будет. Я ведь ничего не сделал», – успокаивает он себя.
Но уже стучат в дверь, и Минна, пожилая сварливая служанка, говорит:
– Идите к господину пастору! Немедленно!
– Хорошо, – говорит гимназист, приглаживая перед зеркалом гребенкой волосы.
– Немедленно! Сию минуту!!
– Уже иду.
– Сейчас вам достанется!
– Ехидна, – говорит гимназист и спускается на два этажа ниже в кабинет пастора.
Он стучит, слышит елейно-мягкое «войдите!», и вот ученик предстает перед своим пастором.
Мягко, слишком мягко. Но все-таки: огорчение и разочарование. Легкомысленная любовная интрижка, осквернение дома духовного лица, недозволенная переписка и вообще еще слишком молод.
– Что же из тебя получится, если ты так начинаешь?
– Но я ведь не писал никакого письма.
– То, что ты отрицаешь, только дополняет твой образ. Минна тоже видела, не только фрау Губальке. Вся улица, наверное, видела. Завтра весь город узнает, что за человек поселился в моем доме.
– Но я в самом деле не…
– Я вовсе не намерен вступать с тобой в разговоры. Ступай наверх и укладывай свои вещи. Твой отец уже предупрежден мной по телефону. В моем доме ты не останешься ни одной ночи.
Рот гимназиста плаксиво кривится…
– Пожалуйста, господин пастор, прошу вас!..
– Никаких пожалуйста. Всего пятнадцать лет, и уже с девочками. Фу! Фу! Я говорю «фу»!
Пастор грозит указательным пальцем. Потом указывает на дверь, и гимназисту ничего не остается, как уйти.
Наверху он один. Пытается уложить вещи, но начинает плакать.
Минна приносит еще его белье:
– Да, теперь вы можете реветь! Фу!
– Вон отсюда, ехидна! – рычит он и перестает плакать.
Между тем день со своим веселым субботним шумом переходит в вечер, гимназист сидит на клеенчатой софе, на стуле наполовину уложенный чемодан, который ему не хочется заполнять полностью, потому что он никак не может поверить в то, что все уже действительно кончено…
В начале восьмого он слышит звонок отцовского велосипеда. Он бросается к окну и кричит: «Папочка, поднимись сначала ко мне!»
Отец хотя и кивает ему головой, но не приходит. Наверняка пастор его перехватил. Иначе бы отец, как всегда, сдержал слово.
Еще пять минут ожидания. Вот лестница трещит под крепкими сапогами для верховой езды, и отец входит в комнату.
– Ну, сынок? При реках Вавилона, там сидели мы и плакали? Слишком поздно! Слишком поздно! Рассказывай о своих грехах.
Отец всегда великолепен. Когда этот большой и сильный человек сидит за столом на стульчике, в брюках для верховой езды со вставкой из серой кожи, в зеленой куртке, с загорелым, кирпичного цвета лицом, свидетельствующем о здоровье, и белоснежным лбом – белый лоб и загорелое лицо резко отличаются друг от друга из-за шапки, которую он носит, – и говорит: «Расскажи о своих грехах», – сразу становится легче.
Он слушает, слушает внимательно.
– Хорошо, – говорит он наконец. – И больше ничего не было? Хорошо. Сейчас я спущусь еще раз к твоему пастору.
Но он быстро возвращается назад. Его лицо немного покраснело.
– Ничего не поделаешь, сынок. Ты есть и будешь закоренелым грешником. Итак, пока поедешь со мной домой. Мама, конечно, очень обрадуется.
– Чемодан мы оставим здесь. Завтра его заберет Эли. Ему все равно нужно в город. Пока дорога ровная, ты можешь сидеть сзади, на багажнике. Потом в горах вместе повезем велосипед.
– А гимназия?
– Боюсь, сынок, с гимназией все кончено. Он наговорит на тебя директору. Завтра посмотрим. Я еще раз приеду сюда.
Они отправляются в путь. Отец слева, а сын справа от велосипеда. Минна смеется, выглядывая из окна кухни.







