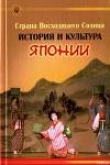Текст книги "История Японии"
Автор книги: Эльдар Дейноров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 59 страниц)
Глава 21.
Культура «японского Версаля»
Государь собирает при своем дворе самых талантливых поэтесс. В свите у каждой из его супруг или наложниц есть одаренные дамы, с которыми приятно переписываться. Но, Юкинари-сама, подумай – что, если написавшая эти стихи дама дурна собой, как бог Кацураги? А ты будешь страстно добиваться встречи в ней и, пожалуй, добьешься!.. И не смотри на меня так – можно подумать, ты не знал, что у половины наших придворных дам волосы накладные! Юкинари-сама, уж мы-то, придворные, сколько раз на этом обжигались!..
Д. Трускиновская, «Монах и кошка»
Не хочется прощаться с периодом Хэйан на слишком грустной ноте. Военные действия, беспорядки в стране, «горячие точки», невиданный рост преступности, которая, в конце концов, захлестнула и столицу – все это, конечно, не выкинешь из истории. Но это время стало эпохой невиданного взлета литературы и искусства. И просто невозможно пройти мимо них.
Дальнейшее развитие буддизма
Если прежде буддийские направления в Японии были теми, что имели аналог на континенте, то теперь, когда страна практически оказалась в изоляции, стали развиваться собственные школы буддизма. Но печальная внутренняя ситуация сказалось на религии.
Дж.Б. Сэнсом отмечает, что и в духовной, и в светской литературе эпохи Хэйан часто встречается выражение «маппо» «конец Закона». Известно, что есть буддийские писания, говорящие, что через 2 000 лет после Будды учение его будет забыто, а духовность придет в упадок, ибо люди греховны.
Считать свою эпоху временем упадка были тогда все основания. Даже духовенство с удовольствием присоединилось к кровопролитной схватке за землю. А народ испытывал немыслимые страдания. И высокой эстетике угрожала гибель, ибо «роскошь развенчивала чистоту». Безнравственность эпохи легла позорным клеймом на все.
Повеление людей считалось невероятно непристойным, особенно это касалось знати. Можно сказать и так: дворцы Киото превратились в Версаль. Аристократы и придворные дамы не стеснялись своих связей, мало того – к сексуальным грехам пристрастилось и духовенство обоего пола. Человеку благочестивому места в таком мире не находилось, оставалось разве что присоединиться к «ямабуси» и выживать в условиях дикой природы. Ведь даже наследие таких выдающихся личностей, как монах Кукай, оказалось разменянным на мелкое стяжательство.
Существовал и иной путь – путь проповеди. Монах Куя выступал с проповедями в Хэйане во время эпидемии 951 г. Он старался наставлять народ молиться Будде, а его аудитория располагалась не во дворцах, а на рыночных площадях. Такие уличные проповедники – первый признак религиозного обновления, идущего «снизу», попыток дать выход народной духовности.
«Характерной чертой японцев той эпохи (эта черта заметна в их древнейших верованиях и, вопреки мнению некоторых, не исчезла полностью до сих нор) является то, что их не мучило чувство греха, не терзало решение проблемы добра и зла. Им были почти не свойственны те пуританские наклонности и неуемный дух сомнений и исканий… Японцы были впечатлительными и темпераментными, но у них отсутствовала склонность к метафизике. Благодаря впечатлительности они быстро постигали скорбь и разочарования земной жизни, с готовностью веря тем буддийским проповедникам, которые говорили о ее пустоте и провозглашали ужас ада и славу рая. Благодаря своему темпераменту они умели жить счастливыми мгновениями и в надежде на блаженство легко избавлялись от страха перед страданиями», – считает Дж.Б. Сэнсом.
Таким людям могло прийтись по душе учение Гэнсина, автора работы «Сущность спасения» («Одзё ёсю»). Так началось окончательное формирования в Японии буддийской школы «Чистой Земли» и амидаизма (особого почитания Будды Амитабхи). Но это направление было широко распространено и в Китае.
Амидаизм настаивает на том, что путь спасения – это вера, хотя ранний вариант буддизма, усвоенный японцами, утверждает, что главное – наши поступки. Считалось, что в дни упадка человек вряд ли может следовать дорогой, указанной Буддой Гаутамой Шакья-Муни (яп. – Сяка). Поэтому Будда Амитабха (Амида) дал некий «изначальный обет», дабы люди спасались через веру в него. Жаждущий спасения должен лишь искренне повторять простую молитву к Амиде. Тогда можно будет рассчитывать на возрождение в «Чистой Земле» («Дзёдо»), и уже там обрести просветление.
Гэнсин в своем труде изобразил ужасающий ад и впечатляющий рай столь живо, что последователи этого учения отыскались очень быстро. Любопытно, что вера в спасение через Амиду оказалась привлекательной для всех школ японского буддизма. По крайней мере, так было до XII в., когда выделилась отдельная школа амидаизма.
Но учение о спасении стало действительно народным вариантом буддизма, поскольку оказалось простым и доступным для понимания всех сословий.
Литературные достижения
О жанре «военных повестей» мы уже упоминали, в дальнейшем (после войны Гэмпэй) он получит огромное развитие. Но жанр исторических хроник получил огромное развитие в ходе периода Хэйан (прежде всего – начального этапа). Можно еще раз назвать «Секу Нихонги», но имелись и четыре других хроники, посвященные событиям VIII–IX вв. К литературе подобного рода примыкают и законодательные кодексы с комментариями, касающиеся и уголовных, и гражданских дел, и административных правил, и обрядов.
Важным этапом постижения «китайской науки» стала подготовка тысячетомпого собрания китайской классики – от древних авторов до эпохи династии Тан. Как правило, эти произведения связаны с историей и политикой. Не забудем, что выдающиеся полководцы вроде Ёритомо Минамото обучались стратегии но трактатам Сун-цзы. (Хотя японские реалии повлияли на их искусство руководства войсками).
Выпускались и буддийские тексты, в том числе (и в этом видна заслуга Кукая) санскритские пособия. Вообще религиозная литература была крайне популярна в это время – от легенд и волшебных сказок до философских трактатов.
Но особый импульс получила в этот «галантный период» японской истории поэзия. Да иначе и быть не могло, без умения слагать стихи нечего было и мечтать получить должность при императорском дворе. Поэзия сделалась ощутимой частью жизни аристократии, без нее, без конкурсов и состязаний этот «японский Версаль» нельзя и представить.
Конкурсы порой были сложны. До нас дошло описание традиции, связанной с винопитием. Поэт садился на камень над ручьем, а выше но течению пускали чарку с вином. И – время пошло. Нужно было успеть сложить и прочесть стихотворение на заданную тему, и только после этого перехватить чарку и выпить вино. (Пожалуй, в сравнении с этим обычаем под названием «гокусун» нынешние литературные интернет-конкурсы с ограничением времени написания и темы, например, небезызвестная «Грелка», кажутся скучными и пресными). Правда, тот самый император Уда, обладавший независимым характером, устроил однажды и самое обычное соревнование по перепою, и вино текло «подобно воде, выливаемой в песок». Чем оно могло закончиться, вполне очевидно. И все же, это могло рассматриваться в утонченном Хэйане, как варварство и отступление от высокой эстетики. Гораздо интереснее были турниры другого свойства.
В своей работе «Герои, творцы и хранители японской старины» А.Н. Мещеряков приводит описание поэтического турнира в начале X в. Заметим, что поэты не выступали самостоятельно, а делились на две команды – «левую» и «правую».
«Бывший государь Уда был облачен в темно-алую накидку и шаровары, напоминающие цветом желтую хризантему, столь любимую государем Ниммэем, Команда «левых» красовалась в «цветах сакуры» – белые одежды на багряной подкладке, а «правые» выступали в белом на зеленой подкладке цвета ивы…» Команды преподнесли Уда столики, искусно изукрашенные в соответствии с цветовыми и тематическими доминантами своих одежд. Послания, адресованные Уда, были прикреплены к веткам сакуры и ивы. Играла музыка. Стихи, сочиненные участниками, опускались в ящичек сандалового дерева. Высшие придворные наблюдали за поединком, собравшись у входа. Стихи зачитывались на этот раз придворными дамами, появившимися из-за бамбуковой шторы. В соответствии с заданием каждой стороной было сложено по сорок песен, посвященных любви, а также 2-й, 3-й и 4-й луне года. Арбитром выступал сам Уда – он объявлял результат после прочтения каждой пары песен. Победителем была признана команда «левых». После этого для каждой песни определили место на столиках: стихи, посвященные весенней дымке, положили возле макета горы, песни о соловье прикрепили к ветке сливы и т. д. В заключение Уда преподнес участникам состязания парадные одежды».
Некоторое время были популярны китайские стихи, но в X в. особое значение приобрела национальная поэзия. С благословения императора была начата работа над новой поэтической антологией – продолжением «Манъёсю». Она была завершена в 922 г. «Собрание старых и новых японских песен» («Кокин вака сю» или, сокращенно, «Кокинсю») включало около 1 100 кратких стихов. Форма их невероятно отработана, а в содержании более чувствуется сдержанность.
Антология стала образцом для будущих поколений поэтов (как и «Манъёсю»). Между прочим, есть там и стихотворение, которое позднее, уже в 1908 г., стало словами к гимну Японии. К сожалению, автор его неизвестен.
Государя век
Тысячи, миллионы лет
Длится пусть!
Пока Камешек скалой не стал,
Мохом не оброс седым!
(перевод Н.И. Конрада)
Как видим, отличие от «Боже, царя храни» или «Боже, храни королеву» здесь лишь в отсутствии христианской символики и особенном восточном колорите, связанном с магией больших цифр.
Одним из составителей «Кокинсю» был известнейший поэт той эпохи Цураюки Кн (Ки-но Цураюкн). Нам сложно сказать (тем более, если мы незнакомы с иероглифами), как относиться к нему. Современники считали его великим мастером. Но уже в XI в. отношение любителей поэзии к нему было пересмотрено, а впоследствии Цураюки и полностью исчез из поэтических антологии. Но время от времени этот поэтический культ возрождался. Впрочем, пожалуй, стоит все же поверить тем, кто жил с ним в одну эпоху. Лишь в 1905 г. ему был присвоен почетный второй придворный ранг, тогда как при жизни Цураюки был обладателем пятого ранга…
Любопытно в «Кокинсю» вот что: там можно встретить гораздо меньше названий всевозможных местностей, а раздел «Путешествий» занимает очень маленькое место. Видимо, теперь хэйанская аристократия не путешествовала вовсе, это было ни к чему. А природу мог успешно заменить сад при дворце…
Но лучшее произведение самого Цураюки связано как раз с путешествием («Тоса ницки»). Это дневник, связанный с путешествием в Тоса, написанный легко и непринужденно. В предисловии он утверждает, что так могла бы написать женщина то есть, с употребление японских слов и слоговой азбуки.
В свое время автору этой книги довелось посещать литературную студию, где одним из камней преткновения в спорах было деление литературы на «мужскую» и «женскую». Трещали и ломались копья, а участники диспутов никак не могли прийти к согласию хотя бы в том, есть такое деление, или это выдумка.
Для «японского Версаля» в этом вопросе имелась полная ясность. Китайские иероглифы – это дело мужчин, а для женщин существует слоговая азбука. Конечно, случались исключения, и аристократическая дама могла изучать иероглифы. Но это не приветствовалось и выглядело странным. (И все же Сэй Сёнагон утверждала: «Достойны зависти придворные дамы, которые пишут изящным почерком и умеют сочинять хорошие стихи: но любому поводу их выдвигают на первое место»).
«Женщины… могли выражать свою речь и чувства живым языком, на котором говорили с детства», – утверждает Дж.Б. Сэнсом. А мужчинам приходилось учить китайский, который (случай с Митидзанэ очень хорошо показывает это) был для них мертвым языком, аналогом латыни. Недаром в «несерьезных» произведениях той эпохи ученые-законники, мрачноватые конфуцианцы подчас изображаются в виде комических персонажей.
Все же легкомыслие эпохи давало себя знать даже при посольствах в Китай, когда их еще посылали: особой популярностью среди японских посланников пользовался не вполне пристойный роман «Пещера резвящихся фей», за который они были готовы выложить любые деньги. Ее величество мода в ту пору уже диктовала свои правила.
Тем не менее, период Хэйан дал прекрасные образцы женской литературы. Особую известность получили два романа «Гэмдзи моноготари» и «Записки у изголовья». Оба они написаны придворными дамами – Мурасаки Сикибу (известно, Мурасаки Сикибу – это не имя, а прозвание, а сама она происходила из Фудзивара) и Сэй Сёнагон. Оба посвящены жизни двора той давней эпохи. И оба стали ступеньками в создании национальной японской литературы, уже ушедшей вперед со времен освоения «китайской науки». Получилось именно так: пока мужчины больше внимания уделяли заимствованиям, женщины продвигали свою культуру.
И оба романа, демонстрирующих необычайную живость и утонченность ума, доносят до нас колорит Хэйана – закрытого общества, где высокие чувства или меланхолическое настроение затмевали реальные проблемы, где умели наслаждаться мгновением быстро текущей жизни.
Кажется невероятным, что культура Хэйана могла быть хоть как-то связана с культурой японского «простонародья». Но это так: праздники во дворцах совпадали с календарем, связанным с земледельческим календарем обрядов. Но, конечно, и роскошество, и сами обряды блестящей аристократии не шли ни в какое сравнение с деревенскими праздниками – соревнованиями сумоистов и бегунов, что проводились около местных храмов синто… Пожалуй, описание таких праздников напоминает европейские пасторали или карнавалы в том же Версале, где знатные господа и дамы обожали переодеваться пастухами и пастушками.
Увы, когда утверждается, что после нас может быть хоть потоп, этот потоп непременно случится. Так было с Версалем, так было и куда раньше и с Хэйаиом. Но умерли лишь аристократы, а их культура осталась жива. Так и в японском народе живо и поныне особое ощущение красоты. Красоты, которой могло и не быть без той легкомысленной эпохи.
Дж.Б. Сэнсом считал: «Многое в культуре Хэйан кажется таким хрупким и иллюзорным… Она была продуктом скорее литературы, чем жизни. Поэтому термины индийской метафизики становятся своего рода модным жаргоном, буддийские ритуалы – зрелищем, китайская поэзия – интеллектуальной игрой. Упрощенно можно сказать, что религия стала искусством, а искусство – религией. Мысли хэйанской знати, несомненно, в основном были заняты церемониями, нарядами, изящным времяпрепровождением (вроде стихосложения и любовных интриг, ведущихся но правилам). Наиболее важным представляется искусство письма, потому что оно было необходимо для всех этих занятий… Японцы, переделывая то, что заимствовали, иногда выхолащивали и суть, но одновременно они избавлялись от всего, что было для них слишком неуклюжим и грубым. От прикосновения руки японца устрашающие божества и демоны китайской мифологии принимали дружелюбно гротескный вид, суровый конфуцианский кодекс смягчался, мрачный индийский аскет, умерщвляющий плоть, на японской почве превращался в умеренного отшельника, наслаждающегося книгами и цветами».
Живопись
Пока что мы говорили, в основном, о религиозном искусстве. К каноническим статуям под влиянием школы Сингон добавились попытки отобразить духовную вселенную при помощи особых картин «мандара» (санскр. – «мардала»). Это – один из важнейших жанров религиозной живописи начала периода Хэйан. Он повлиял и на светскую живопись. Известны два величайших светских художника этого времени – Каванари из Кудара и Косэ Канаока. Увы, нам остались лишь имена и мнение их современников – но не их творения.
Расцвет Фудзивара стал веком роскоши (для малого круга высшей аристократии). Дворцы того времени состоят из просторных комнат и залов, связанных галереями. Полы, потолки и ширмы обычно украшались. После начала времени изоляции особое влияние на живопись оказал синтоизм и характерное для него любование природой. Ландшафтная живопись оказала влияние даже на буддийскую иконографию. Такого влияния не избежал даже автор «Пути к спасению» Гэнсин. Он использовал живопись ради пропаганды своей идеи религиозного обновления. Его авторству приписывается картина, на которой Будда Амида с бодисатвами Каннон и Сэйси встречают верующих в раю. Высшие существа, радуясь спасению людей, играют на музыкальных инструментах, а позади них открывается райский сад.
Дж.Б. Сэнсом отмечает, что в японском искусстве был особый фактор, подчеркивающий стремление к строгости и чистоте. Это – каллиграфия. Только при ее помощи можно раскрыть японскую эстетику. Правильное движение кисти, чистота линий должны соответствовать канонам. Это – путь к самодисциплине и высокому вдохновению. А материалы – тушь и бумага – таковы, что они не потерпят ни малейшей небрежности. Так создавалась высочайшая гармония.
Мы говорили, что без поэзии нельзя было рассчитывать на продвижение при дворе. Но поэзия шла бок о бок с каллиграфией, хороший и отточенный почерк – это и свидетельство высшего аристократического происхождения. Недаром многие императоры были величайшими каллиграфами своего времени.
Еще одни жанр изобразительного искусства связан с закатом клана Фудзивара. Это «эмакимоно», цветные картины-свитки. Некоторые из этих свитков иллюстрируют популярные произведения литературы того времени (особенно интересен старейший из свитков, посвященный «Гэндзи моноготари»). Пока что такие картины – тоже заимствование. Но их сюжеты уже вполне национальны. Пройдет время, и появится истинно японский стиль «ямато-э»…
Любопытно, что в те неспокойные для японской провинции годы была сделана удивительная попытка перенести хэйанское искусство не куда-нибудь, а в землю Муцу, «горячую точку». В 1095 г. Киёхира Фудзивара построил там крепость Хирандзуми. Он основал город, который впоследствии мог бы соперничать с самой столицей, сделавшись центром искусства и наук. Неизвестно, как далеко смог бы зайти тот смелый эксперимент, но в 1189 г. «северная столица» была сокрушена полководцем Ёритомо Минамото.
Что ж, «мирская слава – словно утренний туман», – так говорили обитатели «японского Версаля». И в чем-то, наверное, они были правы. В истории Хэйана не могло быть никаких альтернатив – рано или поздно сей этап истории завершился бы. И это завершение могло стать и куда более жестким.
Часть VI.
Война Гэмпэй и Камакурский сёгунат (1185–1333 гг.)
Глава 22.
Время меча, лука и лошади
Этой ночью ветер будет петь
Под грозы величественный смех.
Собирает свою жатву смерть,
Умереть – не самый страшный грех.
Трепещите, смертные, настал
Тот неодолимый, страшный час.
Князь или раб, король или вассал —
Мрак поглотит каждого из вас!
Думаешь, что это дождь и смерч?
Как же ты наивен, человек! Этой ночью мое имя –
Смерть! И запомнишь ты его навек…
Ну, конечно, если будешь жить,
Что тебе, увы, не суждено…
А земля и предутренней тиши
Кровью пропиталась, как вином.
М. Астахова
Мы переходим от приятного для аристократов столицы периода Хэйан к тому трагическому времени, которое вошло в легенды, перешагнувшие и века, и государственные границы. Война Гэмпэй – самая известная из самурайских войн, которая продолжалась с 1180 по 1185 г. Она породила самых знаменитых героев японской истории и массу мифов и литературных произведений, иные из которых создаются и в наше время, притом не только в Японии, но и у нас, в России.
Самураи и бусидо
Весь XII век стал временем столкновений интересов двух кланов – Тайра и Минамото. При этом вражда, раз начавшись, уже не затихала.
Новое сословие, которое могло вести войны, к тому времени успешно сформировалось. Конечно, самураев можно считать мелкопоместным служилым дворянством. Но здесь есть и особый колорит.
Конечно, военное сословие формировалось по всей стране. И все же войны с «варварами» сыграли особую роль. На севере роды айнов смешивались с переселенцами с юга, многие из которых, не будучи блистательными аристократами, отлично ощутили на себе, что такое «галантный» период Хэйан. Некоторые из «замиренных» айнских кланов давали воинов местным властителям (которые, впрочем, порой поднимали мятежи). Если относительно Хэйана напрашивается выражение «японский Версаль», то север – это, скорее, «японский Дон». Туда бежали разорившиеся мелкие землевладельцы, туда могли уходить и крестьяне. Там формировалась особая прослойка, вполне сопоставимая с казачеством.
К XII веку в стране были отлично подготовленные воины, но сражались они не за интересы центральной власти, а за кланы, к которым принадлежали. У них уже начал вырабатываться свой кодекс чести, свои устои жизни и поведения. Но пока что самурайство еще не было самостоятельной политической силой. Этих воинов использовали блестящие аристократы, относившиеся к ним, мягко говоря, с презрением.
Само слово «самурай» произошло от глагола «сабураи» «служить великому человеку». А «великие люди» – это крупные феодалы. Ранее для самураев использовалось слово «буси» «воин». Оно известно нам из названия морально-этического кодекса самурайства – «бусидо», «путь воина». Это не армейский устав в нашем понимании, как можно было бы предположить. «Бусидо» – свод неписаных (но от этого, пожалуй, еще более жестких) правил.
Истинный самураи обязан быть верным господину, искренним, отважным, но скромным, готовым к самопожертвованию вплоть до собственной гибели, не чувствующим страх перед смертью, забывающим о себе ради выполнения долга. Бусидо пестрая смесь идей, заимствованных из буддизма, конфуцианства, синто и верований айнов. Умереть в бою за своего господина – это почетная смерть, а позору нужно предпочесть ритуальное самоубийство – «сэппуку». (Заметим, что и прежде в Японии были герои-самоубийцы, но они чаще предпочитали самоудушение). Обычно мы говорим о «харакири», но это слово несколько снижает оттенок великого ритуала самопожертвования.
А. Моррис цитирует в своей работе интервью выдающегося японского писателя XX в. Юкио Миснмы (который, к слову сказать, сам впоследствии окончил жизнь подобным образом): «Я не могу верить в западную искренность, поскольку она невидима, а вот в феодальные времена мы верили, что искренность пребывает в наших внутренностях, и если было необходимо показать нашу искренность, нам приходилось разрезать животы и вынимать нашу видимую искренность. Это было также символом воли военного, самурая; каждый знал, что этот вид смерти наиболее болезненный. Причина же того, что они предпочитали умирать самым ужасным образом, заключалась в желании доказать мужественность самурая. Этот способ самоубийства был японским изобретением, которое иностранцам не скопировать».
Естественно, такого рода действия требуют жесточайшей психологической подготовки. Такой подготовкой в более поздние времена стали тренировки, связанные с практиками дзенбуддизма.
Понятие чести сделалось абсолютом тоже не сразу. Вспомним, что на начальном этапе войн на севере солдаты не только что не совершали самоубийств при разгроме, а спокойно разбегались, справедливо полагая, что при добросердечном режиме Фудзивара им не грозит смертная казнь. В Девятилетней войне сдаться в плен (заметим, своим же сородичам) – это уже дело постыдное. Но и только.
В дальнейшем ничего подобного нельзя было и вообразить. И, кстати, вообразить, а пуще того – высказать это вслух означало тягчайшее оскорбление для самурая. Он должен были или тотчас же убить обидчика, или совершить еэппуку.
Военная тактика такого войска – это, как правило, сражение, разбившееся на одиночные схватки. Так было вплоть до введения огнестрельного оружия.