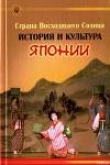Текст книги "История Японии"
Автор книги: Эльдар Дейноров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 59 страниц)
Даже если бы монах-фаворит ограничился тем, что уже было им сделано, в наше время не миновать бы ему славы «японского Распутина». Но Докё решился идти до конца.
Но вначале требовалось восстановить пошатнувшуюся было власть буддистов в стране. Государыня так и оставалась монахиней. Но для эффективного управления ей потребовался министр-монах. Кто им стал, можно даже не спрашивать – кандидат был один. Докё стал «дайдзин-дзэндзи» (это как раз и означает «великий министр-монах»). Такая должность была в новинку.
А.Н.Мещеряков приводит выдержки из указа Сётоку (Кокэн): «Хотя я обрила голову и облачилась в одежды монахини, я должна повелевать Поднебесной. Согласно сутре, Будда рек: «О цари! Когда вы всходите на престол, вы должны пройти бодхисаттвы чистейшее посвящение». А посему для того, кто стал монахом, нет причин, чтобы отстраниться от управления. Почитаю потому за благо, чтобы у меня, императрицы-монахини, был министр-монах».
Вот после этого началось не просто распространение буддизма, но самое настоящее его насаждение. Некоторая часть служителей Будды оказалась в самом водовороте мирской политики.
Начались изменения при дворе. Должность сокольничьего отменили, ибо охота удовольствия ради не соответствовала буддийским добродетелям. (И остается лишь вздохнуть, что в наше время нет подобной же повсеместной практики – и в буддийских, и в прочих странах). Зато появился распорядитель церемоний по отпущению живых тварей на волю. При храмах сооружались пруды, в них выпускали живую рыбу, которую ранее предназначали на обед.
Отменялись и приношения мясом и рыбой к императорскому столу, поступающие из провинций. Правда, легче жителям провинций от этого не стало. Монах-министр позаботился об усиленном строительстве все новых и новых храмов, теперь уже на местах. Всю ответственность он возложил на провинциальных чиновников. Кстати, он позаботился и о мерах против рвачей, безжалостно увольняя тех, кто присваивал средства.
Между прочим, полезность вегетарианства (по крайней мере, полного отказа от продуктов животного происхождения) весьма сомнительна. Человек по природе своей все же склонен к поеданию мяса. Длительный отказ может вызвать расстройство обмена веществ. В странах же, бедных пищевыми ресурсами, это может привести к очень тяжелым последствиям. Но монах-врачеватель Докё не мог в то время осознать, что в истории борьбы с болезнями его реформы – шаг назад.
Масштабы религиозной деятельности поражали, Докё развернулся вовсю. Чтобы ритуально очиститься от скверны, вызванной выступлением Накамаро Фудзивары, уже через восемь лет после «мятежа» было приказано вырезать миллион деревянных моделей пагод (высотой чуть более 20 сантиметров), в каждую из которых вложили «дхарани» – заклинания-обереги. Их тираж, вероятно, был на тот момент рекордным для всего мира. А теперь представим: в Японии живут шесть или семь миллионов человек… Выходит, в подготовке ритуала очищения было задействовано практически полстраны!
Насколько завышена цифра, неясно. Но и по сей день только в храме Хорюдзи хранится 40 000 таких ритуальных пагод.
Монах Докё не просто поощрял буддизм. Он потихоньку прибирал к рукам и духовную власть. Раньше для принятия сана требовалась печать соответствующего управления, теперь этим заведовал министр-монах лично. Бродячие монахи или отшельники были лишены права проповеди. Свобода слова внутри церкви, таким образом, подавлялась. Церковь становилась централизованной силой, а ниточки управления тянулись к одному человеку. Правда, и прежде буддийская сангха в Японии не была полностью независимой от мирских властей. Установление контроля над монахами проводилось даже незадолго до переворота, в 760 г. духовенство включили в общий перечень ранжирования, и теперь власть духовная очень мало отличалась от прочих чиновников. Просто задача у них была иной – обеспечить процветание страны и государства при помощи буддийских обрядов (а проще говоря – при задействовании магии, как это тогда понималось).
Бродячие монахи, не прошедшие посвящения и проповедующие какие-то иные духовные принципы, могли стать серьезной головной болью для церкви, все больше сраставшейся с государством. Свод «Нихон рёики» осуждает преследование таких людей. А.Н. Мещеряков приводит пример из этого сборника: «Чиновник, ответственный за поимку бродяг, схватил странствующего монаха и укорял его: «Ты – бродяга. Почему ты не платишь налогов?» Монах же упорно отказывался от участия в общественных работах. Тогда чиновник привязал сутру, которую монах носил с собой, к веревке и стал волочить ее по земле. Когда он доехал до своего дома, неведомая сила подняла его в воздух вместе с конем. Так он провисел день и ночь. На следующий день чиновник упал на землю и разбился насмерть».
Еще одна реформа Сётоку и Докё наверняка увеличила число тех, кто попал в то самое обнищавшее сословие полукрестьян-полуземлевладельцев-полуразбойников, которое пока что лишь упоминалось. Прежде целинная земля закреплялась за теми, кто осваивал ее. Теперь для некоторых категорий подданных это право отменяли, для других – ограничивали. А вот* буддийские храмы под такой закон не подпадали.
Бюрократическая линия в отношении буддизма проводилась вовсю. Но и в мирских делах настал черед перестройки. Придворные из рода Фудзивара, даже те, кто не участвовал напрямую в «мятеже», лишались должностей. Вакантные места пустовали недолго – на них назначались те, кто поддерживал министра-монаха. И его родственники Югэ не оказались обделенными – десять из них получили пятый придворный ранг или даже продвинулись выше. А ведь в числе аристократов их до этого правления не было вообще.
И это сопровождалось «чудесами» и «знамениями». В 766 г. в храме Сумидэра случилось выдающееся событие – там обрели мощи самого Будды. И европейское средневековье подчас поражает неуемным сбором христианских реликвий и мошенничествами, связанными с этим. Но Япония в этом плане опередила Европу. Ведь никто не задумался, с чего бы это мощам индийского царевича оказаться заброшенными на далекий архипелаг? (А те, кто задумывался, видимо, хорошенько подумали еще – и решили держать рот на замке).
Во всяком случае, факт находки мощей признала императрица. Она сочла это за знак одобрения высшими силами действий власти. Министру-монаху был пожалован еще один титул «хо-о», который можно перевести как «император закона» или «император учения». Возможно, именно этот титул окончательно вскружил голову Докё. А может, и то, что по материальному положению он теперь не уступал самым настоящим императорам.
Знамения разного рода весьма интересовали императорский двор. В хрониках мы часто находим упоминания о белых животных, обнаруженных в провинциях, о чудесных случаях, которые могли произойти даже с простолюдинами. И Докё часто использовал всяческие знаки, истолковывая их, как благоприятные. Кстати, было ведомство, толкующее такие предсказания, а в его руководство вошел один из родичей великого министра-монаха. 768 г. стал настоящим годом чудес. Ко двору доставили нескольких белых животных.
Но если эти знамения и можно было толковать как действительно счастливые, то лишь надеясь, что правление государыни-монахини и временщика должно когда-то подойти к концу.
Слишком много сил было затрачено на строительство храмов, на обряды и молитвы. Несколько лет оказались неурожайными. Страна голодала, а государственные амбары, созданные для помощи пострадавшим, стояли пустыми. К этому прибавились неизбежные эпидемии. Цены на рис поднялись в 50 раз, умножилось количество бродяг. В одной из провинций объявили налоговый суверенитет – просто отказались направлять налоги ко двору. Посланные для увещевания «мятежников» солдаты дезертировали. И повсюду зрели заговоры старых аристократов, недовольных ситуацией.
Нельзя сказать, что центральные власти ничего не делали. Но молитвы и ритуалы – очень плохая помощь при стихийных бедствиях и дурном управлении. Не помогали даже столь действенные меры, как амнистии (благо преступников в такой обстановке не переводилось). Иногда богатых землевладельцев склоняли к благотворительности, широким жестом раздавая придворные ранги, на которые те в обычное время не посмели бы претендовать.
А императрица, которая была верна и конфуцианским канонам, не только молилась, но и брала ответственность за гнев Неба на себя.
Для любителей ловить рыбку в мутной воде (даже если таковые отказались от употребления рыбы на обед) пробил урочный час…
Слово предоставляется придворному 1-го ранга богу Хатиману
Хатиман более прочих синтоистских божеств мог считаться «посредником» между синто и буддизмом. Поэтому он, вероятно, и был выбран монахом-министром для приведения в исполнение грандиозных планов. Но чтобы бог высказал нужное требование, необходимо быть в хороших отношениях с ним… а что еще важнее, с его служителями.
В 769 г. по столице разнесся слух, что Хатиман, который в. то время вновь переселился в храм Уса, высказал свое пожелание: Докё должен стать императором. Это – условие мира и благоденствия для страны, давно уже не видевшей ни того, ни другого.
Слух подтвердился, но вот беда – императрица совсем не обрадовалась ни воле бога, ни предстоящему отречению. Видимо, в этот момент отношения государыни со своим министром дали некоторую, пусть и небольшую, но трещину. И вновь встал вопрос: а доказать? Нужны доказательства того, что божество, которое ныне поставлено на стражу буддийского учения, действительно явило именно такую волю…
Кстати, не надо забывать, что с предсказаниями Хатимана уже произошел однажды весьма неприятный случай, и память об этом не стерлась.
Как всегда в таких случаях, воля императрицы была подкреплена видением: она поняла, что помочь разрешить вопрос сможет один только человек – Киёмаро Вакэ которого и надлежало отправить на остров Кюсю, в святилище Уса. Докё, вероятно, счел поездку чиновника досадной, но недолгой задержкой – не более того. Ведь понятно, что только шаманы «варварских» племен вводят себя в транс, дабы пообщаться с божеством и выяснить его волю. А в данном случае все обстояло куда проще. Нужно только приветить и обогреть и самого Киёмаро, и весь род Вакэ. «Император учения» дал обещания прямым текстом. В нужном результате поездки сомнений у него не было. «Великий бог призывает посланника, дабы объявить ему о моем избрании на престол. В этом случае я дарую тебе ранг и должность».
И все время, пока шло неблизкое путешествие туда и обратно, кандидат во властители оказывал роду Вакэ всяческое внимание.
Тем удивительнее то, что произошло. Летопись приводит ответ оракула, с которым возвратился Киёмаро: «Со времени начала нашего государства и до наших дней определено, кому быть государем, а кому – подданным. И не случалось еще, чтобы подданный стал государем. Трон солнца небесного должен наследоваться императорским домом. Неправедный же да будет изгнан».
Пожалуй, из всего множества чудес, упомянутых в этой главе, последнее чудо – наибольшее. Столь честный чиновник явление куда более редкое, чем все белые фазаны, присланные во дворец из провинций.
Неясно, что подвигло Киёмаро Вакэ на сей немалый подвиг. Конечно, циник может сказать, что уже по дороге ему дали новые обещания, куда более привлекательные. Циник может даже указать на тех, кто имел и возможность, и желание это сделать на клан Фудзивара. Но мы-то не циники, дорогой читатель, мы привыкли думать о людях хорошо…
Даже если контр-обещания и были, их не выполнили. И вместо чиновничьей шапки Киёмаро Вакэ заработал ссылку. И совсем ничтожным утешением станет то, что его впоследствии сочли спасителем императорской династии, а уже в XX веке портрет Вакэ появился на банкноте в 10 иен. Это будет через тысячу с лишним лет, а жизнь в ссылке, видимо, оказалась не лучшей возможностью (представляя Докё, можно предположить, что он особо постарался на этот счет). Но, если всем должно сбыться по их вере, то, возможно, честный Вакэ заработал хорошие перерождения.
Как ни странно, оракул все же заблуждался – по крайней мере, на первых порах. Изгнали как раз добродетельного Киёмаро, а монах-министр остался в столице. И даже, как ни странно, сохранил за собой то, что уже получил. И при дворе он продолжал распоряжаться, и императрица его навещала.
Но все длилось недолго. Ненавистный монаху-министру клан Фудзивара потихоньку перетягивал власть на себя. А родичи, выписанные Докё для занятия чиновных должностей, видимо, не имели и десятой доли его способностей. Незадолго до смерти государыни (она так и не отреклась во второй раз) командование пятью столичными воинскими частями перешло к министрам правой и левой руки (Нагатэ Фудзивара и Мабито Киби соответственно). А новый император Конин все же исполнил волю бога Хатимана, пускай и с запозданием. Докё был изгнан из столицы и через непродолжительное время скончался в ссылке. Это случилось 770 г., и император настолько желал избавиться от любой памяти о временщике, что даже поменял девиз правления, не дожидаясь нового года (случай, невероятный для правителя).
Даже летописи, которые, как правило, нейтральны, высказывают недовольство правлением Сётоку (Кокэн) – прежде всего, из-за невероятных масштабов строительства храмов, разорившего страну. Зато Конин, ставленник синтоистских кланов, хотя и не собирался проводить против буддистов репрессий, все же был куда как более сдержан (за что и удостоился похвал).
Увы, пострадал не только правдолюбец Кисмори Вакэ. После правления Докё и бог Хатиман утратил былое влияние (по крайней мере, на время, поскольку бог войны бывает иногда очень полезным). Больше император не делал ему приношений.
Все же некоторые гонения на монахов случились. Государственная помощь храмам прекратилась, зато государственный контроль за монахами усилился (как ни парадоксально, последнего добивался и сам Докё). В 772 году случилось еще одно знамение – молния ударила в пагоду храма Сайдайдзи. Тут же было объявлено, что это произошло из-за проклятия ками из храма Оно, поскольку на его территории срубили дерево, пошедшее на строительство буддийского храма. Да и вообще стихийные бедствия стали частенько списывать на запоздалый гнев богов синто.
Так и завершилось это странное время в жизни Японии. Из буддийского теократического государства ничего не вышло. Об этом теперь могли мечтать монахи, но лишь в весьма образных легендах с потаенным смыслом. А вот двор и аристократия осознали кое-что иное: только синтоизм, его развитый культ и мощь, подкрепленная конфуцианской доктриной (по крайней мере, в удобной и полезной ее части) станет становым хребтом для страны. С тех нор прошли века, и это мнение подтвердилось на практике. Языческий культ сделался основой для реформ Мэйдзи, когда Японии пришлось догонять развитые страны мира. Он же был базой для японского варианта фашизма (который в нашей стране отчего-то предпочитали именовать «милитаризмом»). Когда же фашизм был разгромлен, синтоизм никуда не делся. Теперь это религия жизнеутверждения, которая придает силы японской нации для мирного труда и развития, достигшего огромных высот.
Ну, а что же буддизм? И он никуда не делся. Но следующие поколения аристократов четко выучили урок: монахи и власть две вещи несовместные.
Глава 15.
Литература эпохи Нара
…Я дам тебе почитать стихи, сочиненные тем вечером. Госпожа Сигейся велела своим дамам переписать их для всех гостей на хорошей бумаге. А одну копию подарила государю. Знаешь ли ты, что государь после этого изволил завтракать в покоях госпожи Сигейся, держа ее кошку за пазухой? И присвоил ей титул «мебу» – представляешь, кошке теперь оказывается такой же почет, как придворной даме пятого или даже четвертого ранга!
Д. Трускиновская, «Монах и кошка»
Поскольку период Нара – это не только время интриг и переворотов, но и эпоха составления выдающихся литературных памятников Японии, нужно подробнее остановиться на этом.
Что касается летописных сводов, «Кодзики» и «Нихон секи», то они просто обязаны были появиться. Дело в том, что это не самые ранние документы такого рода. Работа над сводом истории Японии началась гораздо раньше, еще в VII в. Кем? Ответ на этот вопрос можно уже предугадать, вспомнив людей и события того времени. Да, первую историческую хронику страны составил регент Умаядо, ученый-энциклопедист своего времени, намного его опередивший. И остается только пожалеть, что этот весьма интересный текст не дошел до нас. Он сгорел при пожаре. Судя по всему, там приводились сведения об императорской семье и наиболее влиятельных родах.
Но, пожалуй, не менее важна, чем летописные своды, первая антология японской поэзии, появившаяся в период Нара. Это сборник «Манъёсю» – «Собрание тысяч листьев» (но название можно перевести и как «Собрание тысяч поколений»).
Источник вдохновения на века
Естественно, до «Манъёсю» существовали японские стихи в устной традиции. «Правильное» стихосложение оказалось составной частью «китайской науки». В период Нара (в 751 г.) японцами была создана антология китайских стихов «Кафусо». Но первый самобытный литературный памятник на японском языке, не связанный напрямую ни с историческими хрониками, ни с религией – именно «Манъёсю».
Литература средневековья и в Японии, и в других странах – это дело горожан, притом – аристократии, избавленной от ежедневного изматывающего труда за кусок хлеба (или чашку риса).
Только эта небольшая прослойка способна создавать литературный произведения, видя в этом свое призвание. Как считает современный российский писатель и философ Ю.Л. Нестеренко, «книги, создававшиеся в те времена, писались интеллектуалами для интеллектуалов». Он справедливо замечает, что аристократическая «праздность» стала не менее важным фактором, чем избранность автора: он мог не заботиться ни о коммерческом успехе, ни о каких-либо иных способах заработка. Почти все, что мы считаем классикой, создано либо аристократами, либо теми, кто вел аристократический образ жизни. Японские поэты VIII века – не исключение.
Но нужно при этом иметь в виду – классика тем и хороша, что полного отрыва от народной традиции не происходило. В этом смысле сборник «Манъёсю» можно привести в качестве примера. В нем встречаются и записи народных песен, и обрядовая поэзия. А стихи, которые приписываются легендарным правителям глубокой древности, тоже можно причислить к народным. Но основной пласт стихов антологии – все же авторские произведения.
«Манъёсю» – огромный по объему сборник. В нем имеется около четырех с половиной тысяч произведений пятисот авторов.
Понять поэзию Японии и Дальнего Востока вообще европейцу чрезвычайно сложно. Даже запутанные исторические хроники или многоплановые философские трактаты могут показаться куда более ясными. Все дело в том, что нас привлекает звучание стихов, их форма, их смысловое и эмоциональное содержание. Но этим все и исчерпывается.
Для японца или китайца имеется еще одна важнейшая составляющая, напрочь отсутствующая для нас – красота начертания иероглифов, каллиграфия. Чтобы вникнуть в стили начертания, понять, насколько прекрасны эти символы, выведенные тушью, для европейца, даже любящего и стремящегося понять восточную культуру, может не хватить и целой жизни.
В любом случае, перевод с японского, сколь бы точным и хорошим он ни был – совершенно отдельное произведение, по факту лишенное очень важного слагаемого поэзии. Это слабая тень того, что было написано одним из авторов «Манъёсю».
Японский язык с весьма небогатой фонетикой оказался весьма подходящим для развития поэтического искусства. И как бы ни прививалась на островной почве континентальная «китайская наука», японская поэзия была просто обязана стать самобытной. Китайский язык – тональный; слова, совершенно одинаково звучащие для европейца или японца (при условии, что он напрочь лишен музыкального слуха), могут обозначать различные понятия в зависимости от интонации. Даже слова, заимствованные из китайского языка, искажаются на японском настолько, что китайцу просто невозможно понять их смысл. Ну, а какие невероятные превращения претерпели буддийские термины и имена, родившиеся в Индии и занесенные на архипелаг, мы уже видели. Одним из последствий «китайской науки» стало невероятное для европейских языков количество слов, сходных по звучанию, но различных но значению – омонимов, которые обозначаются различными иероглифами.
Могу повторить: изучение сложнейших иероглифов развивает интеллект и способность мозга работать с информацией. Поэтому совершенно неверна точка зрения Дж.Б. Сэнсома: «Эти звуки, немногочисленные и простые, очень подходили для того, чтобы передавать их с помощью алфавита, и, наверное, одна из трагедий ориенталистики заключается в том, что японский гений не дошел до этого изобретения тысячу лет назад. Когда видишь, какую воистину устрашающую систему развили японцы на протяжении столетий, когда смотришь на этот огромный и запутанный аппарат знаков для записи нескольких дюжин слогов, то невольно склоняешься к мысли, что западный алфавит и в самом деле является величайшим триумфом человеческого разума».
Может быть, последнее утверждение и ласкает наш европейский слух, но человек, считающий так, проглядел нечто очень важное и интересное.
«Манъёсю» нельзя считать только антологией VH-VIII вв. Вероятно, некоторые песни сложены значительно раньше. Они относятся не только к различным эпохам, но и к разным провинциям. Жанров тоже немало. Это «нагаута» («длинная песня», сюда относится то, что в западной традиции соответствовало и балладам, и одам, и элегиям), «танка» или «мидзикаута» («короткая песня», пятистишие). Танка популярны и поныне, и даже человек, мало интересующийся Востоком, наверняка припомнит, что видел их переводы или русскоязычные подражания. Надо сказать, что и при составлении «Манъёсю» они были наиболее распространены, во всяком случае, составили основу антологии. Есть и особый (и в сборнике представленный мало) жанр «сэдока» («песня гребцов» или «песня рыбаков»). Это шестистишие, как правило, обрядового или лирического содержания.
Все они построены на чередовании определенного количества слогов. В нагаута свободно чередуются пяти– и семисложные стихи.
В классических танка чередование числа слогов жестко: 5–7–5-7–7. Но в сборнике есть и иные построения танка.
Темы песен (а их все же следует называть так в традиции «Манъёсю») делятся, согласно работе А.Е. Глускиной, на три основные группы.
1) «Дзока» («кусагуса-но ута» – «разные песни»). Это стихотворения об охоте, пирах, разлуках, странствиях и встречах.
2) «Сомон» («аикикоэ-но ута» – «песни-переклнчки»). Это одна из наиболее древних форм японской поэзии, первоначально связанная с обрядовыми хороводами.
3) «Банка» («канасими-но ута» – «плачи»). Скорее, это песни печали или элегии.
Но имеются и другие стихи: и аллегории, и даже зачатки сатиры.
Вполне понятно, что использование слов-омонимов стало одним из литературных приемов. А рыбацкие или земледельческие реалии, которые поминаются в стихах, могут многое рассказать о жизни народа (хотя авторы – в основном аристократы).
Вполне естественно, что молодому (если исходить из реальной истории, а не из легенд) государству потребовались поэты, дабы воспеть богов и героев прошлого и правителей настоящего. Поэтому то, что европейцы называют одой, стало очень важным жанром для Японии. И все же основное место в «Манъёсю» уделено лирике.
А.Н. Мещеряков считает поэзию того времени, «псевдофольклором» определенного круга людей. Во-первых, любой слушатель в их среде был и автором. Во-вторых, творчество становилось персональным, но чаще всего мы встречаем импровизации, стихи, связанные с мимолетным настроением, а не сложенные заранее.
Основным составителем антологии «Манъёсю» считается Якамоти Отомо. В сборнике 479 его песен.
Как правило, Отомо служили государям в качестве воевод. Это могущественный и мощный аристократический клан. Впрочем, в VIII веке наибольшее влияние приобрел род Фудзивара. Но чума 737–738 гг. убила четырех наиболее влиятельных вельмож из Фудзивара. Болезни не щадили в то время ни аристократов, ни нищих. Вероятно, мор и привел к тому, что этот клан был временно потеснен, а в дальнейшем стало возможно правление временщика-монаха. История болезней по-' рой самым неожиданным образом влияет на историю политическую.
Поэтому министром левой руки был назначен Мороэ Татибана, а Якамоти, сделавшийся придворным государя Сёму, стал другом Нарамаро Татибаны – сына министра. Впрочем, и с отцом Нарамаро он был в хороших отношениях. Есть два стихотворения, посвященных зиме, которые сложены по высочайшему повелению Якамоти Отомо и Татибаной-старшим. Различаются они резко. Вот что написано Якамоти:
О, сколько ни смотрю на белый снег,
Летящий с неба так, что все сверкает
Снаружи и внутри великого дворца,
О, сколько ни гляжу и ни любуюсь—
Я мог бы любоваться без конца…
№ 3926; перевод А.Е.Глускиной
Это написано юным поэтом. У вельможи иное восприятие и природы, и романтики:
Когда бы до седин таких же белых.
Как этот белый снег,
Я мог служить
У государыни моей великой,
Какой я был бы гордый человек!
№ 5922; перевод А.Е. Глускиной
Здесь сразу виден государственный подход.
Увы, в ранней поэзии Японии тематика весьма бедна. Природа, разлука, дружба, прославление владыки… Но ведь в VIII веке, как мы уже знаем, происходили бурные политические события. И где же они в «Манъёсю»? их нет или почти что нет.
Вот характерный пример. В связи с мятежом Хироцугу Фудзивары императору Сёму пришлось ехать в провинцию Исэ. В свиту вошел и Якамоти Отомо. Но его стихи, посвященные этой поездке, ни словом не упоминают о каком-то мятеже. Зато мы узнаем, что он пребывает в тоске. Видимо, тогда считалось, что политика и интриги – это проза жизни, а искусство не должно с ними соприкасаться.
Вот хижина
Среди полей Кавагути.
О, эти ночи,
Когда тоскую
По любимой.
№ 1029; перевод А.Н. Мещерякова
Именно разлука и печаль чаще всего проявляются в лирике «Манъёсю». Из китайской поэзии заимствована легенда о Пастухе и Ткачихе, разделенных Небесной Рекой (мы называем эти звезды иначе, это Вега и Альтаир, а Небесная Река – Млечный Путь). Отдал поэтическую дань этому сюжету и Якамоти Отомо.
У Реки Небес,
На разных берегах,
Мы стоим исполнены тоски…
О, хотя бы слово передать
До того, пока приду к тебе!
№ 2011; перевод А.Е. Глускиной
Есть у него и стихи, посвященные одиночеству:
Жаворонки поют
Возле жаркого солнца.
Весна…
А я один —
И оттого печален.
№ 4293; перевод А.Н. Мещерякова
«В «Манъёсю» уже вполне различимо проглядывает ощущение жизни не столько как встречи, сколько как прощания. И мотив разлуки расстоянием начинает органично переходить в мотив непрочности мира: если жизнь есть движение, расставания с миром не избежать», – отмечает А.Н. Мещеряков. Нужно сказать, что такое отношение в дальнейшем лишь обогащалось и усиливалось, хотя между нынешним японским искусством и первой стихотворной антологией лежит пропасть более чем в тысячелетие. Вряд ли стоит удивляться, что чистый «хэппи-энд» в современных японских фильмах почти не встречается, а если он и есть – то это лишь заимствование из «голливудской науки».
Якамоти Отомо пришлось совершить немало поездок, так что материала для стихов оказалось много:
В дальней, как небесный свод,
В стороне глухой велел
Управлять страною мне
Наш великий государь.
И, приказу покорясь,
Сразу тронулся я в путь.
№ 3957; перевод А.Е Глускиной
Конечно, дальняя периферия Японии – это не совсем то место, где на средневековых европейских картах оставалось белое пятно, украшенное надписью: «Здесь могут водиться тигры». Но образ опасной и неизвестной страны присутствует в поэзии чиновников, вынужденных путешествовать. Возможно, к этому имелись серьезные основания (например, в виде незамиренных кланов айнов).
Но воля государя есть нечто священное и обсуждению не подлежащее. Поэт-вольнодумец, почти что анархист – существо, невозможное в тогдашней Японии (да и в Европе это явление появилось куда позднее), нам могут показаться омерзительными строки другого поэта, Хнтомаро. Но это – от нашего невежества. Автор был вполне искренним и высказывал то, что лежало на душе:
Мирно правящий страной
Наш великий государь,
Ты, что озаряешь высь,
Солнца лучезарный сын!
Режут свежую траву
Здесь, в Каридзи, на полях,
И, коней построив в ряд,
На охоту едешь ты.
А олени, чтя тебя,
Пред тобой простерлись ниц,
Даже птицы удзура
Ползают у ног твоих,
Словно те олени, мы,
Чтя тебя, простерлись ниц.
Словно птицы удзура,
Ползаем у ног твоих.
№ 239; перевод А.Е. Глускиной
Стихотворение (или перевод) все же порождает странную мысль: а нет ли в нем некоей злой оговорки, не сравниваются ли подданные императора с животными – жертвами охоты? Но это – вряд ли. Конечно, подобные идеи могут прийти в голову только человеку нынешней эпохи…
Стихи Якамоти – это своеобразный лирический дневник, повествующий о поездке, страданиях в одиночестве, болезни (которая, к счастью, вскоре миновала), природе той «страны», куда его направили по долгу службы.
О, средь распростертых гор
Из лощины вдалеке
Показавшаяся нам
Туча белая, спеши.
Поднимись, покинь дворец
Властелина вод морских,
Затяни небесный свод,
Ниспошли на землю дождь!
№ 4122; перевод А.Е. Глускиной
В этих энергичных строках отчетливо слышны отголоски древних культов, связанных с заклинанием стихий и магией сплетенных слов.
Гражданский человек Якамоти Отомо не забыл и о том, что его род связан с воинской славой.
О почтенный мой отец,
Мой отец родной!
О почтеннейшая мать,
Матушка моя!
Не такой я буду сын,
Чтоб лелеяли меня,
Отдавая душу мне,
Без ума меня любя.
Разве воин может так
Понапрасну в мире жить?
Должен ясеневый лук
Он поднять и натянуть,
Должен стрелы в руки взять
И послать их далеко,
Должен славный бранный меч
Привязать себе к бедру,
И средь распростертых гор
Через множество хребтов
Должен смело он шагать
И полученный приказ
Выполнять любой ценой,
Должен славы он достичь
Так, чтоб шла о нем молва
Без конца из века в век…
№ 4164; перевод А.Е. Глускиной
В этих стихах, кроме всего прочего, присутствует отголосок конфуцианского стиля жизни.
В 751 г. Якамоти вновь оказался в столице, где служил чиновником военного ведомства под началом своего друга Нарамаро Татибаны. Но еще через шесть лет скончался министр Мороз Татибана (есть мнение, что по просьбе министра и составлялась антология «Манъёсю»). Смерть покровителя и возвращение оправившегося после потерь рода Фудзивара все же повлияли на поэтическое творчество Якамоти, написавшего стихотворное предостережение родичам, участвующим в мятежах. Но череды событий было не остановить.