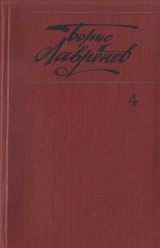
Текст книги "Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 46 страниц)
Выскочив на кнехт у башни, Глеб через головы сбившихся у борта матросов смотрел на гавань.
За брекватером, на далеком тонком стебле фок-мачты «Керчи», расцвели, колеблемые бризом, цветные флажки. Они трепетали в воздухе яркими; лепестками. Спустя мгновение сигнал был отрепетован всеми судами в гавани. Точно по мановению волшебной палочки, в бухте расцвел сказочный сад.
– Какой сигнал?
– Что вы там копаетесь, матери вашей черт?
– Сигнальщики!.. Клячи водовозные!..
На мостик неслись поторапливающие крики, требующие расшифровки сигнала. Что говорят этим молчаливым языком флагов оставшиеся в порту вчерашние братья и боевые товарищи – сегодня непримиримые враги? Последний ли это привет обрекших себя на гибель или угроза?
На стеньгу «Воли» медленно пополз – «ясно вижу». Задержался на половине высоты, потом быстро взлетел до места…
– Ну что?
– Да говорите же, сволочи!
Над парусиновой обшивкой мостика показалось лицо сигнальщика. Он был бледен и широко раскрывал рот, как будто глотая воздух.
По палубе прошла дрожь. Наступила тишина.
– Братцы… товарищи!.. – От надламывающегося необыкновенного голоса сигнальщика по толпе пробежал холодок. – Дожили до сраму…
– Да говори толком, гад! – сорвался кто-то истерически.
– Для нас, товарищи, сигнал подняли новороссийские… – сигнальщик смолк, втянул в грудь воздух и, точно ножом по толпе, дернул: – «Позор изменникам России»… Мы это, значит…
Еще глуше и придавленней стала тишина. Сотни глаз не отрываясь ловили трепетание флагов вдали.
К командирскому люку прорысил подавленный вахтенный начальник.
Матросы перекинулись туда, обступив люк, выжидая.
Из комингса люка показалась голова Тихменева, вобранная в плечи. По выхоленным щекам проступили красные пятна. Вахтенный начальник подымался рядом о ним, держа руку у козырька, с виноватым выражением.
Выйдя на палубу, Тихменев еще больше вобрал голову в плечи и, весь сбычившись, исподлобья впился взглядом в сигнал.
– Прикажете отвечать? – изгибаясь в почтительности, спросил вахтенный.
– Не отвечать! – обрубил Тихменев. – Сволочи!
Он круто обернулся к Авилову и Вахрамееву, вышедшим за ним.
– Вы видите, господин комиссар… – Тихменев трагически завибрировал голосом. – После двадцати пяти лет честной службы родному флоту я заслужил на старости звание изменника от мальчишки и демагога.
– О честности бросим говорить, – огрызнулся, бледнея, Вахрамеев. – Я в последний раз спрашиваю – согласны вы выполнить приказ Совнаркома или нет? Если вы уведете корабли в Севастополь – мы объявим вас вне закона.
Тихменев отступил и, выпрямившись, оглядел Вахрамеева с ног до головы. Он долго терпел на берегу этого человека, представителя той власти, которой Тихменев должен был временно подчиняться с вежливой улыбкой и дикой злобой внутри потому, что неподчинение грозило ему, Тихменеву, капитану первого ранга императорского флота, другу адмирала Саблина, привыкшему в течение ряда лет к безраздельной власти над кораблем и тысячами людей, смертью на штыках этих людей, если бы они хоть на одно мгновение заподозрили Тихменева во вражде к революции.
И, подчиняясь внезапно выступившей из берегов лаве, он, Тихменев, кропотливо, сторожко, хитро притягивая к себе единомышленников, слабовольных, темных, затравленных каторгой царской службы, которых не могли просветить даже бури и молнии восстания. Ход удался – здесь на дредноуте его окружала преданность.
И можно было взять реванш у этого назойливого выскочки из матросов, тех самых матросов, которые еще год назад каменели, как статуи, при появлении на палубе командира.
Довольная, едва заметная усмешка прошла под усами каперанга.
– Вас ждет катер, господин комиссар. Время митингов прошло. Команда больше не верит красивым словам. Думаю, что при враждебном настроении матросов вам лучше съехать, не задерживаясь. В случае эксцессов я не ручаюсь, что смогу отстоять вас, да по правде, и не имею особого желания делать это.
Глаза сверкнули по-волчьи, голова опять ушла в плечи. Удар нанесен.
Вахрамеев оглянулся по сторонам. Он искал в гуще обступивших матросов дружеское лицо, тень доверия в чьих-нибудь глазах. Но кругом, как безликие блины, надвигались усатые, раскормленные, тупые фельдфебельские и боцманские морды, пестрым узором рябили нашивки сверхсрочных.
И сзади из-за спин гадючьим шипом прошелестело!
– Спустить эту комиссаровскую сволочь с трапа.
Вахрамеев вздохнул и опустил голову. Тихменев искоса, с нескрываемым торжеством наблюдал унижение комиссара.
Авилов дотронулся до плеча Вахрамеева.
– Идем… Здесь больше нечего делать.
Матросы молча расступились. Авилов сказал флагману:
– Мы больше не увидимся, господин капитан. Но люди вашего типа верят в историю. Что бы ни произошло – страна останется страной и история историей. А история платит за такие поступки презрением поколений и ставит клеймо на имени. Подумайте хоть об этом.
Он повернулся и пошел к трапу. Упоминание об истории было уместно. Капитан первого ранга не мог не бояться истории. Заметно смутясь, Тихменев догнал Авилова. Сменив великолепную плавность жеста на угловатую нервность, он с трудом выговорил:
– Я подчиняюсь желанию команды… Но я согласен на последнюю уступку. Я откладываю поход до двенадцати ночи. Если к этому моменту команда не изменит решения – я ухожу. Я связан сроком ультиматума.
Зрачки флагмана тревожно и воровато заметались. Он ждал ответа, но Авилов молча пошел вниз. На половине трапа Глеб, спускаясь за Авиловым, посмотрел вверх. На выступе борта он увидел фон Дена. Лошадиная челюсть лейтенанта сдвинулась набок, перекашивая лицо смертельной ненавистью и злорадством.
Катер отвалил. Ни одного возгласа с корабля не раздалось вслед, ни одна рука не взметнулась прощальным жестом. Когда после поворота к гавани Глеб оглянулся на дредноут, ему показалось, что на застывшей мертвой громаде неподвижно стоят для издевки расставленные трупы.
* * *
Катер доставил комиссию Совнаркома к зданию таможни, откуда до вокзала можно было в пять минут дойти пешком. На берегу Глеб спросил Авилова:
– Я вам не нужен сейчас?
– А что?
– Разрешите пройти в город, а потом я хотел навестить товарищей.
Получив разрешение, Глеб отправился вдоль набережной. Ему предстояло сделать большой круг от таможни до того места гавани, где стояли миноносцы. И, проходя этим путем, Глеб отметил в городе и порту повое, тревожное, неожиданное. Пустынный раньше, порт сейчас кишел народом так же, как и брекватер. Непонятно было даже, откуда в Новороссийске столько населения. Но, приглядываясь к толпе, Глеб увидел крестьянские свитки, платки баб, лампасы на шароварах и понял, что, кроме коренных новороссийцев, в город нахлынуло население окрестных деревень, хуторов и станиц. Причина этого наплыва людей в начинающий уже голодать город показалась ему непонятной.
Настроение толпы было возбужденное. Люди, собираясь кучками, говорили вполголоса, оглядываясь. Несколько раз Глеб замечал, что при его приближении говор смолкал. Людей, видимо, пугал китель флотского офицера. В толпе сновали оборванцы с корзинами и мешками; многие были пьяны.
Случайно долетевшие до слуха Глеба слова раскрыли ему причину скопления обывателей. Две бабы говорили о том, что завтра потопят флот, а на судах остается много ценного имущества и металла и что нужно убедить матросов раздать все это населению. Если матросы откажутся, нужно взять силой.
– Бо матросов вже тылько сот пьять осталось, а люду громада. Як навалыться, то матросы не одужают, – убеждала баба соседку.
В отдельных уголках гавани, на бухтах канатов, на ящиках и бочках – везде, где можно было найти какое-нибудь возвышение, истекали криком ораторы. Глеб уже привык к этому. С момента прихода эскадры из Севастополя город обратился в сплошной митинг. Каждый день, с зари до зари, сторонники многих ориентаций и партий, надрывая глотки, до упаду митинговали – одни за потопление, другие против потопления. На этой почве не раз возникали драки и поножовщина. Но сейчас, в эти последние часы флота, митингование достигло апогея.
Ораторы истерически кричали, выкатывая глаза, в углах ртов у них стояла пена, как у кликуш.
Заворачивая к пристани РОПИТа, Глеб увидел на нефтяной бочке человека в примечательном наряде. На нем была форменная фуражка, с черно-оранжевой ленточкой «Синопа», но из-под нее, завиваясь спиралью вокруг уха, свисал украинский чуб-оселедец. Под белой форменкой вместо флотских брюк были надеты широченные синего плиса запорожские шаровары, заправленные в низкие лакированные сапожки.
Кисти широкого вязаного красного пояса бились по ляжкам от неистовой жестикуляции человека. Разевая рот, как пасть, он рычал по-украински:
– Браты! Новороссияне!.. Ось слухайте зараз, що я вам кажу, як вирный сын нашой золотой неньки-Украины. Кляти бильшовики зруйновалы и знищили нашу силу, нашу гордисть, наш хлот. Навищо воны зруйновалы його мицнисть! На те, браты новороссияне, що воны хотять зруйнуваты и нашу неньку-Украину и катуваты ии и наперед, як катувалы российски цари… Поперек горла устав им вильный хлот украинской народной республики. За те й хотять вони втопыти корабли на сором нашой чести, щоб не мала Украина морской силы, щоб ничим було нам заборониты нашу землю вид кацапского тиранства та обжорства. Бо хто таки тыи бильшовики, як не вороги самостийной Украины? Бо хто нагнав на наши поля разбийны банды красногвардейцев, як не той наиглавнийший бильшовик Ленин? Хто продав ридну кровь жидам? Хто погнав братив на братив? Ленин… Е ще лыцари на Украини. Найвирниший з них, капитан Тихменев, що попружився поперек бильшовицкой зрады и веде хлот у Севастопиль, вернуты его украинской державе. И мы тому мусим допомогти и знищиты бильшовицких агентов з их пидтыкачем лейтенантом Кукелем… Бийти бильшовикив, браты!..
Оратор дошел до исступления. На каждом слове он бил себя в грудь кулаком. Грудь глухо гудела, как палуба под бегущими во время аврала матросскими ногами. Толпа накалялась, угрожающе ворошилась.
Глеб, оцепенев, слушал украинца. Для него было ясно, что это переодетый белогвардеец, может быть, даже подосланный немцами провокатор. Но, пока Глеб соображал, что предпринять, сзади него раздался голос, каждое слово которого было слышно сквозь гул человеческого месива. Глеба поразило именно то, что голос, спокойный и неповышенный, почти тихий, – был так явственен.
– Эй ты, скаженный, – произнес этот голос, обращаясь к украинцу, – чего палубу проламываешь кулаками? Побереги – пригодится вильгельмовы медали нацепить. А то пробьешь насквозь – иконостас в дырку провалится.
Глеб искал в толпе говорящего и наконец за сплошной икрой голов увидел его. Тогда он понял, почему голос показался знакомым. Говорил Думеко. Он стоял, вытянув шею, вглядываясь в украинца поверх толпы, щурясь, и в прищуре была насмешка и угроза.
Украинец осекся, как вздернутый уздой конь, и, не понимая еще, уставился налитыми кровью глазами на Думеко.
– И до чего ж ты занятно одет, братику, – продолжал Думеко с недоброй ухмылкой, начиная протискиваться к бочке. Делал он это необыкновенно легко и отчетливо. Круглый плавный разворот локтей вправо, влево, и тело проскальзывало вперед в открывающеюся щель. Глеб, не окликая Думеко, не желая выдать своего присутствия, с любопытством следил за ним.
– Ай-ай, гарный украинец! – уже стоя у самой бочки, спокойно издевался Думеко, задрав подбородок к смятенному оратору. – А дай-ка, добродию, пощупать, из якого бархату у тебя штаны?
Внезапным рывком рука Думеко ухватила украинца за мотню шаровар и дернула. Над толпой мелькнули подметки лакированных сапожек, и оратор обрушился на головы слушателей. Думеко одним прыжком очутился на бочке.
Встреченный взбешенным воем, вскинутыми кулаками, он выпрямился во весь рост, чуть шире расставил ноги. На открытой шее напружилась жила, наливая кровью дерзко поднятую голову. Так он стоял секунду – изваянный, неподвижный, вросший в бочку, и била из него такая огненная сила, что Глеб задохнулся восторгом.
Потом Думеко, сведя все лицо, дико забубенно усмехнулся.
– Г-гааа!
Нежданный крик был так пронзителен и оглушающ, что передние ряды попятились и сразу стихли.
Думеко опять усмехнулся, выждал паузу.
– Вы, граждане-товарищи, не надрывайте селезенку, – со спокойной, почти ласковой интимностью сказал он, – бо меня не перекричите. Мне в жизни такой голос даден, что от него протодьяконы на задние ноги садятся. Потому давайте разговаривать по-тихому, по-хорошему… Вот, значит, обсудим по порядку этого самого лыцаря «вильной украинской державы». Сдается мне, что ежели залезть в мотню тому лыцарю, где он гроши прячет, то можно нащупать там вильгельмовы марки и прочие сребреники… Где тут лыцарь?
Никто не отозвался.
– Утек лыцарь, – с сожалением продолжал Думеко, – ну и добрая дороженька… А что касаемо флота, то фига, товарищи, – он принадлежит той самой Украине. Отняли мы его этими вот руками у царя и офицерья, братишки, для трудового пролетариата, для нашей революции, для ее защиты. Но раз не удается нам пронести на тех кораблях наше славное красное знамя до всей мировой бедноты, то мы лучше флот своими руками потопим, чем сдадим такой широкоштанной кулацкой сволочи и немецким генералам, чтоб нас из наших же пушек глушили. И того уже хватит, что добрую половину силы уводят в немецкие лапы. И кто же уводит? «Найвирниший слуга Украины», его высокоблагородие капитан Тихменев, которому не терпится до матросских морд снова дорваться. Хоть его паны украинцы пусть в Тихмененко для красоты переиначат, а для нас он худшая погонная сука и предатель. Но пускай уходит, не нам – всему трудящемуся люду, всей земле ответит за свое черное дело до последнего колена. А эти наши корабли мы потопим по приказу Советской власти, и крышка. А кто против того пикнет, тому я самолично в любой час башку на ж… заворочу… Да здравствует, братишки, всемирная революция!.. Урра!..
Брошенный горячий крик всколыхнул и эту разношерстную массу. Кричали «ура», хохотали, свистели портовые босяки, степенные кубанцы и раскормленные казачки, городские обыватели.
Глеб ждал чего угодно, только не этого внезапного сочувствия. Он смотрел на Думеко, как дети смотрят на волшебника, вынимающего из носа живого щегла.
Вот она, эта радующая и притягивающая сила, сила, которая позволяет не плестись в хвосте событий, а вставать на гребень волны и управлять изменчивыми ветрами человеческих душ. Разве мог кто-нибудь, кроме Думеко, проделать такую штуку в этой озверелой, накаленной взаимной ненавистью толпе?
Другого бы растерзали в клочья, а вот Думеко стоит на бочке невредимый, лихой, смеется и пожимает те самые руки, которые секунду назад тянулись к нему с угрозой и сжимали в карманах ножи и гири.
Глеб боялся, что Думеко заметит его. Ему не хотелось этого. Не хотелось обнаруживать свою неумелость и беспомощность в человеческом водовороте. Ведь он, как и Думеко, видел и слышал украинца, но ничего не осмелился предпринять. «Неужели струсил? – Глеб почувствовал, как кровь подымается к лицу. – Нет, не струсил… просто не умею. И чужой им в кителе… все-таки офицер…»
Глеб втерся в толпу, замешался в ней и пошел к пристани.
У свай качалась пустая двойка с одним веслом. Глеб спустился и, отвязав конец, юля веслом, погреб к «Шестакову».
В кают-компании была голубая темнота сумерек. За столом одиноко сидел человек. Тускло поблескивал фарфор чайника и чашек.
– Кто? – спросил человек, и по голосу Глеб узнал Лавриненко.
– Глеб Николаич?.. Садись, чайку попьем, – пригласил Лавриненко, в свою очередь узнав Глеба. – Я один остался. Анненский с Допишем на «Керчи» – там совещание по поводу завтрашнего… Клади сахар, не жалей, все равно девать некуда… А я соснул малость, хочу чаем накачаться и тоже туда двину. А ты откуда?
Глеб, отвалившись в мягкую кожу кресла, с удовольствием вытянул уставшие ноги и за чаем рассказал комиссару «Шестакова» события дня.
– Я, ей-богу, влюблен в Думеко, как гимназистка… Только подумать! Ведь какой риск… Молодец!
Лавриненко, склонив голову набок, деловито позвякивал ложечкой о чашку, мешая чай. Вдруг отставил чашку и, облокотившись на локти, придвинулся вплотную к мичману.
– Хороший ты парень, Глеб Николаич, свой парень, и положиться на тебя можно вполне, да только силен в тебе еще офицерский заквас… Вот он тебе и мешает…
– Как? – с обиженным недоумением спросил Глеб.
– Ты погоди, не обижайся. Я тебе по-дружески говорю. Ты вот Думекой восхищаешься, готов стихи про него писать. А правильно? Нет – неправильно. Ничего не скажу – лихой хлопец, но анархист, индивидуал, перекати-поле…
– Но он предан революции, – возразил Глеб.
– Эх, Глеб Николаич!.. Этого мало… Нужно не только быть преданным революции, но и уметь подчиняться ей. Это потруднее, по и нужнее. «Один в поле не воин». Хорошая поговорка. Мне как-то в голову пришло, что наш большевистский лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», может, из этой пословицы вырос. В одиночку только Бова-королевич в сказках сто тысяч бусурманов бил. В жизни так не бывает. А раз уж действуешь с кем-нибудь плечом к плечу – ты в своих поступках волен до той поры, пока от них твоему соседу вреда не будет… Думеко же об этом не думает. Хотя бы это дело. Допустим, вышло. А могло бы не выйти. Нашелся бы в толпе один характером подерзче, вроде самого Думеко, хлопнул бы из револьверчика – и ваших нет… А сам знаешь, какое настроение в городе. Стоит кровь увидеть, чтоб началось всеобщее избиение… Хорошо бы вышло?
– Плохо, – решительно сказал Глеб.
– Вот то-то и есть. Сейчас ни одного шага нельзя делать на свою ответственность, по своему хотению, потому что за твоей спиной стоят товарищи и на них надо оглядываться. В революции личное геройство – пшик… а иногда и оборачивается предательством. Пусть по недомыслию, а все же предательством… Ты, верно, думал: «Какой Думеко храбрый и какой я несчастный», а на практике ты поступил разумней. Мало ли всякой сволочи на берегу языками треплет – всех не переслушаешь, всех не перекричишь, а раздражать массу, когда в ней все ходуном ходит, – глупо. Ведь сложные дела пошли – мы с тобой в них путаемся, а толпа эта? Грамоте ее, что ли, царь учил? Нагайками да тюрьмами последние мозги выбивали. Они в таком переплете путаются, как слепые щенки. И не лихим гамузом их брать надо, а исподволь напрочно, объяснить, втолковать, овладеть… А Думеки только с панталыку сбивают лихостью… А тебе нравится. Так вас встарь учили: «Атакуй врага в лоб». Дешевая, друг, это наука. Иногда, прежде чем атаковать, полезно пятки показать… Во всей царской России один только и был генерал, который большевистскую тактику понимал, – Кутузов. Зато и Наполеона угробил… Вот покрутишься, поваришься в нашем котле, перемелешься – и ясно тебе будет. И не ворочай назад, Глеб Николаевич, как брату говорю. Не свернешь, пойдешь с нами дальше, врастешь в нас – поймешь эту мудрость. Пойдешь, Глеб Николаич?
Лавриненко протянул руку и положил ее на плечо Глеба.
– Мой путь выбран, – тихо ответил Глеб.
– Ну, ладно. Поедем на «Керчь».
* * *
На «Керчи» в кают-компании было полно народу. Анненский, Депиш, Алексеев, Подвысоцкий, комиссары «Баранова» и «Стремительного», судком «Керчи» сидели вокруг стола. С командирского конца мягко светились глаза Кукеля.
Глеба поразила четкая налаженность миноносца. Вахта неслась, как в мирное время, все были на местах, в кают-компании – обычный уют и теплота.
Когда Глеб с Лавриненко входили в кают-компанию, Анненский спрашивал Кукеля:
– Сколько людей оставлять на миноносцах, Владимир Андреевич, для непосредственного выполнения потопления и подрыва?
Этот вопрос, вопрос о смерти кораблей, звучал нелепо и неправдоподобно в ярко освещенной кают-компании корабля, который завтра должен был пойти на дно. Глебу на мгновение показалось, что вся трагедия этих дней только сон: стоит сделать усилие, проснуться – и все развеется.
Но спокойный ответ Кукеля уверил его, что все происходит наяву.
– Сколько? Трое на открытие иллюминаторов и кингстонов, один на шнур, один для общего наблюдения. Четыре-пять человек.
Голос был холодный и отчетливый, но Глеб видел, как у Кукеля задрожали веки и пальцы быстрей закатали по скатерти хлебный шарик.
В коридоре кают зазвучали быстрые шаги, и в кают-компанию вошел комиссар «Гаджибея». Поздоровавшись, он обратился к Алексееву:
– Слышь, командир! Я не хотел приезжать – нужно было на миноносце за порядком поглядеть, поговорить с командой, да такие дела начались, что решил тебя упредить. Как стемнело, пошли вокруг миноносца шаланды разные. Вертятся, зазывают братву на водку, бутылки показывают, к борту пристают, как ни гоняем. Так вот: оставайся ты лучше здесь ночевать, – неровен час, ночью ворвется какая-нибудь банда. Ухлопают за милую душу, и не схватишься.
– Конечно, не ездите, Алексеев, – предложил Купель. – У нас места много. Переночуете спокойно, а завтра утром переберетесь.
Алексеев поднялся, неторопливо оправил китель.
– Спасибо, товарищи, за внимание, – надломленно сказал он, – но последнюю ночь жизни моего родного миноносца я проведу на нем. Я ничего не боюсь. Если меня убьют – потопить «Гаджибей» вы сможете и без меня. Спокойной ночи.
Все молчали. Всем было ясно, что на месте Алексеева так же поступил бы каждый из них. Покинуть свой корабль было бесчестьем для моряка.
Молчаливо попрощались.
На палубе у трапа Кукель спросил Глеба:
– Вы куда, Алябьев?
– В поезд, Владимир Андреевич… Служба.
– Счастливого пути! Хотя мне кажется, что ни вы не нужны в этом поезде, ни поезд никому не нужен. Мы думали, что представители Совнаркома сумеют проявить большую твердость и способность воздействовать на психику масс, чем это оказалось на деле. Персональный выбор оказался неудачным.
– Прошляпили, Владимир Андреевич… До свиданья.
Глеб стиснул насколько мог крепко худые пальцы командира «Керчи» и внезапно, охваченный неудержимым желанием сказать этому человеку то, что думал о нем он, Глеб, приблизившись вплотную, прошептал, сбиваясь:
– Не сердитесь, Владимир Андреевич… Я хотел вам сказать… ах, не то… если бы вы знали, как я вас уважаю… Вы – исключительный человек!
Сухое лицо Кукеля озарилось мягкой усмешкой.
– Спасибо, Алябьев… Но я такой же, как все остальные… У меня два долга – долг чести солдата и долг перед революцией. Их требования совпали, и я исполняю их. Прощайте!
Глеб торопливо прыгнул в катер, боясь, что прорвутся ненужные слезы. Приехав на «Шестакова», он отвязал свою бесхозяйную двойку и, отказавшись от предложения доставить его к таможне на катере, уплыл в темноту.
Изо всех сил налегая на весла, он юлил, не ослабляя темпа, пока не вогнал двойку с разгона на береговую отмель.
Бросив ее на произвол судьбы, Глеб выкарабкался на набережную.
Идти сразу в поезд, в суконную духоту купе, не хотелось. Глеб прошел мимо пристаней и поднялся в гору, по направлению к цементному заводу, свернул в какой-то переулочек. Переулочек кончался тупиком, упираясь в зеленую деревянную ограду сада. Из-под густых деревьев пряно и сладко пахло цветами.
Не задумываясь, Глеб взялся за рейки ограды и перемахнул ее широким прыжком, прямо в сладкий мрак под деревом. Комья сухой земли зашуршали под его ногами, взметнув сухую, горько пахнущую пыль.
Легкая тень с криком метнулась от Глеба.
– Стойте, – сказал Глеб, поняв, что напугал кого-то, – не бойтесь. Я не преступник.
Тень остановилась и медленно придвинулась к нему. В темноте Глеб увидел женский силуэт. Он не мог различить ни лица, ни фигуры. Только чуть поблескивали настороженные белки глаз.
– А хто вы такой будете? – спросила женщина грудным теплым голосом.
– Я флотский… Мичман, – пробормотал Глеб, чувствуя всю нелепость своих слов, никак не объяснявших неожиданного ночного вторжения в чужой сад.
– Мычман? – протянула женщина успокоенней. – Чего ж вы, как ведмедь, по чужим садам скакаете?
– Так хорошо пахли цветы… впрочем… ну, я сам не знаю, как это вышло.
Женщина совсем приблизилась и засмеялась царапающим смешком.
– От-то чудной… На квиточки летит, як бжола. Ну, будьте гостем, сидайте.
Глеб почувствовал, как сухая крепкая рука твердо взяла его руку и потянула в мрак под деревом. Глеб различил смутные очертания скамейки и сел рядом с хозяйкой сада.
Женщина помолчала, потом сказала недоуменно ласково:
– Сидю, на звездочки глядю, думку думаю, и на тебе… И откуда такой взявся, билый, як лебеденок? Чого бродите? Сумно, чи що?
– Душно, – не думая, ответил Глеб и прибавил: – Завтра мы топим свои корабли. Это все равно, что убить свою любовь… Впрочем, вам это неинтересно.
Женщина подняла руку, звякнув чем-то, – вероятно, браслетом.
– Чому неинтересно… Я все понимаю. Видные вы, бесприютные!
В голосе ее было столько певучести, тепла, нежности, что он стал почти ощутимой физически лаской для Глеба. Он, вздохнув, склонил голову и коснулся лбом плеча женщины. Тогда она взяла его ладонями за щеки и осторожно, точно боясь уронить, склонила голову Глеба к себе на колени.
– Отдохни, хлопец!.. Много еще придется тебе сиротой по свиту блукать. От и мой такой же дурный, немирный.
Пахнущие травой твердые ее пальцы ласково гладили Глеба по щекам и лбу.
Глеб не знал – молода ли или стара эта женщина, красива или безобразна. Но от нее шло такое бодрящее веяние нежности, что он не шевелился, боясь движением спугнуть этот поток почти материнской ласки, лившийся из ее рук.
Между густой листвой дерева мерцали тусклые огоньки судов в бухте и на рейде. Не шевелясь, Глеб смотрел на них, погружаясь в сказочное оцепенение. Ему хотелось, чтобы эта странная нега длилась без конца.
Но внезапно он увидел высоко вспыхнувший яркий огонь, мигающий неровными проблесками. Он стряхнул с себя очарование и вскочил.
– Чого? – шепотом, встревоженно спросила женщина.
– Молчите… Видите? – также шепотом ответил Глеб, вытягивая шею.
«Воля» на рейде морзила клотиком… Черточка за черточкой, точка за точкой, напрягая все внимание, Глеб читал и прочел отмерцавший сигнал:
«Судам, идущим в Севастополь, – сниматься с якоря».
Он отшатнулся. «Значит, все кончено? Значит, сейчас оторвутся от грунта якоря, забурлит, заклокочет вода под тугим напором винтов и стоящие за брекватером уйдут, канут в черную мглу, на вечный позор?»
Ветер донес до ушей Глеба свистки, шип лебедок, грохот якорных канатов, крики. Глеб беспомощно оглянулся… О, если бы здесь, за садом, на взгорье, стояли крепостные орудия! Кинуться к ним, вызвать комендоров, сжав челюсти в непередаваемой злобе дать установку прицела и целика и, ненавидя – ненавидя всем сердцем, всем существом их, изменивших стране и революции, скомандовать:
– Залп!.. Залп!.. Залп!..
Чтобы за подавляющим ревом залпов, за гулом снарядов вот там, в лунном мареве, брызнули золотые огни разрывов, чтобы, с грохотом раздирая и комкая тяжелую Сталь, взорвались снарядные погреба, запылали пожары и опозорившие себя корабли, кренясь и оседая во взбудораженную волну, в облаках пара, пошли на дно.
Но вокруг не было ни одной трехдюймовки, и Глеб знал это. Дрожа от нервного озноба, он стоял и беспомощно смотрел, смотрел, смотрел.
Он видел, как, вздыбив к небу чудовищный смерч дыма, медленно тронулась с места «Воля». Ее грузный силуэт пересек дорожку и склонился к северо-западу. Следом тонкой ниточкой кильватера потянулись миноносцы.
Тогда, зажав пальцами лицо, как будто от нестерпимого света, Глеб упал у скамьи, уткнув лицо в колени безмолвной женщины. Вся горечь этого дня вылилась в судорожном задыхании детского плача. Он плакал беззвучно, дрожа всем телом, чувствуя, как намокает платье женщины под его щекой.
Женщина по-прежнему тихо гладила его по голове.
– Маятный ты хлопец!.. Важко тебе будет житься, – сказала она с сожалением и горечью.
Слезы истощились – глаза стали сухи. Глеб поднялся, освобождая голову из ладоней женщины. Ему стало почти стыдно за свои рыдания.
– Спасибо, родная, – сказал он женщине, как сказал бы матери, целуя ее руку. Она отдернула ее…
– Не треба… Господь с тобой.
Она встала, и Глеб не увидел, но почувствовал, что женщина перекрестила его.
Он поднял упавшую с головы фуражку и бегом бросился к забору, перепрыгнул и со всех ног помчался к вокзалу.
На путях поезда не было. Глеб в недоумении остановился.
«Перевели в тупик, что ли», – подумал он и направился к коменданту, чтобы узнать, куда девался поезд. Подходя, увидел выходящего из вокзала Думеко.
– Думеко?.. Что случилось? Где поезд? – спросил Глеб.
Думеко остановился, выкатил на Глеба неузнаваемые бешеные глаза и сорвался.
– Мать… мать… мать!.. – по пустому перрону грязным комом покатилось сорокаэтажное матросское ругательство. – Мать… поезда! Держи, лови поезд за хвост!..
– Да бросьте ругаться, Думеко! Толком – в чем дело?
– В чем дело? – уже успокоенней сказал матрос, отведя душу. – В том дело, Глеб Николаич, что нет поезда. Задал поезд лататы вместе с товарищами комиссарами. Поди, теперь верст по пятьдесят зажаривает.
– Зачем?
– А я вас спрошу – зачем?.. Прибегла, прости господи, вонючая гнида с полными штанами от страху, наплела невесть чего, а мы – бежать. Куда бежать? Чего бежать? Да будь я проклят, чтоб я побежал…
– Думеко, – раздраженно сказал Глеб, – я ничего не понимаю. Успокойтесь и объясните связно.
– Да чего тут объяснять? Вот, сами читайте. Я эту чертову грамоту в карман себе сунул. Писала писака, что неразбери собака, – с непередаваемым презрением буркнул Думеко, тыча Глебу вынутую из кармана бумажку. – На подтирку и то зазорно.
Глеб подошел к окну вокзальной дежурки, откуда шел яркий свет, и расправил смятый листок. С трудам разбирая каракули чернильного карандаша, он прочел:
«Слушали: в отношении представителей центральной власти Вахрамеева и Авилова, как самозванцев на предмет дискредитации и измены, а также провокации в уничтожении флота, как защиты и опоры, равно военной силы Кубано-Черноморской республики. Постановили: Означенных Вахрамеева и Авилова расстрелять за измену и провокацию от Совета рабочих и солдатских депутатов города Новороссийска, как революционной власти, в 24 часа без обжалования…»
Ни подписи, ни печати не было. Глеб недоуменно перевернул листок.
– Не понимаю… Откуда эта чепуха?
– Я и говорю, что чепуха, – отозвался Думеко. – Прибег час назад председатель совдепа, принес это дерьмо. Постановление совдепа, извиняюсь. Его в гальюн бросить, а товарищ Вахрамеев мне говорит: «Немедленно подать паровоз – мы едем». Я говорю, что довольно стыдно давать деру, а он мне: «Ты комендант поезда и отвечаешь за немедленное отправление». Ну, я к дежурному, паровоз пригнал… фить – и поехали… Председатель совдепный тоже с ними удрал. А я с подножки прыг – и будьте здоровы… С меня довольно! Я матрос, а не цыганский конь на ярмарке, чтоб меня гонять туды-сюды для резвости. Набегался! Кому охота, а мне неволя. Теперь у коменданта приютился.








