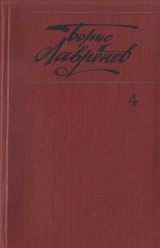
Текст книги "Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 46 страниц)
– Я сам слышал это не раз, – покраснел Глеб. – Я слышал разговоры: «И чего канителят. Драться – так драться, а не на печке лежать».
– Они совершенно правы, Глеб Николаевич. Но их не потому тянет драться, что они одержимы высоким гипнозом национальной идеи. Ерунда! Военный аппарат государства набивает ваши бронированные ящики огромным количеством молодых, здоровых, полных сил людей, насильственно оторванных от продуктивного, созидающего труда. Вместо этого труда для них создается видимость никчемной и архаической чепухи, именуемой военной службой, которая, по существу, есть худший вид паразитического безделья. По существу, десятки тысяч работников насильственно превращаются в сытых и развращенных лодырей. Их томит это положение, которое для их командиров является нормальным. И когда наконец приходит война, когда им представляется возможность заняться хоть и бессмысленно-разрушительным, но все же делом, они, естественно, предпочитают его безделью. Но и то меньшинство. Большинство завтра же разбежалось бы по домам, если бы не призрак военного суда за спиной.
– Значит, по-вашему, матросы служат только из страха палки?
– Не по-моему, – мягко улыбнулся горбун, – это объективная истина, Глеб Николаевич.
– А по-моему, это красная чепуха, Мирон Михайлович, извините за прямоту.
– Значит, вы считаете, что все благополучно? Что государственный строй России на высоте, военная сила безупречна и рвется в драку? Тогда чем же вы объясните восточнопрусский погром и прочие неудачи на фронте?
– Временное явление. Игра военного счастья, – самоуверенно сказал Глеб.
– Так… Следовательно, по-вашему, в двадцатом веке, при наличии расцвета тяжелой промышленности, финансового капитала, банков, колониальной политики, высокой техники, государство, управляющееся методами Ивана Грозного, имеет шансы на успех в борьбе против государства с современными принципами управления?
– Что значит «современные принципы управления»?
– Что вы скажете, например, о подлинной конституции или о демократической республике?
Вопрос застал Глеба врасплох. Слова и термины, с такой легкостью слетавшие с губ доктора, ворочались в мичманском мозгу грузно и неуклюже, как булыжники, цепляясь и сваливаясь в груду.
– А черт его знает. Я ни бельмеса не смыслю ни в конституции, ни в республике, – с отчаянной мальчишеской прямотой сказал Глеб.
Штернгейм засмеялся тем же тоненьким смешком и радостно потер руки.
– Но позвольте, Глеб Николаевич. Ведь должны же у вас быть какие-нибудь политические взгляды? Кто вы? Монархист, конституционалист, умеренный республиканец? Социалист, наконец? Аграрий вы или представитель промышленного капитала? Банкир? Интеллигент?
Докторские вопросы били, как пулеметные очереди. Глеб тяжело вздохнул.
– Ей-богу, Мирон Михайлович, я ничего этого не знаю. Я даже не понимаю многих слов из сказанных вами. В корпусе я никогда не думал ни о какой политике, и никто не думал… Да, черт возьми, мне и в голову не приходило задумываться над такими вопросами… Я хотел сделаться хорошим моряком – и только…
– Но для того, чтобы стать хорошим моряком… – начал Штернгейм и вдруг резко оборвал, прислушиваясь.
Где-то далеко, за домами, за темными вечерними улицами, родился внезапный, густой, ежесекундно нарастающий звук. Он был пронзителен и заунывен. Стекла окна тонко задребезжали ему в ответ.
– Сирена! – Глеб вскочил. – Мы забыли о времени. Я уже опоздал. Это сигнал съемки. Прощайте, Мирон Михайлович.
Глеб выбежал в коридор, торопливо, путаясь в рукавах, натягивал шинель, пристегивал саблю. Сирена продолжала выть – встревоженный, задыхающийся зверь.
– Счастливого пути, – ласково сказал маленький горбун, сжимая своими детскими ручками руку Глеба. – Счастливого возвращения. Тогда мы еще поговорим с вами. Не правда ли?
– Конечно… До свидания, Мирон Михайлович.
Хлопнула дверь. Сырой ветер ударил в лицо. Темная улица сбегала трапами к бухте. В городе погас свет. Только над рейдом жуткими синими мечами метались прожектора. Не разбирая дороги, Глеб кинулся по спуску.
* * *
В узкую щель прицельного колпака сыростью, солоноватым холодком, неизвестностью дышит осенняя морская темнота. Слышно, как глухо и мягко хлещет в борт корабля волна. С высоты сиденья под колпаком Глебу видна вся сложная, тонко рассчитанная внутренность башни, где каждый прибор занимает свое, точно определенное место.
Из колодца подачи тянет внутренним теплом корабля, особым запахом масла и нагретой стали, которого не спутаешь ни с каким другим запахом.
Люди у приборов неподвижны. Они кажутся сейчас частями этого сложного механизма, где все разграфлено по шкалам градусов, углов, секторов.
В жутковатой тишине слышно только шмелиное гуденье электромотора. Загорелая крупная рука наводчика, крестьянская рука, привычная к грубой рукоятке топора или вил, бережно и цепко лежит на рычаге вертикальной наводки.
Грузная и огромная казенная часть пушки медленно и бесшумно оседает книзу.
Глеб знает, что там, за амбразурой, в сырой ночной темноте, так же медленно и беспощадно ползет кверху орудийное дуло, нащупывая цель.
На диске указателя перед глазами Глеба стрелка стоит на цифре «95».
Это дистанция, данная из боевой рубки, где у таких же дисков и приборов стоит сейчас старший артиллерист, лейтенант Калинин.
За щелью прицельного колпака, в свинцовой темени, где-то лежит невидимый берег. Его очертания размыты ночью.
В густой, как пролитые чернила, мгле испуганными искорками мерцают чуть видные огоньки. Они тянутся цепочкой, и там, где они сбиваются в тесную стайку, – там лежит цель.
Рассекая ледяную плещущую воду, тяжелыми черными призраками ползут на восток вдоль невидимого берега шесть кораблей линейной бригады, окруженные тоже скрытыми в темноте миноносцами.
Силуэты кораблей грузно чудовищны. Так выглядели, вероятно, в доисторическую эпоху гигантские ящеры, днем таившиеся в душной чаще хвощовых зарослей, а ночью выходившие на водные просторы для охоты и любовных игр.
Ни одного огонька в иллюминаторах и на палубах. Все наглухо задраено перед боем, и только сзади идущий корабль видит крошечную светлую точку кильватерного огня мателота.
И на всех кораблях, в башнях и казематах, в плутонгах и батареях, руки наводчиков лежат на рычагах наводки, и тяжелые стальные зады орудий неуклонно ползут вниз.
Приказ командующего флотом прочтен сегодня на всех кораблях.
В возмездие за «дерзкое и преступное нападение коварного и бесчестного врага на мирные населенные пункты черноморского побережья» флоту надлежит произвести обстрел анатолийского берега, и в первую очередь Трапезонда.
О том, что Трапезонд и другие пункты, обреченные разрушению этим приказом, представляют собой не крепости, а такие же мирные города, как русские города Одесса, Феодосия и Новороссийск, в приказе не говорится. Это мелочь, не могущая иметь влияния на детально разработанный план операции.
Закон войны прост и точен: «Око за око и зуб за зуб». За несколько заборов, разбитых поспешными беспорядочными залпами вражеских крейсеров в ночь на пятнадцатое октября, за сгоревший в Новороссийске хлебный амбар и сбитую трубу цементного завода – Трапезонд обречен стать мишенью методичного и спокойного расстрела всей боевой силой Черноморского флота.
Флот должен смыть черный позор, легший пятном на снежную белизну андреевского флага, позор, от которого потускнело золото адмиральских погонов и поникли головы вышитых на них орлов.
Там, где стайкой сбились искры береговых огоньков, в теплой долине, у подножий вечнозеленых гор, раскинулся тихий нищий город, с белыми свечками минаретов, с грязным рынком, по которому бродят кудлатые своры бездомных собак и где гортанными воплями выхваливают товар и переругиваются черноусые турки-торговцы.
Он ничего не знает, этот город о своей черной участи. В задымленных прибрежных кофейнях лениво бросают на липкие столики из жестяного стаканчика игральные кости, за частыми решетками окон спят обыватели, и сонный сторож ходит по рынку, шлепая бабушами и колотя в деревянную доску.
Он не смотрит на море, а если бы и поглядел – ничего не увидят старческие глаза в осенней, влажностью дышащей мгле. Он только слышит, как под берегом против рынка мирно поскрипывают бортом о борт задремавшие до утра рыбачьи фелюги.
Черные тени стальных ящеров все еще молча шли вдоль берега.
Сто пятьдесят пушечных дул с правого борта бригады неотступно следили за береговыми огнями.
Двадцать пять тонн металла и пять тонн тротила хищно и тихо лежали в пастях орудий точеными болванками снарядов, готовые превратиться в гром, огонь, смерть по сигналу с «Евстафия».
Пронзительно задребезжал звонок. Глеб взглянул на циферблат приборов управления огнем. Звонок призывал к вниманию. Сейчас стрелка дрогнет, рванется, узкое кольцо ее уколет слово «огонь».
Но стрелка не двигалась. Ожидание становилось мучительным. Стиснуло горло, и сразу пересохли губы. Глеб облизнул их и еще раз взглянул вниз.
Прислуга башни стояла бледная, сосредоточенная, непроницаемая. Было похоже, что люди утратили всякое выражение, кроме тупого и сумрачного ожидания.
«Черт… ведь не учебная же стрельба по щиту. Город… люди, а тут ни признака волнения… Что это? Автоматизм выучки или скрытность?» – подумал Глеб, перебегая глазами от одного к другому.
Но лица казались одинаковыми, как тарелки одного сервиза.
Кострецов… Макаренко… Перебийнос… Щелкунов… Заводчиков…
Глеб мог назвать каждого по фамилии, по эти фамилии утратили индивидуальность. Перед ним были номера, детали беспощадного разрушительного механизма, ничем не отличимые одна от другой.
На мгновение взгляд Глеба задержался на Гладковском. Он был единственным из всех, в сжатых губах и сведенных бровях которого Глеб ощутил какое-то человеческое волнение.
Вероятно, Гладковский почувствовал упорный взгляд командира. Он повернул голову. Глаза офицера и матроса встретились. В зрачках Гладковского полыхнул какой-то тревожный блеск, и он быстро опустил голову.
– Дзинь!
Стрелка качнулась. Мгновение, и она прыгнула на «огонь».
– Залп!
Рука Глеба метнулась вниз, рубнула воздух.
Башню дернуло. Испуганно мигнули лампочки. Короткий и звонкий, лопнул за башней раскат выстрела. Жирно чавкнув, отпал замок, из колодца подачи прыгнул лоток со снарядом. Толстая стальная свинья, подхваченная зарядником, сунулась рылом в казенник, и замок с жадным щелком сцепил стальные зубы.
– Залп!
Глеб припал к стеклам дальномера. Освещенные вспышками залпов, стекленели гребни валов. В непроглядной черноте, там, где лежал берег, метались бледно-розовые мгновенные фонтаны.
– Залп!
Удары выстрелов трясли башню. С беспощадной точностью каждые пять секунд гремел залп. Сладковато запахло жженым целлулоидом пороховых газов. Взвыл вентилятор, и одновременно Глеб услыхал слабый дребезг телефона.
– Перенос огня… Наводка по пламени пожара влево от маяка… Три меньше, – сказал голос артиллерийского кондуктора Ивашенцева.
– Есть перенос огня… Наводить по пожару влево от маяка. Три меньше, – повторил Глеб наводчику.
– Залп!
Глеб припал к щели колпака, мучительно вглядываясь. Он искал то невиданное и страшное, что предстояло увидеть впервые, и, найдя, почувствовал, как задрожали его пальцы на штурвальчике дальномера.
В круге, пересеченном заборчиком делений, встал неожиданно близкий столб маяка на низком молу. Бок его розовел отсветом пожара, а за его тонким силуэтом на берегу вихрилось, вздымаясь, крутясь и ширясь, тяжелое оранжевое пламя.
Пригибая его к земле, разрывая на части, разметывая, прыгали в этой огненной завесе стремительные выплески разрывов.
Низкое облако освещенного снизу дыма медленно плыло по ветру.
Стекла дальномера нащупали у самого берега ярко освещенный пожарищем белый дом в зелени сада.
Он был виден резко и отчетливо. Глебу даже показалось, что он различает узор на резной деревянной двери под нависшим балкончиком. Дом был похож на рисунок из Шехеразады. За этой резной дверью, за узкими жалюзи балкончика должна была прятаться в тиши гарема прелестная черноглазая турчанка. Такую когда-то увез из Турции дед Глеба, и у нее, должно быть, такие же тревожные брови-разлетайки, как Глебовы.
– Ах!..
Непроизвольный крик вырвался у Глеба. Мгновенно откинувшись назад, он едва не сорвался вниз.
В черном прямоугольнике резной двери взметнулось огромное зеленовато-желтое пламя, мигнуло, погасло, заволоклось дымом, и Глеб увидел, как домик распался в пыль.
– Боже мой, – прошептал Глеб, – все вдребезги… Но ведь в этом домике мирные люди…
– Залп!
– Ведь это, возможно, мой снаряд… Что же это такое?
Глеб закрыл глаза. Посмотреть на берег опять было страшно. Рука, наводившая дальномер, вдруг застыла, сведенная внезапным холодом, и Глеб затрясся от налетевшего нервного озноба.
Залпы гремели не переставая. Бригада средним ходом продолжала идти вдоль берега, засыпая Трапезонд тоннами стали. Огонь велся спокойно и точно, как на практических стрельбах.
Черноморский флот смывал позор ночи на пятнадцатое октября, и андреевские флаги торжественно бились по ветру на стеньгах, осеняя величавым косым крестом пустынные палубы плещущих грохотом и огнем кораблей.
* * *
Флот повернул на север. Усилившаяся волна тяжело била в скулы кораблей, захлестывала на палубы. Сзади мерцало тускнеющее дальнее зарево – там дотлевал развороченный Трапезонд.
За два с половиной часа бомбардировки бригада линейных кораблей выбросила по городу двадцать пять тысяч снарядов. Эта груда металла весила вдесятеро больше, чем все население разрушенного города.
Флот мог гордиться удачной операцией. Офицеры и матросы имели право на заслуженный отдых и поощрение.
Отмывшись под душем от копоти и липкого осадка пороховых газов, Глеб направился в кают-компанию и в изумлении остановился на пороге.
Кают-компания по-праздничному сияла светом.
Матово светились тугие изломы скатерти, мерцал хрусталь, искрилось серебро, и в вазах на столе тяжело восковели горы фруктов.
У каждого прибора лежали бутоньерки, перевязанные трехцветными ленточками. Вымытые, надушенные, веселые, входили один за другим офицеры в приподнятом настроении, улыбаясь, блестя глазами.
– Что это такое? – спросил Глеб у Спесивцева. – Что за торжество?
– Ха! – усмехнулся водолазный механик, подтолкнув Глеба в бок. – Неужели не понимаете, малютка? Празднуем блестящую победу, и по сему торжественному случаю «вышеупомянутая марсала» расстаралась на пасхальный стол. Вот выпьем!
Спесивцев радостно щелкнул пальцами по тугому воротнику кителя и поддел Глеба под локоть. Придвинувшись вплотную и щекоча ухо Глеба усиками, Спесивцев смешливым шепотком сказал:
– Как же не праздновать! Почитай полторы тысячи турецких скворешен раздолбали. Одних детишек сколько перебили. Словом – «Гром победы раздавайся, напивайся, храбрый росс!»
– Как вам не стыдно так шутить? – Глеб вспыхнул и высвободил локоть.
– Милый Алябьюшка! Смотрите на вещи проще. Если все принимать всерьез, нужно пойти в каюту, снять шнур с портьеры и повеситься на собственной койке, – с неожиданной горечью ответил Спесивцев.
Глеб хотел что-то возразить, но в эту минуту прозвучал голос Лосева:
– Га-спа-ада офицеры!
Офицеры вытянулись. Боковая дверь, выходившая в командирское помещение, раскрылась, и в ней появился капитан первого ранга Коварский. Сегодня он удостаивал своим величественным присутствием офицерское общество. Рыжая борода командира была аккуратно разглажена, из-под нее синевато сверкали крылышки отложного воротничка, и застывающими каплями крови горел владимирский крест на шее.
Командир сделал общий поклон и пошел на почетное место в голове стола.
– Прошу садиться, господа!
Тишина разбилась. Переговариваясь и смеясь, офицеры занимали места.
Вестовые, бесшумно скользя по ковру, разливали шампанское. Золотая жидкость весело пузырилась в бокалах.
Коварский протянул руку, сверкнув рубинами перстня, взял бокал, поднялся.
Офицеры встали.
– Господа офицеры, – голос Коварского проникновенно и слезливо задрожал, – разрешите поздравить кают-компанию нашего славного корабля с первым боевым делом. Пусть оно будет первой ласточкой и предвестием славных боевых подвигов нашего обожаемого флота. Мы знаем, господа офицеры, что волею божьей и нашей историей предопределено владычество России на просторах Черного моря… Мы, севастопольцы, помним и чтим геройские дела наших предков. В наших сердцах и нашей памяти никогда не забудутся славные имена Ломбарда, Казарского, Лазарева, Нахимова, Корнилова, Дубасова и Шестакова. Дерзкий враг, испокон веков тщащийся подорвать могущество нашей родины, не раз получал тяжелые уроки от черноморцев. Победы наши под Калиакрпей, Керчью, Хаджибеем, Фидониси и Синопом вписаны золотыми буквами в историю Черноморского флота. Будем же верить, что к этим славным победам мы прибавим новые во славу России и флота. Сегодняшний наш поход тому залогом. Я уверен, что каждый из офицеров-черноморцев выполнит свой долг до конца. За государя императора, за доблестный наш флот, за дружную офицерскую семью, за погибель врага, господа офицеры – ура!
Держа в руке бокал, Глеб смотрел на офицеров, слушавших спич командира. Большинство равнодушно-скучно томилось, ожидая конца, когда можно будет сесть и приняться за еду. Вонсович рассеянно ковырял ногтем скатерть. Мичман Нератов с явно наигранной преданностью смотрел в глаза командиру, как дворняжка, которой показывают кусок сала. Дер Моон деревянно вытянулся и замер в величественной напряженности. Лосев грозно смотрел на вестового, уронившего тарелку. Рот старшего офицера был полураскрыт, и в нем застряло ругательство по адресу вестового, готовое вылететь, как только окончится торжественная речь командира. Лейтенант Ливенцов чему-то улыбался, видимо занятый своими мыслями, и слова командира шли мимо него. Спесивцев хмурился, тонкие губы лейтенанта Калинина были сжаты брезгливой гримасой.
– Урр-ра!
Первым крикнул ревизор. Остальные поддержали громко, но недружно. Зазвенели, сталкиваясь, бокалы.
Коварский сел, и тотчас зашумел общий разговор, застучали по фарфору ножи и вилки.
«Дружная офицерская семья, – подумал Глеб и внутренне улыбнулся, – недурная дружба. Например, Калинин с Мооном или Спесивцев с Нератовым – как собака с кошкой. Единение господ офицеров».
Глеб налил большую стопку водки и залпом выпил, не закусывая. Жидким огнем плеснула в голову, выжала из глаз слезы.
– Однако, – покосился сбоку Спесивцев, – так можно и под стол съехать, дорогой. Вы бы поостереглись.
– А, черт с ним… Скучно, – махнул рукой Глеб. – И голова у меня что-то болит. Должно быть, от грохота и газов.
– Так водкой не поможете… Бросьте… – И Глеб почувствовал, как, найдя под столом его руку, Спесивцев ласково сжал ее. – Бросьте, голубчик. Плевать на все.
Глеб хотел ответить, но в разговор ворвался напыщенный тенорок Нератова:
– Ну и грохали, господа! Так грохали, что турки до второго пришествия не забудут. Я ведь на мостике был с сигнальщиками – видел всю картину. Моментами от залпов было светло, как днем, ей-богу. А на берегу сплошной ад. Разрыв на разрыве. Живого места нет. Там, под берегом, фелюги стояли рядком – штук пятьдесят. И вот, вообразите, в эту кашу два двенадцатидюймовых. Вода столбом, дым, щепки – и пустое место. Ни одной не осталось. Это вам не «Гебен». Наши артиллеристики марку показали… Борис Павлович, за ваше здоровье.
Калинин молча поднял бокал и пригубил.
«Принял, – подумал Глеб, проникаясь внезапной неприязнью к лейтенанту. – Неужели же он тоже гордится и радуется этой варварской стрельбе по беззащитным людям?»
Но лицо лейтенанта Калинина было неподвижно и жестко, как камень. На нем нельзя было прочесть лейтенантских мыслей, а губы, не разжимаясь, хранили все ту же брезгливую гримаску, и она несколько охладила рождающуюся неприязнь.
К Лосеву подошел вестовой и, нагнувшись к плечу старшего офицера, зашептал что-то, кивая головой по направлению офицерского коридора. Выслушав вестового, Лосев сказал несколько слов командиру. Тот разрешающе наклонил голову, – рыжая борода, как занавес, скрыла владимирский крест.
Лосев постучал вилкой о край бокала. Разговор смолк. Офицеры выжидательно повернулись. Из офицерского коридора в кают-компанию вошли, напряженно держа руки по швам и не сводя глаз с командира, минный кондуктор Пересядченко и фельдфебель второй роты Буланов.
С налитыми кровью, закаменевшими в преданности мордами, в затылок один другому, они протопали по ковру к командиру, как при подходе с утренним рапортом, и в четырех шагах остановились, с треском приставив каблуки.
На мичманском конце Лобойко, не выдержав, фыркнул в салфетку.
– Дозвольте, ваше высокоблагородие, от всей команды поздравить ваше высокоблагородие и всех господ офицеров, – начал Пересядченко, багровея все больше с каждым словом, – со славным, значит, боем, ваше высокоблагородие. Вся команда просит передать вашему высокоблагородию, что завсегда готова положить жизнь за матушку-Россию и обожаемого нашего государя императора Николая Александровича.
Глеб подпрыгнул на стуле. Спесивцев неожиданно больно ущипнул его за плечо. Глеб взглянул на соседа, – Спесивцева трясло от еле сдерживаемого хохота.
По Коварский поднялся и растроганно потянулся к кондуктору. Оба облобызались, а фельдфебель Буланов торопливо мазнул рукавом форменки по губам в ожидании своей очереди.
По знаку старшего офицера вестовой наполнил два бокала шампанским. Рачьи буркалы Пересядченко жадно загорелись и заметались при виде волшебного офицерского напитка. Огромная ручища приняла из руки Коварского бокал, совсем закрыв его. Пересядченко зажмурился и опрокинул бокал в широко раскрытый рот. Лобойко заржал по-жеребячьи, Спесивцев уткнулся головой в стол. Буланов искоса с презрением поглядел на кондуктора и, отставив в сторону мизинец, как кокетничающая дама, слегка пригубил бокал.
До флотской службы Буланов служил камердинером у какого-то графа и знал, что это золотистое пузырчатое вино бары пьют, потягивая по малости.
– За здоровье вашего высокоблагородия и всех господ офицеров! – рявкнул Пересядченко и зеленым в клетку платком, добытым из кармана, вытер свирепые барсовы усы.
– Передайте команде, – сказал Коварский, – что я благодарю ее и доложу адмиралу о похвальных чувствах матросов. Магнус Карлович, распорядитесь выдать матросам за мой счет по две чарки и по четверти фунта конфет из буфета. Можете идти!
– Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие.
Пересядченко с громом повернулся. Буланов жалостно взглянул на свой недопитый бокал, но желание показать себя не лыком шитой серой деревней превозмогло жалость. Он донес бокал до выхода, поставил его на столик у буфета и вышел вслед за Пересядченко.
Офицеры хохотали. Даже Коварский показал из-под бороды оскал редких зубов.
– Вот уморили чертовы камелеопарды! – сказал Ливенцов, вытирая слезы салфеткой.
– Не понимаю, чему смеяться, – сказал ревизор. Он единственный из всех не улыбнулся. – Очень похвально, что матросы проявляют патриотическое сознание. Это должно только радовать, и причин для смеха я не вижу.
– Ну и разрыдайтесь от высокого восторга, а учить нас, что делать, можете воздержаться, – бросил через стол Ливенцов.
– Я вас не учу, а высказываю свои соображения, – безмятежно ответил дер Моон. – Разрешите, Константин Константинович, покинуть стол для выполнения вашего распоряжения.
– Прошу, – обронил командир с явным облегчением. Он тоже не терпел ревизора и рад был освободиться от его присутствия.
Ревизор в дверях разминулся с вестовым.
– Почта! – вскрикнул лейтенант Ливенцов, увидев груду писем в руках вестового.
– Так точно, ваше высокоблагородие. Опосля боя передали на «Счастливом» – пришел из Севастополя.
Офицеры вскочили. Почта была радостным подарком.
Вестовой вертелся в кругу офицеров, вырывающих у него письма. Через спину Лобойко Глеб увидел знакомый узкий кремовый конверт. Это было письмо Мирры.
Глеб схватил его и бросился в каюту. Запер дверь и, торопясь, разорвал плотную бумагу. Сел в кресло и придвинул лампочку.
«Глебушка, родной мой. Только что купила на улице экстренную телеграмму о турецком нападении. Прибежала домой, как сумасшедшая, испугала Сеню и заперлась писать. Что с тобой? Жив ли ты, цел ли? Боже мой, как мучительно чувствовать разделяющее нас огромное расстояние, полную беспомощность и невозможность знать все о тебе. Такое страшное одиночество, такая тоска все двадцать четыре часа в сутки. Слышишь ли, как тревожно в этой пустоте бьется мое сердце? Через тысячи верст тянется от меня к тебе тоненькая пульсирующая ниточка, и все время она по капелькам сочится кровью.
Все чаще и чаще я думаю – что мы сделали и какая на нас вина в том страшном, унылом и черном, что делается вокруг? Три месяца всего назад шумело общее ликование, а сейчас везде и всюду печаль, слезы, подавленность. Три дня тому назад нашим соседям по лестнице привезли с фронта их единственного сына. После твоего отъезда я несколько раз встречала на лестнице этого розового веселого мальчика. Он, как молодой зверек, прыгал через две ступеньки, звеня оружием и шпорами. Потом уехал, а теперь денщик привез все, что от него осталось, – игрушечный ящик, в котором с трудом можно было бы уложить кролика. Его разорвало снарядом под Праснышом. Эту крошечную коробку уложили в большой гроб и отвезли на Смоленское кладбище, в мокрую болотную яму. И я начинаю сжиматься и дрожать от ужаса, что тебя, любимого, живого, могут забить в такой же отвратительный, пугающий ящик и бросить, как ненужный багаж, в грязный товарный вагон.
Глебушка, я бы все отдала за то, чтобы на одну минутку заглянуть в родные твои глаза, прижаться к плечу и выплакаться. Здесь я даже плакать не могу – я замыкаюсь в корку одиночества, и глаза мои сухи. Семена спасает ирония, он ко всему относится с циническим равнодушием, и его девиз: „Чем хуже, тем лучше“. Я так не могу. Каждый день наносит мне незаживающие царапины. Ученье я забросила, да и можно ли сейчас учиться? Единственную радость нахожу в деле, о котором сейчас писать не могу, – расскажу об этом, только когда встретимся. Мне отчаянно хочется бросить все и приехать к тебе на два хоть – три дня, но это пока немыслимо, я не хочу ставить ни тебя, ни себя в ложное положение. Дальше – увидим.
Что будет со мной, с тобой, с нами всеми, с Россией? У меня самые мрачные мысли, самые горькие предчувствия чего-то небывало страшного, опустошительного, какой-то неслыханной еще катастрофы.
И главное, я не знаю, что с тобой. Пиши чаще, пиши, по возможности, каждый день, иначе мне слишком тяжело. Груз этого безвестия надламывает слабые мои плечи. Крепко и нежно целую тебя, родной мой мальчик».
Глеб бережно сложил письмо и положил его в ящик стола.
Взволнованно встал. В памяти неожиданно всплыл вечерний час на балконе высокого дома у Пяти Углов. Призрачный свет июльской ночи, глухой топот множества ног по торцам, томительное бряканье котелков и прикладов. Серые, запыленные ряды усталой пехоты, текущей по опустелой улице в ночном безмолвии. Не солдаты, не герои, а каторжники, покорно и беспрекословно идущие по этапу на кровавое испытание.
Глеб закрыл глаза, и пространства внезапно раздвинулись перед ним. Он увидел бесчисленные, уходящие в недосягаемую даль улицы. Широким веером они сходились к огромной площади, на которой один, в бледной ночной темноте, стоял Глеб у бездонного провала, холодно чернеющего под его ногами. По улицам, мрачно гремя о камни коваными каблуками, с глухим звоном прикладов и котелков, шли бесконечные ряды изнуренной, пропыленной пехоты, понурив головы и плечи. Над ними вялыми складками шелка, в полном безветрии, свисали полотнища знамен и флагов. Глеб узнавал одни за другим: английский, французский, немецкий, австрийский, японский, бельгийский национальные цвета всех держав, ринувшихся в грохотный вихрь войны. Пехота из улиц вливалась на площадь, направляясь к провалу. У острого края этой внезапной бездны по первым шеренгам пробежала томительная судорога испуга и нерешительности. Но резко звучала команда, и люди с закрытыми глазами свергались вниз ряд за рядом. И вдруг из этой безнадежно покорной массы вырвался маленький солдатик с ополоумевшими пустыми глазами. На самом краю провала он швырнул наземь винтовку, закрыл руками лицо и рванулся назад. Глеб услыхал его тоненький, надорванный страхом заячий выкрик: «Мама!» Ближайшие в рядах вскинули головы, прислушиваясь. Тогда высокий широкоплечий офицер быстро ткнул револьвером в затылок солдатика. Офицер ногой столкнул свернувшееся маленькое тело в провал и, закрыв глаза, прыгнул сам…
Глеб в ужасе попятился. Больно наткнулся виском на угол шкафа.
Все исчезло. Лакированная клетушка каюты обычно проступила сквозь расплывающуюся муть бреда.
Голову разламывало все усиливающейся болью.
– Явно отравился пироксилином… Галлюцинация, – вслух сказал Глеб.
Потянуло на палубу, на воздух, под свежее дыхание осеннего шумного ветра. Глеб надел шинель, по пустому коридору добрел до офицерского трапа и выбрался на верхнюю палубу.
Море хлестало борты корабля тяжелыми, мокрыми оплеухами. В низко бегущих тучах медленно и головокружительно раскачивалась фок-мачта. Ветер рвал и сбивал с ног.
Глеб пересек ют и, цепко держась за поручни, вскарабкался по трапу на ростры. Здесь, за пирамидой шлюпок, было тише и теплей. Глеб снял фуражку. Ветер растрепал волосы, приятным холодком пощекотал кожу головы. Стало легче. Глеб прислонился спиной к борту катера.
Он стоял, стараясь унять быстрый и гулкий стрекот крови в висках и вспоминая с отчаянием и безнадежностью события последних месяцев, которые стремительно мелькали перед ним, как обрывки фильма на экране кинотеатра.
Он почувствовал себя бесповоротно несчастным. Все погибло, все было сломано и растоптано – мечты, надежды, счастливая судьба, сама жизнь, над которой навсегда нависло низкое небо свинцовой тяжести и свинцового цвета.
<1932–1933>








