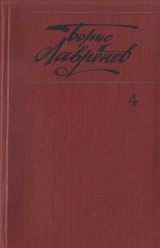
Текст книги "Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 46 страниц)
«У него заскок на этом пункте», – подумал Глеб, вспомнив, что почти то же Калинин говорил ему в вечер их встречи на бульваре.
– Да, – продолжал лейтенант, – мне иногда становится не по себе. Я чувствую, как под ногами качается ненадежная и дрянная почвишка этого островка. Вот-вот он скувырнется – и я слечу в какое-то неизвестное море. Оно чужое – я не понимаю его, и оно не захочет меня. К берегу я доплыть не смогу, и большинство из нас не доплывет, мы пойдем на дно этого моря и будем плавать там вонючими безглазыми трупами в неподвижной, воняющей сероводородом и клозетом жиже.
– Борис Павлович, не нужно, – сказал Глеб, передернув плечами. – К чему такие черные думы?
– Милый мой, привыкайте. После нашего черного прошлого у нас еще более черное будущее. В нем темно, как у негра… На что мы можем надеяться, когда нас ничто и ничему не может научить… Черт возьми! – Калинин нервно топнул ногой в линолеум каютного пола. – Черт возьми, разве это не позорнейшее из зрелищ: через десять лет после страшного военного разгрома влезть в новую войну, ничего не вынеся из опыта старой. Какая гадость!.. Какое омерзение!.. Ввиду небывалого успеха у почтеннейшей публики, антреприза морской труппы Российской империи по случаю десятилетнего юбилея восстанавливает полностью феерию «Ночь в Порт-Артуре»… Декорации обновлены… – Голос лейтенанта пошел кверху, на высокий визг и стал рваться. – Приглашены новые исполнители, но для сохранения преемственности постановкой руководит почтенный артист морского штаба господин Эбергард, с успехом исполнявший роль флаг-капитана в порт-артурской постановке. По ходу действия внезапные налеты неприятельских судов, потопление русских кораблей со световыми и звуковыми эффектами… Начало в полночь… Цены обыкновенные. Участники наполовину идиоты, наполовину мерзавцы…
– Но ведь мы тоже участники, Борис Павлович, – сказал Глеб, надеясь шуткой успокоить лейтенанта.
– Вы – идиот, – с грубой прямотой резнул Калинин. – Что же касается меня, я не совсем уясняю свою принадлежность. Я не идиот потому, что понимаю омерзительность всего, но, пожалуй, и не мерзавец, потому что болею, смотря на этот кабак. Я, очевидно, та размягченная субстанция, которая плавает в проруби от края к краю и никуда не может пристать. Печально, но факт. А кроме того, что я могу сделать? Я не знаю, как бороться. Я не знаю, как можно отстоять наш островок… Да нет, его и отстаивать не стоит. Я хочу жизнь отдать за Россию Карамзина и Ключевского. За Россию, которая сто лет назад принесла миру освобождение от генеральского сапога Бонапарта, за Россию декабристов.
Глеб осторожно взглянул на дверь каюты, но она была плотно прикрыта и заперта, а пробковая изоляция между стенками надежна.
– Но, понимаете, мичман? Эту Россию украл черт, как у Гоголя черт крадет месяц в рождественскую ночь. И наша с вами Россия болтается в мешке, где-то у черта под хвостом. А вместо нее нам подсунули оборотня.
– Ну, хорошо, Борис Павлович. Где же тогда выход?
– Где выход? Черта с два я отвечу вам, где выход. Я этого не знаю. И вы не знаете. Это знают какие-то другие силы, нам неизвестные. Может быть, это знают строфокамилы, недаром у них последние годы такой загадочно-философский вид. Возможно, что они знают выход, и, наверное, здоровый выход, поскольку они сами здоровы. Но только не радуйтесь, – если они до этого выхода доберутся – нам от этого не поздоровится. Они-то сами выберутся на воздух, а нас прихлопнут чугунной крышкой и за все наши благодеяния устроят нам такую жару, что небо с овчинку покажется. И будут правы… И по заслугам. И, может быть, они вернут к жизни настоящую Россию, конечно, под каким-нибудь другим соусом. Одно досадно, – Калинин жалко улыбнулся, – когда они до этого исхода дорвутся, они ни правых, ни виноватых разбирать не будут, а начисто выстригут все, что носит вот эти погончики, – под номер два нуля… Жалко! Все-таки в каждом бедламе есть праведники, но уж нашим строфокамилам в этом не разбираться. Им наши погончики и мы сами вот где сидим, – лейтенант резанул рукой по горлу.
– Вы прямо накликаете беду, – начал Глеб, но осекся. В дверь осторожно постучали. Стук был явно матросский. Глеб нерешительно поглядел на лейтенанта.
– Не бойтесь, – нервно расхохотался Калинин, – это пока еще не строфокамилы. То есть наверняка строфокамил, но в единственном числе и за мирной надобностью.
Он открыл дверь. За дверью, преданно уставив глаза на лейтенанта, вытянулся рыжий вестовой старшего офицера, носивший кличку «Пудель». Шепелявя и отворачивая рот в сторону, чтобы случайно не брызнуть на китель слюной, Пудель выпалил:
– Не обессудьте, вашскобродь, как господин кавторанг приказали найтить мичмана Алябьева и как вестовые кают-компанские сказали…
– Не мямли, курослеп, – сказал Калинин. – В чем дело?
Но Пудель уже увидел за спиной Калинина разыскиваемого мичмана и, просовывая голову в каюту, зачастил:
– Вашскобродь, разрешите доложить, что по случаю похода приказано нонче же похоронить их покойное высокоблагородие мичмана Горловского и, как нужно их проводить в место успокоения с почестями, то господин старший офицер назначили вашскобродь в наряд для отдания почестей с полуротой. Так что, вашскобродь, через двадцать минут их высокоблагородие выносят на катер.
– Почему я? – спросил Глеб, неприятно пораженный новостью.
– Не могу знать, вашскобродь. Господин старший офицер говорили, что требовается послать справного офицера, вашскобродь, чтоб, значит, наружно себя вполне оказал…
– Пошел вон, строфокамил! – сказал Калинин и захохотал. – Ну, милый друг, собирайтесь оказывать себя наружно.
* * *
По распоряжению командования мичмана Горловского и семерых нижних чинов, убитых в лихой, но бессмысленной дневной атаке четвертого дивизиона на линейный крейсер, должны были похоронить в общей братской могиле.
В этом был высокий патриотический смысл. В этом была разумная историческая традиция. Это было необходимо.
Личный состав флота, все его пять тысяч офицеров и пятьдесят тысяч матросов знали и видели охраняемую инвалидным сторожем на плешивой маковке Малахова кургана белую мраморную колонку в нищей зелени запудренных пылью туй.
Под колонкой сухая, как порох, севастопольская земля берегла останки десяти тысяч французских и русских мужиков. Полвека назад три тысячи русских крестьян, одетых в грубохолстинные флотские штаны и куртки, отбивая беспрерывный поток штурма, уложили свинцом и чугуном на склонах холма семь тысяч французских крестьян в синих шинелях и красных шароварах и легли сами, сломленные штыками атакующих.
Русский и французский императоры и их правительства приказали этим крестьянам стать врагами и бить друг друга. Смерть прекратила эту навязанную сверху вражду. Русская земля одинаково гостеприимно приняла в свои недра простреленных бретонцев и заколотых штыками рязанцев.
А правительства России и Франции, использовав для своих целей эти недорогие и несложные жизни, великодушно почтили своих примиренных смертью солдат патетическим четверостишием, врезанным в мрамор памятника:
Эта циничная игра трещащих рифм была признана образцом высокой надгробной поэзии. Ее помещали в учебниках, ее заучивали адмиралы и гардемарины, чтобы при случае програссировать торжественное журчание французского стиха. И эту же надпись сосредоточенно и хмуро разглядывали гулявшие на Малаховой матросы. Легкий и изящный частокольчик латинского шрифта, не поддающийся прочтению, глухой враждой злобил матросские сердца.
Не умея расшифровать смысл надписи, они инстинктом чувствовали в воздушном изяществе мрамора и шрифта какую-то ложь, какую-то легкомысленную издевку над темной и неуклюжей матросской жизнью. Дряхлому сторожу не раз приводилось с ворчаньем счищать с искристой поверхности мрамора прилипшие глинистые комки, следы внезапно вспыхнувшей неизъяснимой матросской ненависти.
Матросы и офицеры Российского императорского флота были врагами. Врагами бо́льшими, чем русские матросы и французские зуавы полстолетия назад. Они были врагами не по приказу правительства, а вопреки его желаниям – врагами по крови, по мыслям, по убеждению. Эту вражду не могла прекратить даже смерть. Это была не вражда личностей, а ненависть класса к классу.
Тем более нужно было командованию показать на первых похоронах жертв первого боя подлинное горячее братство офицеров и матросов, их крепкое единение в равной смертной судьбе героев, павших за родину на поле чести. В этом было призрачное самоутешение командования. И этим же бросалась психологическая подачка матросской массе. Люди, никогда не могшие при жизни стать рядом, ложились в могилу как братья, как равные. Их забрасывали одними и теми же цветами, засыпали одной и той же сухой севастопольской землей.
Это было прекрасно. Это было мудро. Это звучало как стихи:
Réunis par la mort!
«Réunis par la mort» – потомственные дворяне, собственники тысяч десятин русской земли и пейзане в форменках, земельный надел которых был не больше места, занимаемого ими в могиле, – лежали рядом как братья.
Кто посмел бы сказать, что империя делает различие между своими верными сынами, за отечество «живот свой положившими»?
Тело мичмана Горловского в металлическом гробу с золочеными ручками опускалось по трапу в катер в раздирающем томлении траурного марша, в сверкании штыков выстроенного на верхней палубе караула.
Святыня русского флота, андреевский флаг был приспущен до половины флагштока. Даже он склонялся перед прахом героя.
И на «Лейтенанте Пущине», где в катера спускали семь строганых деревянных гробов, тоже томительно пели трубы оркестра, блестели штыки и печально ник к воде синий крест.
Равные почести отдавались храбрым – их уравняла смерть.
«Pro patria mori»[38]38
Умереть за родину (лат.).
[Закрыть]. В этом было что-то от древней, сказочной римской доблести. И, взволнованный высокой печалью, старший офицер с влажными глазами подошел к корабельному священнику отцу Никодиму, осенявшему крестным напутствием медленно сползающий по трапу гроб.
Старший офицер взял отца Никодима под руку и озабоченно сказал вполголоса:
– Батя, вы уж приглядите, пожалуйста. Нужно, чтобы гроб Всеволода Васильевича не бухнули в середину могилы, а поместили с краешку. Все равно за телом приедут родные – придется разрывать. Так чтоб не копаться в вони, а сразу вынуть.
– Разумею, Дмитрий Аркадьевич. Погребем убиенного одесную матросиков, – елейно отозвался пастырь флотских душ. – Сродственникам-то извещение послали?
– Телеграфировали, – коротко бросил Лосев и крикнул вниз на трап, нарушая торжественность минуты: – Крючковой! куда крючком тычешь? Боцман, запиши, – на два часа под винтовку.
Никакое волнение или жалость не могут служить оправданием неловкому тыканью крюком в медную оковку ступеней трапа, иначе что же станется с прекрасной налаженностью флотской службы? Восстановив нарушенный порядок, Лосев вновь сказал священнику:
– Не тяните только канители, отец Никодим, с похоронами. К ночи поход – люди нужны для аврала.
– Я что ж, я бы быстренько обтяпал, – робко сказал поп, – да ведь я не один, Дмитрий Аркадьевич. Все духовенство соборне погребает героев наших. Нехорошо нарушить чин благолепия.
– Ну вас к кобыле с благолепием, – ругнулся старший офицер. – У меня каждый человек на вес золота, а я должен в ваше благолепие целую полуроту загнать. Подтолкните там ваше духовенство в загривок.
– Ох, Дмитрий Аркадьевич, накрутят вам черти на том свете за эти словеса, – уныло сказал пастырь, но, увидя вздыбившиеся усы старшего офицера, торопливо прибавил: – Уж я постараюсь.
Он вздохнул и подавил зевок. С полуночи, когда получились первые тревожные известия, отец Никодим не спал. Он смертельно боялся войны, вычитав в истории цусимского похода про внезапную смерть корабельного священника «Авроры», разорванного в каюте во время сна своим же снарядом, всаженным в крейсер в минуты беспорядочной стрельбы на Доггер-банке. Ему все казалось, что его ждет такой же страшный и внезапный конец, и отец Никодим втайне мучился поздним раскаянием, что, соблазненный сытой жизнью и почетом, он бросил монастырь для корабля.
– Полезайте, отец Никодим, – сказал Лосев, когда гроб установили на катере.
Отец Никодим вздохнул еще раз и полез вниз, придерживаясь за фалреп.
У колоннады Графской пристани во взбудораженной тишине жадно толпился весь Севастополь. Любопытный, шумливый, легко возбуждающийся южный город, бросив все дела, ринулся на похороны моряков, как на страшный, по неодолимо притягательный спектакль.
Толпа стояла молча, но по ней ходила рябь нервной дрожи, шорох тяжелого дыхания сотен стиснутых волнением глоток, сдавленные взвизги женщин.
Пустырь Нахимовской площади с сутуло высящейся над ней фигурой адмирала отгораживала от толпы черно-синяя ровная стена взводов и полурот, высланных на похороны от кораблей и экипажей.
Льдисто переливалась под осенним солнцем парча священнических риз, и зябкая ткань ладанного дымка, разрываясь, тянулась над площадью.
В тяжкой тишине плеснули о приклады взятых «на караул» винтовок матросские руки.
Высоко поднятые гробы на плечах несущих, качаясь, как корабли, поплыли над толпой в невозвратный рейс.
Вдоль замершего фронта полуроты «Сорока мучеников» прошли они грозным строем кильватера, уходя в узкое русло улицы, ведомые серебристо поблескивающим офицерским гробом, как флагманом.
Глеб забвенно уставился на тронутые смертельной зеленоватой белизной лица, на задранные алебастровые носы, слипшиеся синие губы. Было в них холодящее предупреждение, давящая тень обреченности.
– Мичман!.. Мичман!.. Ведите же часть.
Перед глазами метнулось распаренное красное лицо, полковничьи погоны. Глеб очнулся. Гробы уплывали, колеблясь. Полурота стояла, закаменев. Живые лица матросов были тронуты той же смертельной зеленью, что и у уплывающих в последнее плаванье.
– На плечо! Справа по отделениям… Левое плечо вперед. Полурота… шагом марш.
Ряды колыхнулись, ожили. Железные слова команды успокоили, вернули всему живую, плотскую реальность. Глеб увидел знакомые, обычные лица. На фланге первого отделения промелькнула аккуратная, как всегда подтянутая, фигура Гладковского.
Ритмичный топот матросских ног по мостовой ударил в уши пленительной музыкой жизни.
«Жив… жив… жив…»
Короткое это слово, почти ощутимое физически в горячей своей волнительности, билось в мозг, как отсчеты маршевого ритма:
«Раз… жив… два… жив…»
Разве были когда-нибудь эти нелепые мальчишеские мечты о геройской гибели на уходящей в воду палубе, под разодранным сталью косым крестом флага? Мечты о мерцающем золоте букв на мраморных досках корпусной церкви, венках с георгиевскими лептами? О волнующем ореоле славного боевого конца?
«Жив… жив».
Да. Только жить. Только жить и дышать колкой свежестью вот этого хрустального осеннего вечера. Лишь бы не было страшного качанья уплывающих в улицы тихих длинных ящиков. Только бы не было этих ввалившихся глазниц, этого непереносимого молчания почерневших губ.
Жить! Не нужно никакой славы. Жить безвестным, неведомым, безымянным, но слышать удары сердца, тугой ток крови по жилам, впивать здоровый ритм молодого, крепкого тела, игру мускулов. Видеть солнце, небо, робкие иголки травинок в обочинах мостовой, любимые глаза, крошечные веснушки на смуглых щеках, дрожанье ресниц.
Жизнь!
«Раз… два… левой… левой».
«Да, это я, живой, молодой, иду, и это мои ноги отбивают такт шага по звенящему камню. Левой! Левой! Крепче! Я хочу жить, и эти сто двадцать за моей спиной тоже хотят жить, видеть небо, любить, тосковать, смеяться, петь песни. Раз… два… Посмертная слава? Геройство? Память потомства? Какая глупость! Утешение или игрушка для живых. А для мертвых? Для Горловского и этих семерых? Яма с осыпающимися комьями земли, черная пропасть безмолвия и неподвижности. И это навеки… навсегда. Левой! Левой!»
Глеб оглянулся на матросов. Ряды шли, неровно покачиваясь. В них не было полноты жизни, ее могучего ощущения. Надо было вернуть им его.
– Дать ногу… Раз… два… левой!
Голос прозвенел неприлично бравурно. В нем прорвалась буйная жизненная радость, внезапно захлестнувшая Глеба. С тротуаров, забитых толпой, негодующе укоризненно оглянулись на веселого мичмана женщины.
* * *
С кладбища полуроту увел на пристань фельдфебель Горчак. Глеб, получивший разрешение Лосева пробыть в городе до восьми вечера, одиноко побрел тихими улочками, по которым расходились с похорон севастопольцы. Он вышел на гору, к старой церкви, выстроенной в стиле дорического храма, поглядел на вечереющую бухту, огоньки судов, на зеленую звезду, холодно мерцавшую над высотами Инкермана.
Одиночество начинало становиться томительным; в этот вечер, после всех событий дня, хотелось комнатного тепла, света, разговора, и Глеб вспомнил о Штернгейме.
С того первого севастопольского дня он ни разу не был у милого и забавного горбуна, – на берег попадать приходилось редко, и в эти редкие дни он либо бродил за городом, либо болтался с мичманской компанией в морском собрании.
Узеньким трапиком Глеб спустился на Чесменскую. Улыбнулся, увидев на двери уже знакомую, ошарашившую его в первый раз табличку доктора, нажал на вороний клюв. Глухое карканье донеслось из квартиры.
– Здравствуйте, Марфуша. Дома Мирон Михайлович?
Девушка ухмыльнулась, узнав мичмана, которого она приняла в первый раз за больного, и поздоровалась с ним, как со старым другом.
– Здравствуйте, паныч. Дома, дома, он на своей половине – идите прямо.
Глеб двинулся по коридору. Мягкий половик заглушал шаги. Подойдя к двери, указанной Марфушей, Глеб услыхал голоса. Видимо, у доктора кто-то был. Глеб задержался на мгновенье.
– Это не игра, – сказал за дверью голос доктора Штернгейма, – с вашей торопливостью вы устроите крыловский квартет. Нарастание должно быть постепенным, иначе вы сорвете всю музыку.
– Было бы что срывать, – ответил другой голос, глуховатый и низкий, – а вашей музыки не жалко.
«Странно, – подумал Глеб, – нашли время спорить о музыке, когда рядом война».
Он постучал. За дверью замолчали. Кто-то встал. Резко скрипнул по полу отодвинутый стул.
– Войдите, – голос Штернгейма прозвучал удивленно и словно тревожно. Глеб распахнул дверь.
– Может быть, я не вовремя, Мирон Михайлович?
Но уже рыжебородый кобольд, подбежав, тряс руку мичмана.
– Что вы, что вы, Глеб Николаевич. Наоборот, очень рад. Куда вы пропали? Я уж думал – вас в Севастополе нет.
– Невозможно было вырваться, – сказал Глеб. – А так – куда же деваться казенному флотскому имуществу, – пошутил Глеб.
Не выпуская руки мичмана, Штернгейм подвел его к своему собеседнику.
Еще на пороге комнаты Глеб заметил у книжного шкафа узкоплечего, сутулого человека. Дешевенький серый пиджачный костюм болтался на нем мешком, выпятившиеся колени брюк свисали, как коровье вымя. Прядь льняных волос никла на выпуклый, круглый лоб.
– Познакомьтесь, – сказал Штернгейм, – мичман Алябьев.
Из-под белесых ресниц взглянули на Глеба глаза незнакомца. Они были умны, насмешливы, золотисты, красили незаметное лицо. В их буравящем взгляде была большая внутренняя сила, упрямая воля, независимость.
Выслушав представление Штернгейма, незнакомец усмехнулся.
– Тищенко… Антон… не имеющий чина, – отрывисто сказал он, протягивая Глебу руку.
Рука была костлява, суха, с жесткой кожей, – Глебу показалось, что по его ладони прошлись, наждачной бумагой. Пальцы этой руки, видимо, обладали железной хваткой: несмотря на то, что Глеб был довольно силен, кисть его была легко смята этим рукопожатием.
Глеб с любопытством взглянул на Тищенко. Он показался ему занятным.
– Антон – чудак… Он очень горд, что не имеет чина, – вставил Штернгейм, суетясь и припрыгивая около. В этой суетливости было что-то похожее на смущение.
– Вы тоже врач? – спросил Глеб у Тищенко.
Но тот не успел ответить, предупрежденный Штернгеймом.
– О нет… Антон… тоже музыкант. Нашего поля ягода.
«Странно, – подумал Глеб, – по его руке я скорей был предположил, что он слесарь или кузнец».
– Да, я музыкант. Люблю громкую музыку, за исключением военных оркестров, – подтвердил Тищенко с той же усмешкой. Было похоже, что он издевается – то ли над собой, то ли над собеседниками.
– Вы пианист? – заинтересовался Глеб.
– Как вам сказать… иногда и пианист. Но больше композитор и музыкальный критик.
И опять нельзя было понять, шутит этот человек или говорит серьезно. Это начало раздражать Глеба. Он в упор посмотрел на Тищенко, по умные зрачки спокойно выдержали взгляд мичмана.
– Я не признаю игры Мирона. Это безнадежный дилетант и старая дева, отставшая от современных веяний в музыке, – сказал Тищенко уже без усмешки. – Мы смертельно ругаемся.
– То-то я слышал, подходя к дверям, как вы бранили Мирона Михайловича. Я даже удивился. Сегодня, мне кажется, Севастополю не до музыки.
– Что вы? Наоборот, – засмеялся Тищенко. – От таких происшествий только и остается заиграть в четыре руки. Не правда ли, Мирон?
Глеб прищурился. Уж не вызывающий ли это намек на ночное позорище флота?
Но Штернгейм вдруг прекратил свое топтанье по комнате и расхохотался.
– Конечно, мы с Глебом Николаевичем обязательно помузицируем, но вас я лишаю удовольствия послушать за ваши дерзости.
– Невелико наказание, – ответил Тищенко, – я и так уйду. Вы знаете, я не слишком ценю камерные концерты. До свиданья, мичман.
Глеб поклонился. Тищенко вышел, сопровождаемый Штернгеймом. Глеб раздумчиво поглядел вслед. Было в этом странном знакомом Штернгейма что-то неразгаданное, недоговоренное, беспокоящее.
Штернгейм, проводив гостя, вернулся. Непонятная суетливость его, поразившая Глеба, сменилась задумчивостью. Он молча постоял несколько секунд, барабаня пальцами по столу.
– Я вижу все-таки, – начал Глеб, – что попал к вам в неудачную минуту.
Штернгейм как будто проснулся.
– Оставьте, Глеб Николаевич, – вы меня обижаете. Вы всегда желанный гость. Просто я сегодня раскис… Хотите, в самом деле сыграем что-нибудь вместе.
– Спасибо, Мирон Михайлович, но через час я уже должен быть на корабле. А кроме того, я тоже раскис. Я только что похоронил сослуживца.
– Ах да, – всполохнулся Штернгейм. – Ради бога, простите. Я совсем упустил из виду. Ну, просто посидим. Хотите чаю? Кофе?
– Спасибо. Ничего не хочу. Мне приятно провести у вас этот час, в тишине, уюте, на твердой земле.
Штернгейм опустил крышку рояля, которую приподнял было, приглашая Глеба играть. Звук какой-то струны прошелестел по комнате нежно и долго.
– Я проснулся сегодня от рева орудий, – сказал Штернгейм, зябко поведя плечами. – Это было так внезапно, неожиданно, чудовищно.
– Для вас неожиданно, согласен, – зло перебил Глеб, – а для нас это не должно было быть неожиданным, а оказалось…
Штернгейм бросил косой быстрый взгляд на Глеба.
– Да, в городе говорят разное… А впрочем, кто же мог знать. «Не весте убо ни дня ни часа, в онь же прииде сын человеческий».
– Ерунда, – вскипел Глеб, – что годится для Писания, то ни к черту во флоте. Если бы командовал адмирал, а не старый суслик, мы могли бы встретить налет как следует, и «Гебен» сейчас плавал бы на дне, вверх килем. Я бы весь этот штаб с хлюстами и моментами в гальюне утопил.
Штернгейм вскинул голову и весело сверкнул глазами.
– Милый Глеб Николаевич, что за иеремиада?
– Иеремиада! Еще бы. Завтра вся Россия в нас пальцами тыкать будет. Не успев выстрелить, потеряли канонерку и лучший заградитель.
Доктор загреб рукой бороду и засунул ее конец в рот.
– Вот как? Припадок честного самосечения?
– А что вы думаете, – я должен во что бы то ни стало защищать честь мундира вопреки здравому смыслу? Знаете, как говорят французы: «La plus belle fille ne peut donner plus qu’elle a»[39]39
Самая красивая девушка не может дать больше того, что у нее есть (фр.).
[Закрыть]. Не могу же я говорить, что черное есть белое. У меня сейчас все нервы дергаются от злости.
Штернгейм помолчал. Потом придвинул вплотную свой стул и положил на колено Глеба маленькую длиннопалую руку.
– Это отлично, что вы пришли сегодня ко мне… Это замечательно… очень хорошо, что вы расстроены…
– Спасибо, – засмеялся Глеб.
– Нет. Это в самом деле отлично. Но… – Штернгейм остановился.
– Что «но»? – запальчиво спросил Глеб. Он все больше взвинчивался, сам не понимая – почему.
– Но неужели вы думали, что флот в самом деле может предупредить внезапное нападение, что сегодняшний неудачный бой может иметь другой, более приличный результат?
– То есть? Что вы хотите сказать? – Глеб недоуменно уставился на горбуна.
– А видите ли, дорогой Глеб Николаевич. Я не знаю, захотите ли вы меня выслушать или встанете и уйдете и перестанете здороваться со мной на улице, но поскольку вы сами начали разговор о печальных происшествиях нынешнего утра, должен вам сказать со всей прямотой, что я их ждал и предвидел в большей степени, чем ваш адмирал Эбергард или ваш штаб.
– Вы? – Глеб даже попятился от доктора вместе со стулом.
– Удивляетесь? – Кобольд тоненько засмеялся. – Ну да, ждал и предвидел. И это не потому, что у меня какой-нибудь скрытый военный гений, и не потому, что я, скажем, полковник германского генерального штаба. Нет, я человек глубоко штатский, шляпа, «шпак», чему свидетельство мой горб. Но, милый Глеб Николаевич, чтобы предвидеть военные события, сейчас мало быть военным. Надо быть политиком. Кто-то из великих стратегов Российской империи учил, что «офицер не должен быть политиком». Так вот – эту священную заповедь нужно выбросить на помойку.
– Здорово, – насмешливо сказал Глеб.
– Здорово или не здорово, а правильно. Я думаю, что вы многого не знаете. Государство готовило вас к определенной роли, по своему рецепту. Из вас нужно было сделать, по мере возможности, идеальный военный механизм. По понятиям Российской империи, этот механизм должен как можно меньше интересоваться тем, что выходит за пределы узкой специфики его функций.
– Хотя это и очень туманно, – усмехнулся Глеб, – но все же я понимаю, что это не комплимент.
– Совершенно верно, дорогой Глеб Николаевич. Но, Избави боже, я меньше всего хочу вас упрекнуть в чем бы то ни было. Вы делали то, что вам позволяли делать, и узнавали только то, что вам разрешали узнавать. Это русский всеобщий грех. «Мы ленивы и нелюбопытны» – это заметил еще Пушкин.
– Допустим, – мрачно сказал Глеб. – Что дальше?
– А дальше вот что. То, что вы считаете позором и что наполняет естественным негодованием ваше сердце военного моряка, – это нормальное следствие весьма многих причин и в основном государственного строя. Он очень тяжело болен, этот строй. Он не может больше держаться на одном уровне с более здоровыми и жизнеспособными государственными организмами. Он разрушается… Вы, кажется, видели в моей приемной нравоучительные картинки для моих пациентов? – неожиданно сказал Штернгейм.
– Видел, – бросил Глеб, передернувшись от отвращения при воспоминании о клинических снимках.
– Отлично… Простите грубое сравнение – российская монархия в теперешнем состоянии во многом напоминает эти картинки.
– За такие сравнения я недавно поссорился на всю жизнь с другом детства, – холодно сказал Глеб, – и я думаю, что офицеру флота в военное время сравнивать свою страну с такими вещами неуместно.
– Вот видите, – ответил доктор, криво улыбнувшись, – я же говорил, что вы встанете и уйдете и перестанете кланяться мне на улице…
– Я охотно буду вас слушать, если вы избежите резкостей, – сказал Глеб. – Я думаю, вы правы, утверждая, что я многого не знаю.
– Мне будет трудно удерживаться от резкостей… Может быть, перейдем лучше на разговор о музыке? – предложил Штернгейм с явной иронией.
Глеб вспыхнул.
– Вы думаете, что я неспособен к разговору на серьезную тему, Мирон Михайлович?
– Нет… Не думаю, что неспособны, но думаю, что непривычны… Хорошо, я постараюсь выбирать парламентарные выражения. Итак, вернемся к нашим барашкам. Вы верите в победу России, Глеб Николаевич?
– Конечно, верю.
– Ясно… Другого ответа от вас я не ждал. И я очень хотел бы, чтобы ваша вера имела реальные основания. Но признайтесь, вы базируете ваше убеждение не на фактах, а на исторической традиции, на предвзятом убеждении, что Россия – великая держава, что русская армия доблестна и непобедима, что русский народ многотерпелив, покорен и видит во сне, как бы перегрызть горло Вильгельму.
– Да, если хотите, я основываюсь на истории России, на великой миссии славянства, на моральной силе духа…
– Ага… полное собрание панславистских басен Павла Милюкова в популярной переработке для кадетских корпусов. – Штернгейм закатился тоненьким хохотком и похлопал себя по коленке. – Так этого мало, Глеб Николаевич, мало… Против вашей отвлеченной и туманной славянской идеи и российской азиатской дикости и отсталости стоит вооруженная до зубов техникой, организованная, индустриальная империалистическая Европа. Славянская палица, даже с привешенной грамотой, удостоверяющей ее принадлежность самому Илье Муромцу, гроша ломаного не стоит против пулемета Шварцлозе и тяжелой гаубицы.
– Значит, вы верите только в силу кулака и отрицаете моральную силу национальной идеи, например? – сердито спросил Глеб.
– Я вообще не верю в кулаки, Глеб Николаевич. Но с полной отчетливостью сознаю, что кулак, вооруженный автоматическим пулеметом, сильнее кулака, вооруженного ослопом. Что же касается национальной идеи, то где она? В чем?
– Как в чем? В объединении всей России перед лицом врага, в забвении всех счетов и обид на время войны.
– Ах, вот что, – Штернгейм досадливо махнул рукой. – Это вы из манифеста? Ну, в него поверило офицерство, буржуазия, часть интеллигенции, крошечная горсточка в миллионной массе разноплеменных народов России. Не эта же горсточка подопрет своими телами разваливающиеся стены. А главный фактор, решающий фактор, – стомиллионное крестьянство, промышленный пролетариат. Как же вы думаете, они очень заинтересованы в национальной идее и посрамлении германизма ценой собственных боков?
– Мне трудно спорить с вами, Мирон Михайлович, – сказал Глеб. – Вы знаете, конечно, больше меня, и я просто теряюсь перед вашими аргументами, но мне кажется, что в настроениях русского народа вы ошибаетесь. Разве матросы – не мужики в основной массе?
– Предположим, – скривился Штернгейм. – Ну, и что же?
– А то, что матросы на кораблях принимают войну как неизбежное, как должное и даже рвутся в бой. Больше рвутся в бой, чем офицеры, которые, я прямо в этом сознаюсь, совершенно равнодушны ко всему, кроме личного благополучия.
Штернгейм рассмеялся и посмотрел на Глеба с явным сожалением.
– Матросы рвутся в бой? Позвольте в этом усомниться, Глеб Николаевич.








