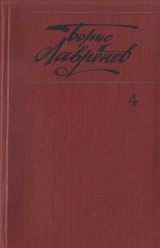
Текст книги "Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 46 страниц)
– Присаживайтесь, дитя природы, – пригласил подошедшего Глеба Вонсович. – Кстати, вас можно поздравить с боевым крещением. Даже жестокосердный Навуходоносор от артиллерии, – Вонсович кивнул на Калинина, – излил на вас елей похвалы.
Глеб вспыхнул удовольствием.
Утренняя стрельба прошла удачно для корабля и для Глеба. Во-первых, из четырнадцати бортовых залпов (стрельба велась на пятьдесят кабельтовых) девять залпов дали накрытие по щиту, пять легли небольшими недолетами. На стрельбе побашенно левая носовая шестидюймовая дала два накрытия из пяти выстрелов, и Глеб, зардевшись, как девчонка, выслушал в телефонную трубку похвалу Калинина из боевой рубки. Боязнь осрамиться оказалась напрасной, и Глеб ходил именинником.
Чувствуя себя отныне равноправным членом офицерской семьи, Глеб с преувеличенной небрежностью развалился на диване рядом с Вонсовичем.
– Ну, ври, сын человеческий, дальше, – сказал Вонсович Лобойко, возобновляя прерванный разговор.
– Почему же я вру? – возмутился мичман, исчезая за клубом дыма. – Ей-богу, что слышал, то и передаю. Дивизион только что пришел из похода, я торопился к ужину и на пристани встретил Витьку Щербачева. Он клялся и божился, что так и было. Они прошли вдоль румынского берега и подошли к ложному Босфору. Четыре часа утра, солнце на месте, но горизонт парит, и такая дымка. И вдруг сразу из дымки полным ходом вылазит он…
– Кто это? – перебил Глеб, не слышавший начала рассказа.
– Ну кто? «Бреслау». Длинный корпус, четыре трубы и прет, как бешеная лошадь. У носа бурун в две сажени, и прямо на дивизион.
– Это только от твоего носа такой бурун идет, когда ты у дамской купальни плаваешь, – вставил водолазный механик Спесивцев.
– К чертям! Если будете издеваться, я брошу рассказывать, – окончательно взорвался Лобойко. – Что за свинство, в самом деле?
– Не буду, – Спесивцев прикрыл рот рукой, пряча предательский смешок.
– Да… И, понимаете, без флага. Никакого флага. Ни немецкого, ни турецкого, вообще на гафеле пустое место. Тогда наши бьют боевую тревогу и ворочают строем пеленга для атаки.
– То есть как для атаки? – спросил Калинин, недоуменно приподняв бровь и воткнув в Лобойко колючий взгляд. – Мы же с Турцией еще не воюем? Что вы?
– Ну, не знаю, – сразу замявшись, ответил Лобойко. – Наверное, хотели пугнуть только, чтобы обнаружил флаг, а он, не показывая нации, шестнадцать румбов кругом – и наутек. Наши его до входа гнали. Только у самого пролива назад повернули. И сейчас же радио в штаб. А ведь здесь никто ничего и не знал. Витька говорит, что он явно держал курс на Севастополь!
– А зачем?
– Что, вы не знаете немцев? Такие нахалы и сволочь – хуже турок. Ясно, шел к Севастополю набросать мины. А там ищи-свищи, когда взорвешься.
Калинин встал. Дрогнув, блеснул на кителе георгиевский крест.
– Пойдите, мичман, прикажите вестовому приготовить вам холодный душ и облейтесь. Что за чушь? Какой-то идиот наболтал вам вздора, а вы повторяете, даже не потрудившись подумать. Почему «Бреслау» должен непременно набрасывать мины? Ведь и наш дивизион ходил к Босфору. По вашей логике выходит, что мы тоже могли набросать мин? Ерунда! Просто выходил корабль в море, как каждый день выходим мы, а Трубецкой авантюрист и полез на рожон. Только напрасно раздражает турок и получит хороший фитиль.
Лобойко смяк и потупился. Спесивцев смешливо покосился на него.
– Вот если б Леонид командовал дивизионом, уж он бы, наверное, попер бы за «Бреслау» в Босфор и привез бы Магомета Пятого.
Лобойко открыл рот, чтобы срезать шутника, но в это время к сидевшим подошел ревизор.
Ревизора не любил весь корабль от командира до последнего захудалейшего кочегаришки. Лейтенант Вейс дер Моон (матросы лихо переименовали эту тяжелую фамилию в понятное русское словцо: «Весь дерьмо-он») был примерным офицером. Он прекрасно знал службу, был безукоризненно честен, к его рукам не прилипла ни одна казенная копейка, не ругался, не дрался, был, в сущности, справедлив, кормил команду отлично, и тем не менее его ненавидели даже тараканы на корабле, хотя он подавал к такой ненависти гораздо меньше повода, чем командир корабля капитан первого ранга Коварский.
Вероятной причиной этого всеобщего отвращения была скучная дубовая педантичность и аккуратность лейтенанта и его нечеловеческое бездушие. Дер Моон был похож на заведенный раз навсегда механизм, тикающий неумолимо и тоскливо, как секундный метроном. Никогда никто не видел, чтобы он улыбнулся или огорчился. Белое, продолговатое, очень правильное лицо над накрахмаленным воротником кителя было всегда невозмутимо и неподвижно, как маска. Однотонный, чертовски скучный голос ревизора вызывал у офицеров отвращение.
Поэтому при приближении ревизора все замолчали. Дер Моон обвел сидящих равнодушными блекло-серыми глазами и, обращаясь к Вонсовичу, спросил скрипуче:
– Не знаете, Владимир Михайлович, старший офицер у себя?
– Вероятно. А что случилось?
– Очень неприятный случай. При подсчете привезенного сегодня с берега провианта, проверяя, совместно с буфетчиком, наличность продуктов и соответствие привезенного накладным и фактурам, я обнаружил недостачу количества вина. Не хватало трех бутылок шампанского и семи бутылок марсалы, – ответил дер Моон деревянным тоном, без всякой модуляции. – Я распорядился немедленно осмотреть баркас, и три пропавшие бутылки шампанского были найдены унтер-офицером Волынкиным в глубине бакового ящика, а вышеупомянутые семь бутылок марсалы нигде не удалось обнаружить.
Мичман Спесивцев поспешно вскочил и, повернувшись спиной к ревизору, подозрительно раздирающе закашлялся.
– Фу, черт! Вы говорите, Магнус Карлович, как будто рапорт диктуете содержателю, – пожал плечами Вонсович. – «Вышеупомянутая марсала!»
– Вы задали мне вопрос, и я излагаю вам содержание происшествия, – не дрогнув ни одной черточкой лица, ответил дер Моон.
– Никакого происшествия нет, – сказал Калинин, – совершеннейшая чушь! Ну, выпьют камелеопарды на здоровье марсалы – злей станут. Не стоит раздувать, Магнус Карлович.
– Вы говорите неправильные вещи, Борис Павлович. Преступление есть преступление, и кают-компании причинен убыток в сумме десяти рублей двадцати девяти копеек. Это недопустимая вещь, и, кроме того, команда развращается. Сегодня украдут марсалу, а завтра подымут красный флаг.
Глеб с удивлением поднял глаза на ревизора и едва удержался от смеха. Спесивцев, стоя за спиной дер Моона, напыжился, вытянув лицо и подражая, очень похоже, каждому движению лейтенанта.
– Если вас так расстраивает убыток, запишите за мной эти десять рублей двадцать девять копеек, – злобно сказал Калинин, напирая на цифру, – а красный флаг они подымут когда-нибудь и от одной водки.
Он повернулся и пошел из кают-компании.
– Я нахожу вашу шутку не совсем уместной, – без волнения, так же скучно сказал дер Моон вдогонку Калинину и, в свою очередь, вышел из кают-компании.
Спесивцев повалился в кресло и в восторге дрыгал ногами.
– Боже мой!.. Вот скотина!.. Ну и скотина!
– А ведь доложит старшему офицеру и раскрасит в четыре цвета, – произнесло облако дыма, за которым подразумевался мичман Лобойко.
Разговор не возобновлялся. Все понемногу разошлись от стола. Глеб взял оставленную кем-то книгу и стал лениво перелистывать.
* * *
Старший офицер ковырялся в бумагах и с неудовольствием оглянулся на дверь, услыхав стук. Черт подери, проклятая должность! Лезут и днем и ночью, никогда нет покоя. За всеми смотри, в каждую мелочь вникай, чуть не в гальюн лазай ежедневно нюхать, как пахнет. И везде норовят подвести.
Обязанностей гибель – они перечислены на шести страницах морского устава в сорока статьях, от 373-й до 413-й. Их даже запомнить невозможно, особенно при слабой памяти. Старший офицер совершенный Фигаро.
Старший офицер? Я тут… Старший офицер? Я там… Старший офицер здесь, старший офицер там. Сплошная опера.
Капитан второго ранга Лосев свирепо укусил правый ус и на вторичный стук разъяренно буркнул:
– Пожалуйста.
В дверь, не сгибаясь, прямой, как стеньга, вплыл дер Моон.
Лосев попытался изобразить гостеприимную улыбку, она не вышла, и старший офицер еще недовольнее сказал:
– Что у вас, Магнус Карлович? Садитесь.
Ревизор сел. Спина его и в сидячем положении осталась прямой.
– Я должен доложить вам неприятное известие, Дмитрий Аркадьевич.
– К нам едет ревизор? – попытался отшутиться Лосев, но дер Моон не понял шутки и, видимо, не подозревал о комедии Гоголя, потому что со спокойным недоумением заметил:
– Почему едет? Я уже пришел.
«Ну и дурак», – внутренне поморщился Лосев и спросил:
– Что случилось?
– Случилась кража продовольственного имущества кают-компании, – и с тем же потрясающим хладнокровием, в тех же словах, что и в кают-компании, ревизор изложил суть происшествия Лосеву. Даже «вышеупомянутая марсала» была повторена в его докладе во всей неприкосновенности.
Лосев задумался.
– Кто ходил старшиной на баркасе?
– Кострецов.
– Странно. Отличный матрос, безупречного поведения, никогда ни в чем не замечен. Жаль! Вероятно, кто-нибудь из гребцов тишком слямзил.
– За всякое происшествие и недостачу на шлюпке, посланной с поручением или за грузом, несет ответственность старшина, – выжал ревизор.
– Как вы думаете, Магнус Карлович, я учил устав? – ядовито спросил Лосев.
– Я ничего не думаю.
Ревизор был неуязвим, как броня. Шутка, острота, резкое слово отпрыгивали от него, как тридцатисемимиллиметровый снаряд от поясной брони линейного корабля, не оставив даже царапины, и у Лосева закололо в висках от сознания невозможности прошибить этого человека. И уже по-деловому старший офицер спросил:
– Что же вы думаете предпринять?
– Подать вам рапорт и просить дать делу законный ход.
Старший офицер задумался. С одной стороны, пустяк. Какие-то семь бутылок марсалы. С другой, если рассуждать по существу, – кража, уголовно наказуемое деяние, и потакать таким вещам не следует. Но Кострецова жаль. Из него вышел бы дельный унтер-офицер, а теперь не миновать разряда штрафованных. И старший офицер молчал, вертя пуговицу кителя, и припоминал лицо Кострецова, открытое, деревенское лицо.
Живой Кострецов был отделен в эту минуту от старшего офицера переборками, коридорами, десятками герметически закрывающихся стальных дверей, и кавторанг Лосев не мог видеть, что происходило в кубрике номер шестнадцать, где помещался Кострецов с двадцатью семью такими же Кострецовыми, судьба которых целиком зависела от одного слова старшего офицера.
Кострецов стоял навытяжку перед боцманом Ищенко, прижав руки к швам штанов. Пальцы его слегка вздрагивали, глаза уперлись неподвижно в кошачьи усы боцмана.
– Говорил я тебе или нет, щучья голова, смотри в оба? Говорил или нет?
– Так точно, говорили, господин боцман, – отвечал Кострецов, и на лбу его выступили мелкие капельки пота от напряжения и волнения.
– Ну а ты что? Что ты наделал, холера?
– Разрешите доложить, господин боцман.
– Разрешите доложить, – передразнил Ищенко. – Теперь докладай не докладай, а дело твое в шляпе. Вино покрадено. Ревизор с тебя семь шкур спустит. С лычками, братец ты мой, прощайся. Не видать тебе лычек.
Пот еще резче проступил на лбу Кострецова.
– Так я ж, ей-богу, ни при чем, господин боцман. Я как заприметил, что ребят разохотило на вино, то на свои денежки четверть им купил, лишь бы офицерского не трогали. Рази ж знатье, что найдется такой гад, который своего брата не пожалеет под артикул подвести.
Глаза Кострецова замутнели, и боцману стало жалко исправного парня.
– Поймать бы мне эту суку, – сказал он, намеренно повышая голос, чтобы его слышали во всех углах кубрика. – Я б его самолично измордовал до трех смертей, чтоб такая пакость на корабле не заводилась.
Он помолчал, словно выжидая ответа, но матросы не шевелились.
– Мой тебе совет, Кострецов, пойди к ревизору, проси прощенья. На него как иногда найдет. Бывает вдруг, что и простит.
И боцман пошел из кубрика, поигрывая цепочкой.
– Братцы, – сказал надорванно Кострецов, обводя глазами кубрик. – Будьте людьми, верните клятое вино. Ей-богу, на три четверти не пожалею, пейте за милую душу. Ведь мне под суд за это идти.
– Да кто ж его знает, кто взял.
– Мы не брали.
– Разве охота тебя подводить, – ответило несколько голосов.
Кострецов сжался и посерел. Нет – уж раз нашелся такой подлец из подлецов, его не усовестишь. Он понурился и, не глядя на матросов, полез по трапу на верхнюю палубу. На баке у фитиля натолкнулся на кого-то.
– Это ты, Кострецов? – спросил встречный, вглядываясь в Кострецова против света лампочки, горящей над люком.
– Я и как бы не я, – безнадежно ответил Кострецов. – Погань мои дела, Степка.
Встречный приблизился. Тусклая желчь лампочки пролилась на плотное лицо, отразилась в коричнево-золотых с дерзиной зрачках.
– Что так?
Кострецов рассказал. Собеседник покачал головой.
– Да, дрянь дело, не будь я Думеко.
– В святые загонят?
– Это уж будь покоен. Раз-два – и гуляй с венчиком. Да ты не унывай, – прибавил он, взглянув на выпершие скулы Кострецова. – Теперь не страшно. Вот только с турками заваруха начнется, опять выслужишься. За первую драку лычки дадут.
– А ну их к матери с лычками, – яростно сказал Кострецов. – Удавить бы их на ихних лычках. За семь бутылок готовы человека в гроб положить.
– Ша, Абрам-щука не для вам, – с тихим смешком сказал Думеко. – Тишок-молчок. Нынче для этого дела, брат, не время – чуть что, разделаются по военному закону. Хуже разгрохают, чем на «Иване Златоусте». Потерпи, дружок. Арбуз в свое время зреет.
По палубе зазвучали шаги. Кто-то шел от спардека.
– Иди, друже, спи. Утро вечера мудреней, – кинул Думеко, ныряя в темноту.
Кострецов постоял еще минуту, вздохнул и полез в люк.
Старший офицер вышел наконец из задумчивости и, вскинув глаза на деревянно застывшего ревизора, осторожно сказал:
– Все-таки жаль хорошего матроса, Магнус Карлович. Может быть, как-нибудь замять эту гадость? Я уверен, что он лично не повинен, а виновника найти трудно. Спишите эти злосчастные бутылки в бой.
Впервые на маске ревизора отразилось какое-то чувство, похожее на негодование.
– Я не могу соглашаться на служебное преступление, – ответил он. – Если я спишу бутылки, это будет подлог. Если вы не согласитесь с моим мнением, господин кавторанг, я буду вынужден подать рапорт командиру.
Может быть, другой старший офицер на месте Лосева поставил бы зарвавшегося подчиненного на должное место, но Лосев всецело соответствовал характеристике, данной ему Калининым. Он был труслив и больше всего боялся портить отношения на корабле. И, сделав гримасу отвращения, как будто глотая порошок хины, Лосев хмуро сказал:
– Ну, как хотите, Магнус Карлович. Это ваше дело. Кому только дать дознание? Сейчас у всех дела по горло.
Это была последняя уловка отвязаться от ревизора. Но дер Моон, подумав секунду, подсказал выход:
– У нас есть новый офицер, мичман Алябьев. Его нужно приучать к морской службе по всем отраслям, и он более свободен, чем остальные. Для него это будет практика.
Больше лазеек не оставалось, и Лосев согласился.
– Отлично. Будьте добры, Магнус Карлович, прикажите вестовому, чтобы он позвал мичмана Алябьева ко мне.
Ревизор встал, поклонился прямой спиной и вышел. Кавторанг Лосев тяжко вздохнул и снова зарылся в боевое расписании.
* * *
Кострецов стоит навытяжку перед Глебом, так же, как стоял предыдущим вечером перед Ищенко, и так же неподвижно глядит на блестящий медный карабин иллюминатора. Он рассказал все, что знал. Больше говорить нечего.
– Значит, когда ты увидел, что матросов соблазняет вид бутылок и они могут похитить чужое имущество, ты, чтобы спасти его от расхищения, на собственные деньги купил для команды угощение?
– Так точно, вашскородь, – уныло говорит Кострецов. – Дал Данильченке семь гривен с пятаком. «Возьми, грю, четверть балаклавского и выпейте, а офицерского не трожьте». На совесть людскую понадеялся, вашскородь, а мне вон какую свинью подложили.
Глеб пожимает плечами. Совершенно идиотское дело. Абсолютно же ясно, что Кострецов не только не виноват, но, наоборот, принял все меры к спасению офицерского вина, пожертвовав для этого своими грошами. Нужно скорей кончать эту глупость. Действительно, ревизор потрясающий дурак и сутяга.
– Ну, а кто на баркасе вообще особенно интересовался вином? Кто первый заговорил о вине?
Кострецов отрывает глаза от иллюминатора и смотрит на мичмана, сминая в руке фуражку.
– Хто? Наперво, вашскородь, должно быть, Тюнтин, а после Данильченко.
– Так, может быть, кто-нибудь из них двоих и спрятал эти бутылки?
Кострецов задумчиво взглядывает на свои ботинки. Но сейчас же вскидывает голову и уверенно говорит:
– Никак нет, вашскородь. Тюнтин наперво в рот не берет напитков, а с бутылкой шалил так, для озорства. А Данильченко мне друг и в жизнь мне бы такого позору не сделал.
– Следовательно, ты ни на кого прямого подозрения не можешь высказать?
– Никак нет, вашскородь. За всеми разве углядишь?
В самом деле, на баркасе было двадцать два гребца. Не выпустить никого из наблюдения – невыполнимая задача для одного человека, которому нужно и управляться с посудиной, и отвечать за нее. Кто-то словчился под шумок упрятать эти паршивые десять бутылок, из-за которых пущена в ход громоздкая машина военного правосудия. Слепая Фемида грозит вот этому отличному, безукоризненному матросу тяжелыми карами. 161-я статья шестнадцатой книги Свода морских постановлений непреложна. Она обещает каждому: «за кражу, умышленное истребление и повреждение имущества, виновные в сем нижние чины, охраняющие имущество сторожевым порядком, а равно дежурные, дневальные и прочие должностные лица, коим поручено наблюдение за целостью имущества, подвергаются: потере некоторых прав и преимуществ по службе и отдаче в дисциплинарные баталионы или роты, от одного года до трех лет, или одиночному заключению в военно-морской тюрьме от трех до четырех месяцев».
Глеб еще раз перечел прочтенную утром перед дознанием статью.
Как глупо! Вот две чаши весов. На одной – живой человек, исправный служака, несомненно честный парень Кострецов, на другой – семь бутылок марсалы десятирублевой цены. И эти бутылки, с прибавкой к ним ревизорового идиотизма, перетягивают живого человека и открывают перед ним зловонную дверь каземата.
Глеб внимательно смотрит на похудевшее лицо Кострецова.
Какие мысли бушуют сейчас в его понуренной, стриженной под машинку голове?
Глебу хочется ободрить Кострецова.
– Ну, вот что, Кострецов. Ты не унывай. Я думаю, что дело можно прекратить. Что ты не брал вина, это ясно, а найти, кто его взял, невозможно.
Слабая искорка радости вспыхивает в глазах Кострецова. Мичман, конечно, понимает дело. На то и учился. В самом деле, не пропадать же ему, Кострецову, из-за чертовой марсалы, которой он никогда в жизни не пробовал и не попробует. И мичман, видать, добрый и душевный и не хочет кострецовской погибели.
И взволнованный Кострецов от сердца говорит:
– Покорно благодарю, вашскородь. Дай вам господь здоровья.
– Не за что. Можешь идти.
Куда идти Кострецову? За дверью мичманской каюты дожидается часовой. С полночи Кострецова отвели, как подследственного, в карцер. Пока еще мичман покончит с дознанием – придется посидеть. И Кострецов сумрачно выходит в коридор.
Он идет на цыпочках, стараясь быть бесшумным, и за ним, как тень, идет часовой, тускло поблескивая штыком.
Глеб допросил Данильченко, Тюнтина и еще нескольких гребцов. Все они в один голос показали, что Кострецов вина не трогал, а кто взял – неизвестно.
Отпустив последнего допрашиваемого, Глеб решительно написал заключение, что по обстоятельствам дела ясна полная невиновность Кострецова, принявшего все меры к предотвращению пропажи вина и поплатившегося даже собственным карманом для охраны офицерского имущества, а потому дело подлежит прекращению.
Подписался, сложил листки дознания в папку и с облегченным сердцем вышел на палубу. От сознания, Что сейчас он сделал доброе и справедливое дело, полуденное пылающее небо показалось ему голубее, чем обычно, и даже мрачная фигура командира, прогуливающегося на правой стороне шканцев, стала как-то светлее.
Капитан Коварский ежедневно перед полуднем выходил на шканцы и медленно мерил их взад и вперед в течение получаса. Он называл это предобеденным моционом. Как и всегда при его появлении, все живое, находившееся на шканцах, как ветром смело на левую сторону, и на правой остались только двое матросов, красивших отдушины палубных люков.
По пустынному пространству палубы одиноко и угрюмо шествовал командир, как зачумленный, от которого бегут все.
Вековые традиции и требования устава ставили его на корабле в странное, почти таинственное положение. Полновластный владыка, корабельный самодержец, могущий в любой момент, пользуясь особыми полномочиями, приговорить любого из команды к смерти и немедленно выполнить приговор, он был отрезан от всего корабля, от его обыденной жизни.
Ему одному, как полномочному представителю империи, было доверено безусловное охранение чести русского флага. Он единственный из всего офицерского состава назначался на корабль не приказом по морскому ведомству, а именным высочайшим приказом. Он читал по воскресеньям на шканцах всему собранию служащих на корабле законы, «дабы никто не мог потом отговариваться незнанием оных». Он распоряжался людьми и вещами, имел власть прекращать заразные и прилипчивые болезни, он мог назначать и отменять богослужения.
Только он имел на корабле отдельное, особое роскошное помещение из нескольких кают, в то время как не только матросы, по и младшие офицеры теснились нередко по два-три человека в крошечных каморках, а то и просто в «занавешенных местах». Это было компенсацией за статью устава, гласящую, что «командир, по мере возможности, должен не покидать корабля». Правда, статья давно стала фикцией, но компенсация продолжала оставаться реальной.
И он жил в своем помещении, как отшельник, окруженный ореолом таинственности и власти, и даже не разделял стола с офицерами, за исключением редких дней, когда по приглашению подчиненных он снисходил до появления за кают-компанейским столом. Только он один имел право подходить на катере к кораблю с правого парадного трапа и занимать одной своей персоной всю правую сторону шканцев, откуда немедленно должны были удаляться все остальные. Исключение делалось только для вахтенного начальника.
Но он мог пригласить на свою сторону любого офицера и матроса, чтобы, смотря по обстоятельствам, либо обласкать, либо разнести.
Глеб, остановившись у трапа, наблюдал, как мерными, журавлиными шагами капитан Коварский нагуливал аппетит для одинокого обеда.
Склянки отзвякали полдень. Командир с последним ударом переступил через комингс командирского люка, и офицеры, в свою очередь, потянулись к люку кают-компании.
Проходя коридором, Глеб догнал дер Моона. Ревизор с достоинством нес свою персону к обеду.
– Я закончил дознание, Магнус Карлович, – заговорил Глеб. – Дело не стоит выеденного яйца. Считаю, что его нужно направить к прекращению и совершенно бессмысленно отдавать под суд такого отличного матроса, как Кострецов.
Дер Моон повернул голову, подпертую воротником кителя, и посмотрел на Глеба рыбьим, мутным взглядом.
– Мичман, запомните, что я никогда не разговариваю о делах перед обедом – это вредит здоровью. И потом если вы хотите разговаривать со старшим по служебной надобности, то обращайтесь ко мне по чину. В частной беседе я могу быть Магнусом Карловичем, а по службе я лейтенант.
Глеб опешил, но афронт был так неожидан, что он не успел ничего придумать в ответ, а когда пришел в себя, дер Моон уже садился на свое место.
«У, дубина!» – подумал Глеб, косясь на ревизора, но тот смотрел прямо перед собой и усиленно жевал, не обращая ни на кого внимания. Челюсти его мерно ходили, как жернова, перемалывая пищу.
«Погоди. После обеда поговорим», – и, решив объясниться с ревизором, Глеб тоже принялся за еду.
Но ревизор встал из-за стола, не дождавшись сладкого, и тотчас же ушел. Глеб отправился искать его, но не нашел и в раздражении вернулся в каюту. Но не успел расстегнуть кителя, чтобы вздремнуть, как в дверь постучался вестовой.
– Что тебе, Семкин?
Семкин усиленно заморгал глазами, чувствуя, что потревожил хозяина не вовремя.
– Так что, вашскородь, вестовой их вскородия старшего офицера просят вашскородь пожаловать сейчас к их вскородию.
Семкин запутался в высокородиях и побагровел.
– Вот дьяволы! Вздремнуть не дадут, – выругался Глеб.
– Так точно, вашскородь, – обрадовался Семкин.
Глеб расхохотался:
– Ты что? Опупел, братец? Кому дьявол, а тебе старший офицер. Ишь обрадовался!
Семкин окончательно растерялся и решил свести разговор на другое.
– Виноват, вашскородь. На берег сегодня съедете? Кительчик, может, пригладить?
– Нет. Не трудись. Когда нужно будет – скажу.
Семкин беззвучно исчез. Глеб застегнулся и направился к старшему офицеру. Войдя, он увидел ревизора и по унылому виду Лосева понял, что предстоит какая-то неприятность.
– В чем дело, мичман? – спросил Лосев. – Что у вас с дознанием?
Глеб кратко сообщил Лосеву о дознании, невиновности Кострецова и необходимости во имя справедливости дело прекратить, ограничившись дисциплинарным взысканием. Старший офицер молчал, вертя в пальцах янтарный мундштук. Дер Моон подался вперед.
– Я имел честь доложить вам, Дмитрий Аркадьевич, умозаключение мичмана Алябьева, которое он сейчас вам сообщил лично. Я нахожу, что у мичмана Алябьева весьма странные понятия о дисциплине и мерах ее сохранения на корабле. Я полагаю, что если над матросом назначается дознание, то окончательное решение вопроса о его виновности предоставляется суду. Иначе самый процесс дознания обращается в какую-то игрушку. Раз матрос украл – его нужно судить.
– Но позвольте, господин лейтенант. Ведь в том-то и дело, что Кострецов не крал. Его подвели гребцы.
Ревизор неожиданно засмеялся. Звук смеха был такой, как будто потерли наждаком по стеклу.
– Его подвели? Мичману нравится изображать целомудренную Гретхен.
– Господин кавторанг! Я просил бы оградить меня от подобных реплик, – вспылил Глеб.
Лосев скривился:
– Господа офицеры, не раздражайтесь. Дело не стоит этого.
– Я это и утверждаю, господин кавторанг. Нельзя же из-за грошовой пропажи погубить матроса. Не может один нести ответственность за двадцать человек, найти вора среди которых сейчас уже невозможно. Не предавать же суду всю команду баркаса.
– Если матрос украл – он получит справедливое наказание, – сказал ревизор. – Если он не украл – все равно приговор суда будет для него наукой и предостережением для остальных. В военное время дисциплина должна быть удвоена, иначе вместо корабля у нас будет плавучий кабак. Это мое твердое убеждение, господин кавторанг. Если только отпустить вожжи, эта мужицкая сволочь перервет нам глотки и не пощадит даже сентиментальных мичманов.
– Обо мне прошу не беспокоиться, – взволнованно бросил Глеб.
– У меня нет никакого желания беспокоиться о вас, мичман. Я беспокоюсь о корабле, на котором мы служим России и государю императору. Вы здесь без году неделя и не имеете понятия о матросне.
Дер Моон встал, обращаясь к кавторангу;
– Я, господин кавторанг, настаиваю на суде в интересах службы. Если вы не разделяете моего мнения, мне останется подать рапорт о списании, потому что служить против своего убеждения я не могу.
Лосев беспомощно заворочался в кресле, переводя глаза с одного офицера на другого. Черт знает какая идиотская история! И ревизор болван, и мальчишка, конечно, действительно не понимает, что матросу нужна острастка. Без острастки они готовы распуститься до невозможности. Суд иногда действует как холодный душ на матросские головы. Конечно, досадно, что жертвой принципа дисциплины должен стать Кострецов, но не все ли равно, в конце концов? Не он, так другой. А самое главное – сохранить мир в офицерской среде. Если по каждому пустяку пойдут ссоры, придется ежедневно пачками списывать офицеров. Получится не корабль, а этапная казарма. Нет, нужно сказать твердое командирское слово и покончить с неприятным инцидентом. И, откинувшись на спинку кресла, кавторанг Лосев сделал официальное лицо.
– Никакого рапо́рта, Магнус Карлович, я от вас не приму. Еще не хватало, чтобы офицеры уходили из-за всякого вздора. Вы, естественно, формально правы – кто-то виноват в краже. Поскольку действительного вора не поймаешь – на точном основании закона отвечает старшина шлюпки… Я согласен с вашим мнением.
Он повернулся к Глебу.
– А ваше заключение, мичман, вычеркните из дознания и представьте мне дознание без всяких заключений. Извините, голубчик, – поспешно прибавил старший офицер, видя, как дернулось лицо Глеба, – но вы, в самом деле, еще молоды, и вам все представляется несколько проще, чем обстоит в действительности. Послужите – сами узнаете, какая чертова каша эта морская служба и как трудно справляться с командами. С каждым годом они становятся все хуже и дерзче. Я прямо не узнаю людей. Значит, пришлите мне дознание. А теперь, господа офицеры, вы свободны.
Глеб молча повернулся и выскочил в коридор офицерских помещений. Щеки у него горели, как будто кто-нибудь надавал ему звонких пощечин. Ненависть к дер Моону переполнила его сердце. Он вспомнил, как ревизор назвал его целомудренной Гретхен, и, побелев от злобы, оглянулся, ища глазами ревизора. Но, видимо, лейтенант, выйдя из каюты Лосева, свернул в другую сторону из благоразумия. Глеб прошел к себе, лег на койку, но дремать расхотелось. Перед глазами неотступно стоял Кострецов, такой, каким он был здесь, перед Глебом, окаменевший, сумрачный, тоскливо мнущий в руках скомканную фуражку.
* * *
Подсменные караула, коротая время, от скуки наливались чаем. Огромный, как бочонок, чайник красной меди стоял на столе караульного помещения.
Лица матросов были красны, как чайник, и тускловато блестели от пота.
Пили по пяти-шести больших жестяных кружек, до отвалу, но обычной болтовни сегодня не было. Люди точно прислушивались к заглушаемым стальными стенами корабельным шумам.
Они знали, что сейчас заседает корабельный суд. Полчаса назад, по приказанию караульного начальника, часовые вывели Кострецова из одиночного карцера в заседание суда.
От сознания того, что неподалеку за переборками решается судьба матроса, товарища, – люди, затаясь, бычились, глядели исподлобья.
И, когда по гулкому настилу издали загрохали шаги, все, как по команде, повернули головы в сторону коридора.
Между часовыми вышел Кострецов. В сочившемся больной желчью свете электричества поросшая небритой щетиной кожа его щек была бела как бумага, и под ней, вспухая волдырями, перекатывались желваки.








