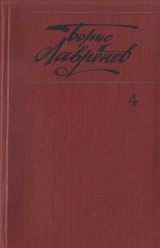
Текст книги "Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 46 страниц)
Глава четырнадцатая
ПЕРВЫЕ ТУЧИ
Твердовский ходил быстрыми шагами из угла в угол своей хибарки. Три шага туда, три обратно. Он кусал губы и хмурился. Иванишин стоял у стены, искоса наблюдая за атаманом с опечаленным видом.
Наконец Твердовский остановился и толкнул ногой мешавший табурет так, что тот полетел в угол хижины.
– Не сами они это придумали. Говорю тебе, не сами! Первое – мозгов бы у них на это не хватило, а второе – они люди честные. Не первую неделю работаем, и никогда ничего подобного не было.
Иванишин вздохнул.
– Да я ж те самое и кажу. Ясно, що не сами. А хто их поворачуе, бис зна.
Твердовский стоял, напряженно думая.
– Уж не Володя ли? – сказал он медленно. – Мальчишка так будто и ничего, боевик хороший, но только без правил. Сорвиголова и из барской семейки, привык к хорошей жизни, а принципов никаких. Боюсь, что это его работа.
– Мабуть, що так, – спокойно кивнул Иванишин.
Твердовский топнул ногой.
– Да что ты спокоен, как корова? Тут дело позорное, нас это погубить может, а ты головой киваешь.
Иванишин с тем же невозмутимым видом ответил:
– А що ж! Хиба ж лучше гонцювать, як журавль, по хати, та табуреты ломать. С того тоже проку не будет.
Твердовский вспыхнул, но вдруг расхохотался. Иванишин любовно взглянул на просветлевшего атамана.
– От так бы и давно. Покличь того Володьку да побалакай с ним, щоб бильш не баловал, тай усе.
Твердовский снова нахмурился.
– Я с ним за такие вещи пулей поговорю. Он проклянет тот час, когда в его дурацкую башку влезла эта мысль. Позови его!
Иванишин быстро вышел из землянки. Твердовский поднял табурет и сел. По лицу его скользнула гневная судорога.
Случилось так, что после налета на магазин Оловенникова трое дружинников пришли к Иванишину и заявили ему, что просят поговорить с атаманом, чтобы вся добыча делилась на две равные доли – половина атаману, пусть раздает ее кому хочет, а половина дружинникам.
– Мы тоже не дураки. Он себе девяносто долей берет. Кто его знает, может, он мужикам и раздает, а может, на черный день себе прячет. Тогда сбежит, а нас на расправу кинет.
Иванишин немедленно сообщил об этом неслыханном происшествии Твердовскому, и атаман пришел в негодование.
Дверь хибарки раскрылась, и в ней показался румяный и веселый, как всегда, Володя.
– Здорово, Иван Васильевич! Как поживаешь? – сказал он жизнерадостно.
– Поди сюда! Стань здесь, лицом к свету! – тихо сказал Твердовский.
Недоумевающий Володя подошел. Глаза Твердовского, как два гвоздя, воткнулись в голубые зрачки Володи. С минуту продолжался этот безмолвный допрос. Но в глазах Володи было только самое добросовестное недоумение и ни тени смущения или испуга.
– Это не твоя работа – требование, чтобы добыча делилась пополам между мной и дружинниками? – вдруг в упор спросил Твердовский.
Голубые зрачки раскрылись еще шире и заискрились гневом. Губы вздрогнули, и Володя резко сказал:
– Вот что! И вы меня подозревали в таком… в таком?.. Как вы могли? Я после этого часу не останусь в дружине.
Он повернулся и бросился к двери.
– Стой, дурак! – крикнул Твердовский, хватая его за плечо. – Чего обиделся, как девчонка? Нужно было спросить и спросил. А теперь мир, и никуда я тебя не отпущу. Давай руку!
Володя со слезами на глазах подал ему руку и сказал глухо:
– Я, если узнаю, кто это затеял, сам ему язык и глаза вырву!
Он хотел уходить, как в хибарку вскочила бледная, взволнованная и запыхавшаяся Тоня. Она остановилась у двери, зажав руками грудь, чтобы удержать сердцебиение.
– Тоня, что с тобой? Что с вами! – вскрикнули сразу Твердовский и Володя.
Твердовский взял жену за талию и усадил.
– Ну, что с тобой? Говори же!
Антонина робко взглянула на Володю. Твердовский понял ее взгляд.
– Что за секреты, говори при нем!
Антонина с испугом взглянула на дверь и заговорила шепотом:
– Ты знаешь, я вышла немного прогуляться по воздуху, зашла в гущу леса, там, где кустарники у ключа. Гуляю и вдруг слышу голоса. Я испугалась, думала, нас ищут, хотела бежать сюда, но они были близко. Я нырнула в кусты и сквозь ветки вижу – подходят четверо дружинников, между ними Шмач. Он сел на пень у ключа, и вот между ними начался разговор…
Она провела рукой по лицу, как бы отгоняя страшное видение, и продолжала:
– Всего я не расслышала, но только поняла, что Шмач хочет арестовать тебя и выдать полиции, а сам станет вместо тебя атаманом и за это обещает дружинникам, что всю добычу теперь будет получать целиком дружина. Двое соглашались, а двое несогласны, но он приказал им молчать, грозя, что убьет. Потом они ушли, а я прибежала сюда.
Она склонилась головой на стол и заплакала. Твердовский и Володя переглянулись.
– Выпей, дорогая, и успокойся, – проговорил Твердовский, подавая Антонине кружку воды, и продолжал, обращаясь к Володе: – Вот начались первые тучи. Ну, ничего. Мы еще поборемся. Прикажи всей дружине сейчас же собраться!
Володя кинулся из хибарки.
– Что ты хочешь делать? – вскочила Антонина и обняла Твердовского. – Не ходи к ним! Они тебя убьют.
– Ха-ха, – засмеялся он. – Кто кого! А вот ты не выходи и сиди здесь. Это будет представление не для твоих нервов.
– Ваня! – сказала она грустно. – Может быть, довольно? Может быть, пора тебе отстать, уехать куда-нибудь отдохнуть? Я чувствую, что собирается гроза над твоей головой. Что будет со мной без тебя, что будет с будущим маленьким?
Твердовский крепко обнял ее.
– Что ты? Помнишь, ты дала мне слово идти за мной всюду и не мешать мне. Борьба только начинается. Будь спокойна, не расстраивайся и не расстраивай меня. Сиди!
Он нежно усадил Антонину и, сунув в карман наган, вышел из хибарки. Все дружинники стояли на лужайке, недоумевая, почему их так спешно созвали. Твердовский подошел к ним и медленно прошел вдоль ряда, смотря в упор на их лица. Они провожали его глазами. Он прошел еще раз и остановился перед Шмачом.
– Здравствуй, Шмач! – сказал он. – Помнишь, как мы с тобой встретились впервые? Тогда ты полез на меня и был наказан. Теперь ты опять против меня, и вот тебе…
Ближайших дружинников обдало пороховой гарью и брызгами из раздробленной головы Шмача. Он рухнул, как подрубленный, к их ногам. Все отшатнулись.
– А теперь, – крикнул Твердовский, держа высоко поднятый наган, – выходи двое, которые с ним сговаривались меня арестовать. Выходи, прохвосты!
В молчании дружинники смотрели друг на друга. Один, дрожа, сделал шаг вперед, другой попытался улизнуть за спины товарищей, но Володя вытолкнул его.
– Вас бы тоже следовало перехлопать, как заразу, – сказал Твердовский, водя наганом перед посерелыми от страха лицами, – но черт с вами! Подавитесь своей предательской жизнью! Только, чтоб больше я вас никогда в жизни не встретил, иначе вам крышка. Вон, сукины сыны!
Дружинники медленно разошлись. Твердовский и Иванишин обыскали тело Шмача. В поясе нашли большую сумму золотых пятирублевок, а в подкладке одежи – тщательно свернутую бумагу. Это оказалось удостоверением жандармского правления на имя властей, что бывший каторжанин Шмач задержанию не подлежит, так как действует по заданиям жандармерии и является сотрудником управления.
– Ого! Мало, що июда, так ще и шпик, – сказал Иванишин.
– Я это подозревал, – отозвался Твердовский.
Через два дня на окраине города полицией было найдено тело Шмача. Рот его был набит золотыми монетами, а к куртке приколота записка: «Иуда и сребреники возвращаются за ненадобностью».
Глава пятнадцатая
ГРОЗА НАДВИГАЕТСЯ
Прошло две недели. Дружинники отдыхали, готовясь к новым ударам, а сам Твердовский занялся новой работой. Вместе с Иванишиным он ездил по селам, под видом прасола, и организовал на местах маленькие повстанческие крестьянские ячейки, снабжая их оружием и инструктируя. На все просьбы вербуемых принять их в дружину Твердовский отвечал решительным отказом:
– Рано. Когда нужно будет, я вас всех позову. А теперь мне нельзя увеличивать чрезмерно отряд. С маленькой дружиной я подвижен. Сегодня здесь, завтра там – пойди угоняйся за мной! А большой отряд будет громоздок и слишком заметен. Вы принесете свою пользу и так.
Эти маленькие партизанские ячейки сделали, однако, то, что последние помещики, еще остававшиеся в своих имениях, бросили их на произвол судьбы и бежали в город. Вся губерния была охвачена страхом.
Твердовский радовался.
– Хорошо идет дело, Степан, – говорил он Иванишину, – скоро в другую губернию надо будет перебрасываться. Так губерния за губернией и всех помещиков загоним до самого Питера.
Иванишин скептически качал своей лохматой белокурой головой:
– Дай боже нашему теляти вовка зъисть. Больно здорово мы начальству поперек горла стали, а у царя ще силы много.
Опасения Иванишина неожиданно подтвердились в одно апрельское утро.
На рассвете дружинники, стоявшие секретами в лесу, заметили на горизонте цепочки людей. Только что поднявшееся над верхушками деревьев весеннее яркое солнце освещало эти цепочки, движущиеся по направлению к лесу, и играло розовыми блестками на каких-то металлических иглах, несомых приближающимися людьми.
Один из часовых приставил руку козырьком к глазам, вгляделся и засвистал:
– Эге, – проворчал он, – москали. Мабуть цела рота, ишь штыки як блискають.
Секрет бесшумно снялся и отполз к стану. Часовые разбудили Твердовского и сообщили об опасности. Он вскочил на лошадь и помчался к опушке в сопровождении Иванишина и Володи. Вынув бинокль, он долго и беспокойно вглядывался.
– Да это не стражники. Это солдаты. Их около двух рот. Видите, как они заходят полукругом с флангов. Нечего делать. Боя с ними нам не выдержать. Надо уходить. Степан, возьми пятерых человек, скачи с ними на тот край леса и отходите влево по чаще, отстреливаясь. Пусть они туда лезут всей силой и упрутся в болото.
А вы как перейдете через трясину по нашей тропке, то поворачивайте назад в Глуховский лес. Там свидимся.
А мы с остальными сразу пойдем туда правой дорогой, чтоб на них не нарваться.
Иванишин стегнул коня и исчез. Твердовский в хмуром раздумье медленно доехал до стана и бросил последний взгляд на убежище, которое сослужило хорошую службу в течение зимы и которое приходилось теперь навсегда покидать. Он разбудил спящую еще Антонину и приказал ей быстро собираться.
– Уходим. Торопись! Солдаты идут, – сказал он ей и приказал подавать лошадей.
Через несколько минут, когда все несложные пожитки были собраны и увязаны во вьюки, слева, со стороны болота, грянуло несколько выстрелов. На них ответили другие, потом ударил ровный залп, а за ним затрещала стрельба пачками.
– Здорово! Молодчина Степан! – засмеялся Твердовский. – Он их запутает теперь в кашу.
В молчании тянулся по лесу маленький отрядик Твердовского, а с холма за ним поднялись пламя и дым подожженной хибарки и землянок.
Вдруг Твердовский, ехавший во главе отряда, насторожился и, подняв руку, остановил остальных.
– Ветки трещат, слышишь, – обратился он к Володе, – кто-то пробирается по лесу.
Действительно, сбоку потрескивали ветки, раздвигаемые тяжелым телом.
– Осторожно! Зарядить винтовки! – крикнул Твердовский.
Щелкнули затворы. В полной тишине отряд, не сводя глаз с лесной гущи, тронулся дальше. Треск веток приближался, наконец Твердовский, вскинув маузер, окликнул:
– Кто там лезет? Выходи!
В ту же минуту кусты раздвинулись и в них показалась морда лошади с белой звездочкой на лбу, а над ней фигура всадника в форме стражника.
– Стой, – сказал Твердовский, направив маузер в лоб стражнику, – слезай с коня! Заблудился, дядя, не туда попал.
Ко стражник, не показывая никакого страха или смущения, снял фуражку и спросил:
– Ежели вижу господина Твердовского, то, значит, попал в самую точку. У меня для вас есть записочка от господина пристава Хаджи-Ага.
Он расстегнул куртку на груди и вынул оттуда конверт.
– Занятный почтальон и, можно сказать, вовремя, – засмеялся Володя.
Твердовский разорвал конверт и углубился в чтение письма.
«Господин Твердовский, – писал пристав, – я честный человек и держал свое слово не преследовать вас иначе как для отвода глаз. Да мне и незачем делать это, я человек бедный, и вы очень помогаете мне и моему семейству. Но теперь я должен вас предупредить, что я больше ничего сделать не могу. По приказу из Петербурга против вас двинуты солдаты под командой чинов жандармского управления. Я мог бы, конечно, умолчать об этом, но так как я в настоящее время сильно нуждаюсь, а с вами иметь дело выгодней, чем с моим начальством, то я посылаю эту записку, чтобы предупредить вас. На вас отправлен целый батальон, и полковник поклялся вас поймать. Поэтому уходите возможно скорее в какое-нибудь другое место, потому что один из прогнанных вами дружинников из желания отомстить выдал ваше убежище. Ваш покорный слуга. Х.-А.»
Твердовский сложил записку и взглянул на посланного.
– Что ж ты, собачий сын, опоздал? Ты б еще завтра приехал.
– Так что простите, господин Твердовский. Вчера по дороге выпил в корчме, проспал маленько.
Представитель стражи, извиняющийся перед разыскиваемым Твердовским за выпивку и опоздание, был так смешон, что Володя и Антонина разразились хохотом.
Твердовский тоже засмеялся.
– Ну, ладно! Выпил так выпил. Вот тебе еще на опохмелку! И скажи спасибо приставу. Кстати, я слыхал, что у него сын родился?
– Так точно! – гаркнул стражник, повеселев. – Позавчера крестили.
– Отлично! Так вот передай господину приставу от меня на зубок новорожденному, – захохотал Твердовский, вынув из бумажника сторублевку и подавая стражнику. Тот сунул ее за пазуху и козырнул.
– Премного благодарны… ваше… господин Твердовский, – сказал он, чуть не брякнув от радости «ваше благородие», и, повернув коня, исчез в лесной чаще.
Отряд, проводив его хохотом, пошел дальше.
К вечеру добрались до Глуховского леса, необитаемой столетней чащи, и остановились на привал. Володя неистово ругался, что приходится ночевать прямо в лесу, под открытым небом, и проклинал всех солдат и жандармов на свете.
Разожгли костры и на треножниках варили кулеш. Для Антонины натаскали мелкого хворосту и веток, положили сверху войлок и разбили над ним шалаш. Ночь была холодная. Антонина дрожала под одеялом. Твердовский сидел возле нее и грел ее руки, растирая их. Лицо его было сумрачно и тревожно.
К полуночи появился Иванишин с дружинниками. Они, как и было условлено, завели преследующих солдат в болото, а сами ушли по тайным тропкам кружным путем. Но в перестрелке с солдатами они потеряли одного дружинника, двоюродного брата Иванишина, Кирилла. Солдатская пуля пронизала ему череп. Прослушав доклад Иванишина, Твердовский еще больше нахмурился.
Кирилл был первой потерей дружины за все время. Казалось, счастливая звезда начала изменять Твердовскому. Он опустил голову на руку и глубоко задумался. Дружинники в молчании тревожно следили за движениями атамана. Наконец он встал.
– Так нет же, черти полосатые! Рано обрадовались. Мы еще поборемся! – крикнул он и подошел к Антонине.
– Тоня, завтра я отправлю тебя с Володей в город. Будешь пока жить там.
– Опять расставаться? – грустно сказала она со слезами на глазах.
– Ничего не поделаешь. Так нужно. В таком состоянии я не могу обречь тебя на бродячую жизнь, на опасность попасть под пули. Вспомни, что ты носишь ребенка.
Она молча потупилась и тихо прошептала:
– Ну, что же, если нужно, я поеду.
Красная тяжелая луна всходила над лесом. Дружинники спали, завернувшись в чапаны у костра.
Глава шестнадцатая
КАПКАН
В заречной слободке губернского города, заселенной рабочими, напротив пивной, под покосившейся дверью одноэтажного флигелька, приютилась незамысловатая вывеска «Ружейных и иных дел мастер Кузьма Форапонтов».
За дверью, в закопченной комнате, где в углу валяются всегда груды железного лома, пружин, винтов, старых стволов и прочей рухляди, где пахнет нашатырем и кислотой, заседает на окошке у табурета сам ружейных дел мастер Кузьма Форапонтов. Седые вихры торчат во все стороны на его редькообразной голове, козлиная бородка трясется во время работы, а маленькие глазки находятся в безостановочном движении и никогда не смотрят в лицо собеседника, а всегда куда-то в бок.
Жители слободки недолюбливают Форапонтова, и ребята рабочих считают самым большим удовольствием, подкравшись тихонько в сумерках, запустить галькой в стекла форапонтовских окон. Причины этой нелюбви туманны и неопределенны.
В девятьсот пятом году, когда на заводах кипели забастовки и организовывались дружины рабочей самообороны, мастер Форапонтов был одним из самых ярых крикунов и ругателей власти. Мастер Форапонтов изрыгал проклятия против властей и призывал расправляться с ними без пощады.
Он организовал боевую группу террористов из молодых рабочих и послал их с бомбами на прокурора судебной палаты, но, к несчастью, террористы, ожидавшие выхода из квартиры прокурора, были захвачены жандармерией на месте после перестрелки и погибли на виселице.
После, когда приутихла революционная буря, потушенная потоками свинца и ударами казачьих нагаек, на заводах в течение недели были арестованы все руководители эсдековских и эсеровских организаций. Арестовали и Форапонтова.
Все получили по несколько лет каторжных работ, Форапонтова же освободили под надзор полиции, за преклонным возрастом и болезненным состоянием. Вскоре после этого Форапонтов ушел с завода, купил себе флигелек тут же в слободке и открыл свою мастерскую. И хотя все это еще не давало повода обвинять в чем-нибудь «старого козла», но почему-то общее отношение к нему стало недоверчиво-презрительным. Над ним посмеивались, но и побаивались его. В разговоры с ним никто не вступал, да он и сам не проявлял к этому желания и так и жил в своем флигельке угрюмым и молчаливым бобылем. А мастер он был прекрасный и работал на славу. Даже важные и богатые обыватели-охотники предпочитали чинить свои ружья у Форапонтова и не раз спрашивали, почему он не откроет мастерской в центре города, но старик с лукавой усмешкой отвечал всегда:
– Здесь среди рабочих я родился, тут и помру.
К этому относились, как к капризу чудаковатого старика, и покорно ходили к нему на окраину.
В это утро Форапонтов сидел над починкой сломанной двустволки акцизного инспектора. Он низко согнулся над тисками и, подпиливая напильником зажатый болт, тихонько насвистывал.
В это время на противоположной стороне улицы показался высокий человек в форменной шинели и фуражке судейского ведомства. Он неторопливо шел по тротуару, поглядывая по сторонам. Навстречу ему шел пожилой рабочий. Высокий вежливо прикоснулся к козырьку фуражки и что-то спросил. Рабочий показал пальцем в сторону флигеля Форапонтова. Высокий поклонился и пошел через улицу, как раз в тот момент, когда мастер, подняв голову от тисков, заметил его на улице.
Спустя немного дверь мастерской визгнула на блоке, и посетитель вошел.
– Скажите, здесь живет мастер Форапонтов? – спросил он.
Старик открыл рот, чтобы ответить, но продолжал сидеть, безмолвно смотря на посетителя. Очки его как-то внезапно сползли на кончик носа. Посетитель улыбнулся.
– Вы, верно, и есть Форапонтов? – добавил он.
Старик точно очнулся от дремоты и привскочил.
– Прошу прощения, господин, глазами я слаб стал. Это точно я. А чем могу услужить вашей милости?
Вместо ответа посетитель развернул сверток газетной бумаги и положил перед мастером большой маузер в деревянной кобуре.
– Боевая пружина сломалась, – сказал он, – нужно поставить новую. Только прошу не задержать, он мне сегодня будет нужен, я еду в командировку.
Старик покачал головой.
– Трудненько сразу. Может, подходящей пружины не будет, придется в город сходить… А вы из нашего города будете?
– Да, – односложно отозвался заказчик.
– По судебному, значит, ведомству, – продолжал мастер, – куда ж это вас в командировочку посылают, уж не Твердовского ли ловить? – закончил он, ласково глядя на посетителя через очки снизу.
Губы посетителя дернулись недовольной и странной усмешкой.
– А вы любопытны, – ответил он, – но только напрасно. Командировка секретная и вам вовсе ни к чему знать.
– Да я так, – смешался старик, – больше от скуки. Живешь тут на краю города, скучно. Только и развлечения, что с заказчиком поговорить. А уж если вам так к спеху – не беспокойтесь, часам к семи вечера сделаем. Два рублика.
– Хорошо! Я зайду, – отвечал заказчик и, не прощаясь, вышел. Старик посмотрел ему вслед, прикрыл неплотно запахнутую дверь и пошел в заднюю комнату. Оттуда он вышел обратно в мастерскую с листом газеты, развернул его и долго во что-то вглядывался. По губам его проползла полуулыбка, полугримаса. Он бережно спрятал лист и взялся за маузер. Он переглядел все пружинки, лежавшие в особом ящике некрашеного шкафа, и с недовольным видом встал.
– Бес экий! Придется в город гнать. Нет подходящей.
Он нахлобучил на голову картуз, вышел на улицу, навесил замок на двери и пошел по улице мелкой старческой побежкой.
Вернулся он совсем к вечеру, была половина седьмого. Зажегши керосиновую лампу, он снова уселся на табурет, вынул из кармана сверточек, развернул его, достал пружину, пощупал ее рукой, пробуя ее упругость, и, придвинув разобранный револьвер, вынул из него затвор и, завинтив в тиски, стал примерять пружину.
Работал он неторопливо, внимательно, так же, как и утром, тихо насвистывая «Во субботу день ненастный», и моментами останавливался, как будто прислушиваясь к звучанию мелодии.
Ровно в семь часов у крыльца по тротуару застучали шаги, и щеколда двери несколько раз поднялась и звякнула. Старик поглядел на дверь и спросил…
– Это я, – ответил голос, – утренний заказчик, пришел за револьвером.
Форапонтов неторопливо поднялся и отодвинул щеколду. Вошел тот же высокий в судейской форме.
– Ну, как, готово? – спросил он.
– Повремените минутку, господин! Верите, цельный день пробегал по городу, искавши пружину, и вот только что нашел. Револьвер, можно сказать, редкой системы, ну и не сразу найдешь. А вы присядьте, я при вас минут за десять сработаю.
Он пододвинул заказчику табурет, тот сел, заложив руки в карманы, и зевнул.
Форапонтов ковырялся в револьвере, что-то бурча. На улице, за дверью, пронесся порыв вечернего ветерка, зашелестели густолиственными шапками акации. Мимо дома простучали по тротуару чьи-то шаги. Форапонтов еще ниже склонился над револьвером и внезапно заговорил быстро и торопясь.
– Собачья наша жизнь, господин. Цельный день работаешь, работаешь, а едва на пропитание заработаешь, – он говорил, и вид у него был странный, будто слова бегут с губ совершенно независимо от мыслей, а мысли где-то за пределами комнаты ловят какие-то дальние звуки.
Он закрыл затвор и щелкнул им. Подал заказчику с прояснившимся лицом:
– Ну, теперь готово. Получайте.
Заказчик завернул маузер в бумагу и полез в карман за кошельком. Он вытащил его, раскрыл, доставая деньги, и в это мгновенье Форапонтов громко, напруженным и визгливым голосом, почти прокричал:
– Прибавить надо, ваша милость!
Заказчик с удивлением вскинул на него глаза, но сейчас же услыхал, как за его спиной с грохотом распахнулась дверь. Он обернулся и увидал впирающую в комнату через узкое отверстие двери толпу жандармов.
В мгновение поняв все, отбросив ненужный, незаряженный маузер, он вырвал из кармана браунинг. Треснул короткий выстрел, передний жандармский унтер рухнул на пол. Рука вытянулась для вторичного выстрела, но тут же бессильно упала от удара ружейным стволом, нанесенного сбоку Форапонтовым.
Жандармы навалились кучей, стол опрокинулся, лампа погасла.
Когда кто-то вновь дрожащими пальцами зажег лампу, заказчик Кузьмы Форапонтова лежал на полу, связанный по рукам и ногам. Жандармский ротмистр нагнулся над ним:
– Вы Твердовский?
И даже отступил на шаг, обтирая плевок, попавший ему в лицо.








