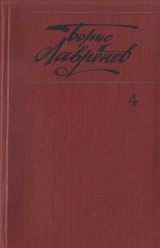
Текст книги "Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 46 страниц)
Глеб даже попятился. Не ослышался ли он? Нет… Эти невероятные слова о России, о любимой родине, за которую Глеб действительно готов умереть, – сказаны. Их эхо еще звенит в углах комнаты, оседая ядом. Нужно сделать сейчас же, не медля ни секунды, что-то решительное, чтобы положить предел этому бреду.
Глеб вытягивается во весь рост, отбрасывая назад голову (так, кажется, делали все великие патриоты, когда при них оскорбляли родину), и, шагнув к двери, с силой открывает ее настежь.
– Господин Фоменко («так, так… жестче, унизительней»)… я не доносчик… я офицер («не важно: гардемарин – тот же офицер»), наконец, к сожалению, между нами годы детской дружбы. Этот разговор не перейдет за стены моей комнаты («да, да, благородство»), хотя вы заслуживаете самого сурового отношения… Все останется между нами, но я требую, чтобы вы моментально покинули наш дом. Извольте больше не появляться…
Голова откинута до отказа, рука вытянута в пролет двери, все сделано великолепно и с достоинством. Но почему же этот отвратительный изменник, предатель родины, ничуть не смущен? Он флегматично берет с подоконника свою мятую фуражонку и беспечно, вразвалку, направляется к двери.
В ее пролете он останавливается. Улыбка силы и превосходства освещает его лицо.
– Второй раз убеждаюсь, что ты идиот. Жалко. Будь здоров, глупей дальше.
Дверь захлопывается с лязгом, похожим на удар по лицу. Что делать? Броситься? Догнать? Ударить?
Поздно. Глеб в ярости рвется к окну, чтобы бросить сходящему сейчас с подъезда Фоменко что-нибудь невыносимо оскорбительное, но в гневной стремительности налетает коленкой на стул. От сильного взмаха другой ноги стул испуганно летит по полу и болезненно крякает ножками, грохнувшись о стену.
Глеб стоит посреди комнаты, стиснув рукой ушибленное колено, и шевелит губами. Беззвучная река концентрированной боцманской матерщины льется с них, пока не иссякнет боль – источник необузданного бешенства. Глеб кидается на диван, терзая пружины. Ему хочется завыть от не излитой еще досады.
Ах, Шурка Фоменко! Какой вы неопытный еще и наивный пропагандист! Как мало вы натасканы в социальной психологии! Разве можно невинной девушке в шестнадцать лет объяснить половые отношения так сразу, здорово живешь, теми точными словами, которые украшают российские заборы? Чистое сердце сожмется от ужаса и грубости жизни, и девушка может покончить с собой. Разве можно невинному в мыслях гардемарину, производства морского корпуса, так неосторожно, грубо, без предварительного массажа гардемаринских мозгов, открыть тайное тайных, о котором он никогда не слыхал, от которого его оберегали, как оберегают в лаборатории точнейшие весы от проникновения в колпак обыкновенного воздуха, который может незримыми глазом частичками пыли склонить чашки весов, испортить агатовый, острый как бритва, сердечник. Так нельзя, Фоменко! На каждый отдельный случай нужны особые методы агитации. Жизнь должна научить вас этому.
Сумерки в комнате тягуче густеют, как выставленное на холод желе. Они обволакивают Глеба успокоительной тишиной.
– Нет… Какая сволочь! – произносит Глеб вслух. – Хорошо, что по существу мы разошлись уже давно. Социал собачий!
Желтый язычок спички жадно слизывает заусеницы табака на размятой папиросе. Табак действует на вздыбленные нервы, как валерьянка.
Кукушка в столовой кукует восемь раз. Пойти погулять? Кстати, можно зайти к Мирре, справиться – не приехала ли? Хотя, раз с утренним поездом не было, значит, до завтра не будет. А как хочется сейчас увидеть Мирру, рассказать о своем томлении, прикоснуться к милым тоненьким рукам!
В голубоватом дыму комнаты Мирра встает перед Глебом живая, нежная, желанная. Глеб вертится на диване. Нужно идти. Со всем этим с ума сойдешь.
За тонким скрипом двери в комнату вплывает бесшумная тень матери. Вот не вовремя! Глеб выжидательно молчит.
– Глебка, иди чай пить. А где же Шура? Почему ты отпустил его без чаю?
Не нужно, чтобы мать знала о происшедшем. Глеб чувствует, что что-то было сделано не так, как нужно, нелепо, топорно. Мать разволнуется, пожалуй, опять начнутся слезы.
– Шурка куда-то торопился… кажется, на урок, – неуверенно врет Глеб и встает. – Ты не беспокойся, мама, я тоже не хочу чаю. Пойду пройдусь, голова трещит от духоты.
Мать уходит. Глеб поворачивает выключатель. Молочный холод электричества вносит в комнату ясность и успокоение.
Глеб тщательно причесывается, математически точно прокладывая пробор, как курс на карте. Берет со стола граненый флакон «Divinia». Две капли – на платок, каплю – на подбородок и шею. Запах должен быть зыбок, чуть уловим. Сильно душатся только приказчики.
* * *
Глеб замедленно прошел мимо окон. Они были темны, в доме не чувствовалось жизни. Можно было позвонить и спросить у прислуги, но зачем звонить? Ясно – не приехала.
Он хмуро повернул и рассеянно пошел по улице вниз, к реке. У входа в парк его окликнул женский голос.
– Вы к Лихачевым? – спросила Лида Кавелина, подходя.
– Нет. Просто гуляю. У меня голова болит.
– Проводите меня, – сказала Лида, пристально взглянув на Глеба. Они пошли аллеей.
– У Лихачевых заинтересованы, куда вы пропали? Пять дней не появляетесь, словно уехали из города.
– Неужели моя особа так интересна, что ее исчезновение вызывает переполох? – скривился Глеб.
По удивленному взгляду Кавелиной сообразил, что ответ прозвучал вызывающе. И, как бы в подтверждение, Кавелина сказала с подчеркнутым холодком:
– Вы позволите, Глеб, быть с вами откровенной? Мы знакомы, кажется, с пятилетнего возраста, когда вас и меня няни выводили гулять на бульвар. Это дает мне право считать вас не чуждым… По-моему, вы начинаете делать глупости.
Глеб понял… Сдерживая себя, молчал, по горло уже сводили мелкие судороги бешенства. Не хватало еще нотаций от девчонок!
– Нет тайного, которое не стало бы явным, – продолжает Кавелина, не замечая опасности. – Многое было ясно еще до прогулки, а сейчас… да вы сами отлично понимаете. Если бы это был флирт, я не стала бы говорить. Но ведь вы теряете голову. Я только хочу вас предостеречь. Не можете же вы забывать, кто вы и кто она…
– Простите, Лидия Александровна, – Глеб остановился, – я не совсем вас понимаю. О чем вы говорите? Кто – она?
– Не притворяйтесь, Глеб. Вы прекрасно знаете, что я говорю о Мирре. Смешно так вызывающе демонстрировать ваше отношение к ней. Подумайте о вашей репутации. Ей такое внимание, конечно, лестно – она на седьмом небе. Какой повод для разговоров в их кругу – свела с ума самого блестящего юношу в городе, да еще русского! Какая гордость для наследницы биржевого жулика, жидовки!
А… Вот оно сказано опять, это слово… Грязной пеной оно сползло с брезгливо поджатых губ вздорной кокетки, будущей полковой Клеопатры, усладительницы желторотых подпоручиков. Под прижженными щипцами локонами, придавившими лоб, глаза вспыхивают тупой ненавистью. О ком сказано это так нежданно, омерзительно прозвучавшее слово? О Мирре? Хорошо же!
Собрав всю силу прихлынувшей злобы, Глеб смотрит на Кавелину так, будто увидел ее впервые, будто перед ним какое-то паскудное насекомое.
– Я чрезвычайно благодарен вам, Лидия Александровна, за внимательное отношение к моей чести и репутации, – тон Глеба становился нагло ледяным, – но зачем вы так стараетесь? Это роковое заблуждение. Я не любитель стиля «рюсс». Если вы рассчитываете на меня как на жениха – это недоразумение… Такая перспектива меня не соблазняет…
– Вы с ума сошли, – растерянно шепчет Кавелина.
– Никак нет. А если вы действуете за других – тем хуже. И я никому не позволю так говорить о Мирре… Тем более вам. Имею честь кланяться.
Он поворачивается и покидает ошеломленную Кавелину. Его душит смех и ярость вместе. Если бы на месте Кавелиной был мужчина – он избил бы его и дал выход всей тяжести, накопившейся за эти дни. Но и так отлично. Корабли сожжены.
Глеб быстро идет домой, стиснув челюсти. Голова кружится, тело бросает то в жар, то в холод, как в пароксизме малярии. И еще эта угнетающая жара, безветрие июльской ночи и отрава акаций… Скорей домой, принять холодный душ, успокоиться.
Глеб вскидывает голову. Прямо против него дом Мирры.
Бред, что ли? Окна столовой освещены. Наверное, прислуга возится по хозяйству и зажгла свет. Но уже ноги сами переносят Глеба на другую сторону улицы. У окна он подымается на цыпочки, затаив дыхание, заглядывает внутрь.
У освещенного стола кресло с высокой спинкой. В нем кто-то сидит. Глеб не видит, но чувствует за овальным кожаным щитом человека. На столе вазочка с печеньем и чашка чаю. Кто это? Глеб недвижно и неслышно смотрит, боясь шевельнуться. Запрокинутая голова затекает кровью, но сидящий должен же когда-нибудь обнаружить себя.
И внезапно из-за спинки кресла к чашке протягивается рука – тоненькая, смуглая, трогательная.
Больше невозможно молчать.
– Мирра!
Оклик робок и тих, но кресло резко отодвигается, девушка вскакивает и поворачивается к окну. На ней домашний японский халатик. Испуганный и радостный взгляд в окно.
– Кто?.. Глеб!
И когда Глеб слышит этот возглас, приподнятый, как музыкальная фраза, радостью и нежностью, он забывает обо всем. Забывает, что существуют двери, что с улицы могут увидеть, что в доме, может быть, есть кто-нибудь из старших или посторонних. Но он слишком долго ждал.
Быстрый рывок тела на руках, как учили подтягиваться по шторм-трапу, – и сразу на подоконник. Во весь рост на окне, прыжок в комнату, в теплоту, электрический блеск, сияние глаз, во встревоженно-радостный смех, в распахнувшиеся смуглые руки.
– Глеб… Глупый… Что с тобой?
Слова колотятся, как в падучей, одно налетает на другое:
– Шестой день… ждал… сам не думал, что так будет… Может быть, глупый, сумасшедший… но третий раз сегодня у твоих окон…
Мирра опускается в кресло. Глеб видит, как под легким дымом ресниц глаза ее медленно наливаются, как чистой и крупной слезой, – любовью. Он становится на колени и зарывает голову в душистые складки халатика, в единственное в мире целительное тепло, в котором тонут все обиды и горечь этих дней.
* * *
Желтый чемодан, распластавшийся на диване, жадно разинул пасть и глотал злобно запихиваемое Глебом белье и платье. Его кожаные челюсти сошлись только под сильным напором обеих рук – брюхо набилось до отказа. Наконец, закрытый насильно, чемодан вспух верхней крышкой, как обожравшийся, и сердито заблестел никелированными глазами застежек.
Глеб вытер платком взмокший лоб, огляделся. Кажется, все уложено.
Комната потеряла интимную прелесть жилья, уюта и покоя. Хотя за окном по-прежнему бесноватое июльское солнце, в комнате, как будто пасмурно, она стала нежилой, топорной, холодной. А еще вчера…
А, да что жалеть о комнате, когда весь мир внезапно лишился прелести уюта и беззаботности, когда в одно мгновенье разрушилось, взорвалось, стерто тяжкой сокрушающей лавиной мирное благополучие не только его, Глеба, но и всей страны, всех стран.
Разве не об этом кричит принесенная ночью телеграмма, валяющаяся на полу возле дивана? Даже внешний вид этого смятого листка говорит о неблагополучии, о предвестии катастрофы. На нем наглая разбрызганная чернильная клякса, ленточка текста наклеена криво, грязные подтеки клейстера выползают из-под нее. И плохо отпечатанные рваные буквы похожи на разорванные мысли.
«Приказу прекращении всех отпусков предлагается безотлагательно прибыть корпус пятнадцатого июля».
В этом коротком, безусловном, точно железном тексте не было бы ничего угрожающего при других условиях. Мало ли почему могут быть прекращены отпуска! Найдется ряд причин, от внезапного назначения отряда в заграничное плаванье до насморка морского министра и связанного с ним дурного настроения, чтобы лишить злосчастного гардемарина заслуженного отдыха.
Но то, что вертится небывалым, сокрушительным, грохочущим вихрем вокруг этого серого бумажного обрывка с подтеками клейстера, говорит о наступающей неизбежной грозе.
Сараевский мертвец, эрцгерцог Франц-Фердинанд восстал из гроба, вышел из пышного склепа феодального замка и триумфально взошел на престол повелителя мыслей взбудораженной и смятенной Европы. Его воскресение и воцарение было молниеносным и неожиданным для уже успокоенных народов. Взмахами скипетра двуединой монархии, зажатого в синей руке, он властно дирижирует чугунно громыхающим оркестром дипломатических нот и ультиматумов. Уже лязгнули медным дребезгом боевых литавр и раскатились тревожной дробью барабанов десять требований австрийского ультиматума Сербии.
Уже в ответ на эти десять требований его императорское величество император и самодержец всероссийский Николай Вторый объявил устами министра иностранных дел, что Россия не может оставаться равнодушной к судьбе единоплеменной маленькой Сербии.
И взбесившиеся перья газетчиков окунулись, как в чернила, в этот верховной властью брошенный лозунг. Газеты банков, майоратов, биржи и верноподданной профессуры ежедневно швыряют в массу взволнованного населения стотысячные тиражи экстренных телеграмм, как горящие факелы в бензин.
Кругами по воде разбегаются, ширясь и вырастая до неправдоподобия, громовые новости, сталкиваясь, переплетаясь и оплетая обывательские мозги сложной сетью лжи и науськивания. И за их будоражащей шумихой идет неслышная, безостановочная и таинственная работа направляющих сил. За пышными потоками великолепного красноречия передовиц о патриотизме, чести, национальном достоинстве, священности договоров, неприкосновенности прав и суверенитете малых народностей встают тщательно замаскированные гигантские черные тени генеральных штабов, картелей, концернов и синдикатов.
В торжественную, чистую, как хрусталь, как душа государства, музыку национальных гимнов незаметно, но настойчиво начинают вторгаться побочной темой пронзительные, нахальные торгашеские визги колониальных рынков и сфер влияния. Гулкие тромбоны тяжелой металлургии и военной промышленности сопровождают истерический звон марсельезы, церковное велелепие «Боже, царя храни» и уверенные аккорды «Рейнской стражи». Они торопятся заглушить устарелые средневековые мелодии, и учтиво улыбающийся в седые усы румяный апостол юного российского империализма профессор Павел Николаевич Милюков вынужден стыдливо прикрывать занавесом из газетных статей, посвященных великой теме объединения славянства, бесстыдно вылезающие из-под подола оскорбленной сербской невинности крепкие кирпичные ноги минаретов святой Софии и натекшую под ними соленую лужу проливов.
Этого нескромного зрелища не должен видеть до поры до времени гражданин Российской империи. Он должен лишь верить беззаветно и безоговорочно в то, что великая Россия не может оставаться в стороне, когда идет спор о духовном первенстве, о борьбе за приоритет двух искони противостоящих друг другу миров – славянского и германского. На стороне первого – сила права, на стороне второго – право силы. Дух против материи. Гражданин России должен быть готов выполнить исконную историческую задачу страны – объединение всего славянства под сенью двуглавого орла. В необходимости этого объединения вождь просвещенного русского либерализма профессор Милюков полностью солидаризировался с черносотенным генералом Пороховщиковым, выпустившим на ту же тему брошюру под странным заглавием: «Как объединить все народы под сенью двуглавого орла, если в мире нет такой птицы».
Каждый русский гражданин должен быть готов в любое время принести на алтарь этой исторической миссии и свои сбережения, и свою жизнь. В этом уверен профессор Милюков, в этом уверены верхи русского общества, в это веруют, как в символ веры, офицерские чины армии и флота. В это верит Глеб. И если в стране есть несчастные отщепенцы, отступники национального величия, вроде Шурки Фоменко, заразившиеся от гнилого Запада гнилыми социальными идеями, гибельными для русской самобытности, то эти жалкие элементы будут своевременно и быстро изъяты соответствующими инстанциями.
Согласный хор газет, от откровенно зоологической «Земщины» до кокетничающих оппозиционностью «Русских ведомостей», внезапно утратив индивидуальные тонкие различия, запел в унисон. Из тюков газетной бумаги воздвигается непроницаемая китайская стена между глазами русского обывателя и огромной сценой страны, на которой, за театральным бенгальским огнем парадов, черным дымом и густыми кровавыми языками начинает полыхать кипящее пламя революции, швыряя в скрипящие колеса государственного механизма грузные головни стачек и забастовок.
Нужно оттянуть жар от больного места, нужно пустить мечущейся в красной малярии стране дурную кровь по старому рецепту коновальской медицины, освободить вздутые политические вены нации от чрезмерного напора, грозящего внезапной эмболией.
Если народ готов проливать свою кровь, необходимо сделать все для того, чтобы эта кровь проливалась за идею отечества, а не против нее. Если миллионный лес натруженных мозолями рук жадно тянется к штыкам, нужно дать им эти штыки, но благодетельно и мудро направить их натиск в полезную для родины сторону. Кровь народа, как и его пот, должна быть рентабельна. Пролитая во имя революции, она приносит только убытки, выпущенная за торжество национальной идеи, она может быть зачтена в уплату процентов по долгу доблестной демократической союзнице русского самодержавия, мировой ростовщице, третьей французской республике, национальные задачи которой так счастливо и своевременно совпадают с национальными задачами России.
Платить проценты кровью народа, втиснутого в ярмо серых шинелей, в хомуты походных ремней, куда проще и выгоднее, чем полновесным и звенящим сибирским золотом с Кутума и Алдана. Кровь, идущая в уплату процентов по имперским долгам, не требует особых расходов на добывание, не нуждается в страховке и перевозочных фрахтах. Она даже остается в стране и может служить отличным туком для удобрения тех полей, которые станут собственностью русской державы в результате победоносной войны. Она дешевле фосфоритов и селитренных солей, хотя содержит их в своем составе в достаточных для практических надобностей пропорциях.
При таких перспективах Россия не может уступить наглым притязаниям Австрии, и всероссийский самодержец, царь польский и великий князь финляндский, царь сибирский и астраханский, всея Великия, Белыя и Малыя Руси повелитель и прочая и прочая, готовится призвать божие благословение на доблестную свою армию и флот «с глубокой верой в правоту нашего дела».
Божие благословение, призываемое царем, состоит на инвентарном перечне вооружения российской армии с незапамятных времен, от тех пор, когда дебелые новгородцы на льду Ладожского озера крушили пудовыми колунами уже изношенных культурой и привыкших к более тонкому оружию шведов, и до японской войны, когда богобоязненный генерал Куропаткин, возивший за собой поезд с иконами, взирая на горы солдатских трупов, наваленных по сопкам пронзительным огнем японских пулеметов и дьявольскими разрывами шимоз, утешал общественное мнение страны тем, что «у нас есть большое преимущество перед японцами в религиозности русского солдата». Адмирал Рожественский бросил свою злополучную эскадру в теснину Цусимского пролива 14 мая, «в день священного коронования их императорских величеств», в очевидном расчете на то, что русский бог по такому торжественному случаю посрамит японцев.
И теперь русский самодержец уповает на бога, ибо судостроительная программа не закончена, мобилизационные планы в периоде согласований и переделок, тяжелая артиллерия для поддержки пехоте только начинает формироваться и на всю армию имеется лишь три гаубичных дивизиона.
Но гром небесный не хуже грома земного, ибо он обладает счастливым свойством пугать не только чужих солдат, но и своих, а дым ладана скрывает истину не хуже, чем несовершенные способы маскировки пехотных позиций.
* * *
Глеб с ненавистью посмотрел на распухший чемодан.
Война? Полбеды. О войне Глеб думал так же, как профессор Милюков. Его даже радовало, что этот человек, прославивший свое имя упрямой оппозицией правительству, словесными дуэлями с последним рыцарем дворянской идеи – Столыпиным, теперь заговорил языком патриота.
Война? Конечно, неприятно, что сорван отдых, что приходится неожиданно бросаться в беспокойную неизвестность. Но ведь он готовился к войне. Ведь годы гардемаринства были теоретической подготовкой к тому, чтобы приобретенные знания уметь отдать в роковую минуту отечеству, хотя знания эти были эфемерными и сам Глеб не мог бы сказать, пригодятся ли они в боевой обстановке.
Правда, война рисовалась всегда как что-то отвлеченное, находящееся за гранью той беспечной, полной удовольствий жизни, которой жили офицеры флота.
Война подразумевалась как тяжелая неприятность, вносящая в прекрасный и налаженный ход жизни беспорядок, грязь, бестолковщину, стеснение. Она превращала пленительный, зовущий голубой морской простор в ловушку, полную неожиданностей и грозящую ежеминутно смертью.
Но она же открывала пути неслыханной в мирные дни славы. За словом «война» чудились в дымной вуали горизонтов низкие серые силуэты вражеских судов.
Вставали, окутанные плотными, остро пахнущими клубами порохового дыма и гари, видения Чесмы, Наварина и Синопа, и бронзовый шелест лавровых венков и шелковый шелест георгиевских лент, как дивная музыка, сопровождали величавые призраки прошлого. Вспоминались сейчас только эти героические даты морских побед, роковая же Цусима выпадала из памяти, как нечто случайное и неприличное.
На войне самому захудалому мичману могло подвалить небывалое счастье.
Разве не может быть случая, когда, подобравшись в туманной дымке на близкую дистанцию, удастся пустить в растерявшегося противника гремучий веер торпед? Разве нельзя одним удачным залпом каземата вкатить в бомбовые погреба неприятельского корабля хорошую порцию стали и тротила и вздыбить врага к небу огненным столпом, опадающей грудой рваного металла, расщепленных досок, раздерганных на красные волокна человеческих тел?
Наконец, разве нельзя, встретив в море подавляющие силы противника, принять неравный бой? Вне зависимости от исхода, участникам этого боя была гарантирована слава, прижизненная или посмертная, но настоящая, переходящая из поколения в поколение, из века в век, боевая слава.
Сколько таких примеров в прошлом! Отчаянная минная атака на дрянных катеришках лейтенантами Дубасовым и Шестаковым огромных бронированных турецких мониторов, бой «Весты», славная стычка парохода «Владимир» с турецким фрегатом «Перваз-Бахри», прорыв «Новика» из осажденного Артура. Картины, изображающие эти незабвенные в анналах флота подвиги, висели в залах и коридорах корпуса, напоминая подрастающему поколению моряков триумфальные дела предков. Историю этих дел знал назубок каждый кадет через две недели после поступления в корпус.
Но самое больное, что по-настоящему волновало Глеба, вызывая в нем острую вражду к упакованному чемодану, была разлука с Миррой. Утром он бросился с телеграммой к ней. Взвинченный, задыхающийся от быстрой ходьбы, он ворвался в дом и трагическим жестом, бросив перед девушкой телеграмму, схватился за голову, как должен был сделать всякий герой романа.
Но, к его удивлению, его отчаяние было встречено улыбкой.
– Ну что же делать, родной? Конечно, нужно ехать, – сказала она, смеясь, положив голову на погон Глеба.
– Но как же ты? Как же я уеду от тебя? Я не могу… Это дикая чепуха. На кой черт вся эта каша? – простонал Глеб.
– Не делай трагедии из пустяков, мальчик. Ты уедешь сегодня, я тоже через несколько дней уеду в Петербург. И там увидимся. Это все так просто и ясно.
В одно мгновенье Глеб забыл о своем отчаянии.
– Ты скоро поедешь? – спросил он, оживляясь.
– Да, лучше успеть добраться до Петербурга, пока еще можно. Если война – на железных дорогах начнется невероятная толчея. Я уже предупредила своих, что выеду не позднее пятнадцатого.
– Тогда знаешь что, – предложил Глеб, – я останусь до пятнадцатого. Ну, возьму свидетельство у врача, что болезнь препятствовала… Влетит, но что из этого? Но подумай только – вдвоем, вместе всю дорогу…
Но Мирра решительно отказалась от этого проекта. Она считала, что не нужно обострять положение. Глеб, после разговора с Кавелиной, совершенно перестал посещать лихачевский дом и при встречах на улицах холодно кланялся Лихачевым, не подходя и не заговаривая, хотя Лихачевы, по существу, не имели никакого отношения к истории с Кавелиной. Но, возненавидев Кавелину, Глеб перенес часть этой ненависти и на неповинных Лихачевых. Видимо, деформированные слухи при содействии услужливых языков дошли и до дома, потому что мать попробовала как-то заговорить с Глебом, как будто совсем невзначай, о том, что молодые люди его возраста не всегда разбираются в женщинах, но Глеб мгновенно обрезал этот разговор.
– Зачем же давать повод разговорам и сплетням? Если мы еще уедем вместе, это причинит только лишние неприятности и тебе, и мне, и нашим родным. Я ведь говорила тебе, какую стену вражды придется нам пробивать. Зачем же ты хочешь усложнять и без того сложную жизнь? Поезжай один. В Петербурге нам никто мешать не будет. Брат совсем из другого теста, чем наши старики. Мы с ним друзья… Нам будет хорошо.
Глеб ушел расстроенный, не вполне убежденный. Во-первых, его именно прельщало открыто показать, что ему в высокой степени наплевать на мнение города; во-вторых, ему стало казаться, что Мирра намеренно избегает его. После той незабываемой встречи, когда он как сумасшедший прыгнул в окно, Мирра стала какой-то замкнутой, осторожной. Она уклоняется от поцелуев, она держится с Глебом совсем по-мужски, как товарищ, и еще с оттенком какого-то скрытого, но порой прорывающегося превосходства.
Неужели разлюбила?
Проклятый чемодан! Глеб ударил кулаком по распухшему чемоданному пузу и вышел из комнаты. Нужно было съездить к коменданту – поставить отметку на билете. В столовой Глеб наткнулся на мать. С ней сидела жена председателя судебной палаты Бубнова, стареющая провинциальная барыня, живая летопись событий и людей города. Глеб рассеянно поздоровался с гостьей и направился в прихожую. Надевая фуражку, услыхал скороговорку Бубновой:
– Вы представляете себе, Вера Платоновна? В такую минуту… и прокламации! Я всегда говорила Жаку, – так Бубнова именовала мужа, – вы слишком мягко судите. Но вы подумайте, как немцы предусмотрительны. На каждом шагу немецкий шпион… Но на заводе его встретили как следует. Его схватили там же мастеровые и передали полиции. И отлично отделали. Кажется, даже сломали руку. И, вы знаете, оказался…
Бубнова понизила голос, и Глеб не расслышал, кем оказался человек, подбросивший прокламации. Но, сходя по лестнице, он представил себе худосочного туберкулезного человека в очках и с длинными волосами, какими ему рисовались социалисты, рвущимся из рук здоровых парней. Парни жестоко бьют его, и один из них ударом тяжелого лома перебивает тонкую, беспомощную руку. Неожиданная, безотчетная пронзительная жалость к этому человеку уколола Глеба.
Быстро получив отметку и попрощавшись дружелюбно с тем же маленьким адъютантом, Глеб поехал обратно. Нужно было торопиться и до отъезда на вокзал еще раз забежать проститься с Миррой. Глеб уныло опустил голову и односложно отвечал на беспокойные вопросы Василия о войне.
– Гляньте, Глеб Николаевич, как хлопца везут, – окликнул Василий, указывая кнутовищем на подъезжающую навстречу извозчичью пролетку. Глеб нехотя взглянул и увидел на подножках пролетки с каждой стороны по висящему жандармскому унтеру. Они заслоняли тугими спинами и боками кого-то, зажатого в середину пролетки. Когда пролетка поравнялась с фаэтоном, унтер, висевший на подножке лицом к Глебу, дернулся и окаменел, вскинув упитанную морду. Другой перевернулся на подножке волчком и тоже застыл, козыряя. За его туловищем открылся в пролетке худенький, бледный, с неживыми узкими губами. Левая рука его висела на белой повязке. Голубая сатиновая косоворотка зияла разрывами у ворота и плеча.
Одновременно он и Глеб взглянули друг на друга, и Глеб, приподнявшись на сиденье, непроизвольно громко крикнул:
– Шурка!..
Фоменко шевельнул губами: по ним прошла тень улыбки; но сейчас же он отвернулся, пряча взгляд. Глеб, залившись краской нестерпимого стыда и обиды, стоял в фаэтоне, держась за спину Василия. Жандармы тупо таращили глаза на небывалое происшествие, не зная, как принять такой случай, пока один не опомнился и не зыкнул на остановившегося извозчика.
Пролетка отъехала. Глеб опустился на сиденье. Щеки его горели. Так явно высказанное презрение и вражда ошеломили его. Он не понял и не мог понять, что Шурка отвернулся по конспиративным соображениям, следуя традиционной, переходящей из поколения в поколение, тактике не признавать знакомства после ареста. Этой тактики Глеб не знал, и ему казалось, что при всех, при Василии, при этих разжиревших жандармских унтерах, он получил от Шурки публичную пощечину. Он приехал домой расстроенный и подавленный. До отъезда на вокзал оставалось только два часа.
Через два часа начинается вступление в иную, тревожную, совсем непохожую на прожитые золотые годы, неизвестную жизнь.
* * *
Строй выпускных гардемаринов вытянулся двумя шеренгами поперек огромного зала морского корпуса. По длине зала, вдоль обеих стен, под портретами адмиралов застыли почетным караулом три гардемаринские роты.
Сто восемьдесят выпускников – корабельных гардемаринов были расставлены по ранжиру, по прочно установленному традиционному порядку. В этом порядке играли роль не только рост, но и качество гардемаринов. Правый фланг занимали лучшие, отборные – сливки флота, строевики, те, которые всегда на мостиках, на палубах, на виду, гардемарины первого сорта в количестве ста тридцати трех человек. Одним шагом строевого интервала от них были отделены гардемарины второго сорта – инженер-механики, трюмные и водолазные духи, черная кость, скромные муравьи сложной корабельной жизни. Их было тридцать восемь. И, наконец, замыкая строй, на левом фланге жались третьесортники, бесправные илоты, которые при производстве получают не вожделенное, сладко звучащее имя мичмана, а позорный чин подпоручика корпуса корабельных инженеров, гардемарины-строители, непосредственно вслед за выпуском исчезающие навсегда с блестящей поверхности жизни, закапываясь в бумажные сугробы чертежных, в дымные цеха верфей и эллингов.
О них никто не помнит, их забывают через неделю даже товарищи по выпуску, те любимчики морской фортуны, которые повседневно проносят, как драгоценные сосуды, свои победоносные, сверкающие погонами и звенящие палашами, фигуры по эспланадам Гельсингфорса, по Невскому проспекту, по Приморскому бульвару Севастополя. И если им напомнят фамилию судостроителя, товарища по выпуску, они поджимают губы, подымают брови и цедят равнодушно: «Д-да, как будто бы припоминаю».








