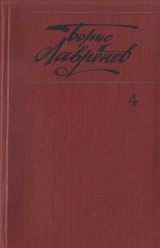
Текст книги "Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 46 страниц)
– Просите, – выговорил он, с трудом разжимая губы.
Взглянул на Плансона. Начальник штаба сидел, устремив глаза в блокнот с видом чрезвычайного внимания и заинтересованности текстом донесения, и командующий, поняв, зябко передернул плечами.
«Продаст… За пятак продаст», – подумал он и беззвучно грубо выругался.
Разве мог этот исполнительный, безличный чиновник понять бурю в душе адмирала, разобраться в сложных переплетах адмиральской мысли, в трагедии, пережитой начальником!
Командующий знал: ему никогда не простят, что он допустил неприятельский крейсер разгуливать в течение десяти минут на незамкнутых минных полях. Что бы ни было дальше, это был подводный камень, на котором разбивалась его карьера. И в то же время (это было бесспорно) на его месте точно так же поступил бы любой из трехсот адмиралов русского флота.
Батареи заграждения можно было включить своевременно. Это нужно было сделать еще ночью, по получении радио о налете турецких миноносцев на Одессу. Правда, в море оставался «Прут». Это было официальным поводом оставления батарей незамкнутыми, но настоящая причина была не в этом. «Пруту» всегда можно было сообщить о вводе заграждений и предложить до выяснения обстановки укрыться в Ялте.
Отказ от пользования минными полями вытекал из непогрешимого догмата о великолепном первородстве Российского императорского флота. Это было аксиомой, символом веры, утвердившимся под арками адмиралтейства, в грузных массивах захаровских зданий, в головах адмиралов и всего офицерского кадра.
Флот российский существует для того, чтобы поддерживать российскую армию и вести совместные с ней боевые действия?
Ересь!!! Ниспровержение вековых устоев, дерзкое посягательство на незапятнанную, как кителя его офицеров, честь флота. Армия? Сброд! Не стоящее внимания месиво ничтожных пешек. Пусть оно существует – флот согласен не замечать этого неприятного обстоятельства. Но пусть дерется само по себе, в пыли, в грязи, во вшивых дырах окопов, не оскорбляя своим соседством девственную чистоту палуб. Флот недосягаем. Кастовой порукой, частоколом традиций, печатями грамот о трехсотлетием дворянстве флот отрезан от армии, от замухрышек, parvenus[34]34
Выскочек (фр.).
[Закрыть], кухаркиных детей.
Флот – это море, волнующие просторы океанов. Флот – это крылатый крест андреевского флага, не имеющий сходства со знаменами армии. Флот – это самовластие генмора.
Флот сражается на море, он владеет морскими просторами, и он не может считаться с армией.
Адмирал Эбергард давно забыл символ веры, который учил мальчишкой на уроках закона божьего, но символ веры флотский – помнил.
Непонятная медлительность в отдаче приказа о включении боевых батарей минного заграждения, раздражение адмирала, когда начальник охраны рейдов вторично напомнил ему об этой необходимости, – имели корни во флотском символе веры. Командующий знал, что план военных действий Черноморского флота на тысяча девятьсот четырнадцатый год – лихорадочный бред, плод патриотического психоза, высокий самообман. Командующий знал это потому, что сам был участником составления этого плана, изготовленного в качестве валерьяновых капель для воспаленного самолюбия империи.
Но, зная, он все же верил в невероятную возможность боя «на удобной позиции вблизи Севастополя», боя, который осенит ореолом славы андреевский флаг и седеющую голову его водителя.
Адмирал верил, что он успеет вывести флот на пресловутую позицию до подхода противника. Он верил, что с кораблями, едва нагоняющими пары для четырнадцатиузлового хода, ему удастся встретить неприятеля в море.
Эта вера была нелепа, но так же крепка, как вера дикаря в божество, обитающее в деревянном чурбане.
Адмирал полагал, что противник будет учтиво ждать русский флот в море, любезно предоставляя ему возможность желанного боя у ворот своей гавани.
Но он не учел и не мог учесть неизвестных вражеской части боевого уравнения. Он судил о противнике, исходя из своей психологии, и не мог судить иначе. Непреоборимым грузом на плечах адмирала, незримо таясь между вышитыми орлами империи, лежала всосанная с корпусных дней, выпестованная в японскую войну под крылом наместника Дальнего Востока, сухопутного флотоводца, рабская пассивность тактики, отсутствие инициативы и способности к самостоятельным решениям.
Командующий слепо шел по проторенному другими пути. Он был верным учеником целой плеяды кунктаторов, чиновников, апологетов рабской философии, вся сущность которой укладывалась в лакейскую формулу «тише едешь – дальше будешь», учеником Старка, Витгефта, Ухтомского, Рейценштейна. Как и они, адмирал больше всего страшился риска. Смертная судьба единственного боевого флотоводца, кухаркиного сына – Макарова и страшный конец тихоокеанского похода только убеждали адмирала Эбергарда в непреложности девиза пассивной обороны.
И история повторилась, как фарс. В Одессе, Севастополе, Феодосии, Новороссийске в ночь на шестнадцатое октября девятьсот четырнадцатого была повторена позорная ночь Порт-Артура на двадцать седьмое января девятьсот четвертого года.
Командующий ее флотом не мог предотвратить удар, но мог отвести его от флота и крепости. Но он не захотел этого сделать. Символ веры, аксиома флотского первородства не позволила ему этого.
Он мог, но не хотел до последней минуты включить батареи минного заграждения. Он не мог уступить высокую честь истребления врага какому-нибудь захудалому минному офицеришке, который из своей блиндированной норы нажимом электрической кнопки вырвет у андреевского флага торжественные лавры победы. На море дерется флот – и только флот имел право на уничтожение вражеского корабля. И даже если бы флот был бессилен это сделать, ничья рука не смела сделать это за него.
Адмирал Эбергард выпрямился и сурово встретил начальника охраны рейдов.
Он должен был соблюсти достоинство флота и не допустить никаких кривотолков.
Но начальник охраны рейдов был слишком взволнован, чтобы держаться в узких рамках служебного ритуала. Он выбросил залпом обжигающие слова, которые ударили адмирала в лицо, как пощечина.
– Ваше превосходительство… какое преступное упущение… Батареи включили в шесть часов сорок две минуты, а с шести двадцати трех до шести тридцати семи «Гебен» маневрировал на заграждении. Наблюдатели отметили ряд замыканий на трех магистралях… Карта курса противника…
Адмирал выпрямился еще больше. Кажется, было произнесено слово «преступление»? Кто смеет судить поступки водителя флота?
– Господин капитан, – сказал адмирал, повышая голос, – я прошу вас помнить, что за действия свои в качестве командующего флотом я отвечаю только государю. Я не давал вам права вмешиваться в мои оперативные распоряжения.
– Виноват, ваше превосходительство… я и не думал, – сразу осел начальник охраны рейдов и уже простым огорченным человеческим голосом сказал: – Но какая досада, ваше превосходительство. Ведь могли пустить на дно, как миленького.
Адмирал Эбергард пожал плечами. Первое нападение было отбито, оставалось только окончательно подавить вспышку подчиненного, ввести его в норму.
– Конечно, досадно. Но нельзя же было подвергать опасности «Прута»!
О том, что «Прут», попав под орудия немецкого крейсера, тонул в этот момент к югу от Фиолента, открыв кингстоны, командующий еще не знал.
– Так точно, ваше превосходительство, – ответил начальник охраны рейдов.
Адмирал внутренне улыбнулся. Этот ответ свидетельствовал, что взбудораженный мозг подчиненного пришел в должный порядок. Но оставалась еще одна опасность, и адмирал почувствовал неприятный холодок, проползший по спине.
– О действиях минных станций подайте подробный рапорт со сводкой всех донесений, – адмирал на мгновение запнулся, – к рапорту приложите карту маневрирования «Гебена» на магистралях. Сделайте это срочно. Можете идти.
– Есть, ваше превосходительство.
Начальник охраны рейдов поклонился. Адмирал проследил за ним глазами, пока спина в кителе не скрылась за дверью, и, облегченно вздохнув, нажал кнопку звонка. Отпустил палец и с ненавистью посмотрел на кнопку. Она напомнила ему о минной станции, о жалком офицеришке, который мог вырвать у флота лавры.
– Капитана Кетлинского! – крикнул адмирал просунувшемуся в дверь Рябинину.
Флаг-капитан немедленно явился.
– Что вы ходите с видом факельщика на похоронах? – грубо спросил Эбергард, заметив уныние на лице флаг-капитана.
– Ваше превосходительство… «Прут» пошел ко дну. Под огнем противника открыл кингстоны… Какая доблесть, ваше…
– Убирайтесь к… – резко выругался адмирал, поворачиваясь спиной к обомлевшему флаг-капитану.
Из темного угла салона, с коричневых, под кожу, обоев, наплывали на командующего черные призраки следствия, суда, лишения командования, не смываемого на всю жизнь позора. Он вздрогнул, повернулся и, подойдя вплотную к Кетлинскому, неожиданно сильно сдавил плечо флаг-капитана.
– Могу я на вас положиться, мой друг?
Флаг-капитан с удивлением услыхал ласковые ноты в сухом голосе командующего.
– Вы можете располагать мной, ваше превосходительство, – ответил он.
Адмирал оглянулся и понизил голос.
– От начальника охраны рейдов поступит рапорт. При нем будет приложена карта маневрирования «Гебена» по минному полю. Вы знаете, эта карта имеется в единственном экземпляре по условиям чрезвычайной секретной минной обороны… Возможно, придется произвести расследование сегодняшних событий, – еще тише сказал командующий, – поэтому карту нужно особо беречь. Она останется у вас, на вашу ответственность. Я надеюсь… Вы поняли?
– Понял, ваше превосходительство, – ответил флаг-капитан, отводя взгляд. – Будет исполнено, ваше превосходительство[35]35
Исторический факт. Карта маневрирования «Гебена» на минном заграждении исчезла и следственными органами обнаружена не была. Ее удалось разыскать только в 1923 г. в пачке документов, взятых из каюты флаг-капитана Кетлинского после его смены в 1916 г. и сданных в архив как его личные (!!) документы.
[Закрыть].
* * *
В разгар работы по исправлению разбитых осколком кильблоков вельбота боцмана Ищенко вызвали к старшему офицеру.
– Черта я ему сдался, – ругнулся Ищенко, озлобившись, что его отрывают от спешного боцманского дела. – Спокою нет… Вы, ребята, просвежитесь малость, пока я обернусь.
Предложение отдохнуть было сделано не от доброты души. Ревнивый к работе, истовый служака Ищенко не хотел, чтобы работа продолжалась в его отсутствие без хозяйственного глаза. Еще чего-нибудь наворотят, косорукие!
Но матросы отдыху обрадовались. Ищенко гнал как на пожаре. Передохнуть несколько минут и полясничать было приятно.
Расселись тут же на рострах, под вельботом, подставляя вспотевшие спины приятно освежающему ветерку.
На рейде кипела суетня, взад и вперед носились катера и шлюпки – в одиннадцать часов командующий поднял сигнал: «Приготовиться к походу в полночь», и на всех кораблях торопились свезти на берег последние приветы родным и знакомым, а с берега на корабли такие же обратные приветы и недополученные боевые и съестные припасы.
Ковыряя коричневым железным ногтем распушенный конец троса, Перебийнос долго глядел на комариное мельтешение катеров по рейду. Под черными усами его ползала полная яда усмешечка.
– Бачь, – сказал он, поглядывая искоса на мостик, где виднелась фигура мичмана Алябьева. – Бачь, як забигали. Неначе, як клопы у хати, колы жинка кипятком плесне.
– Забегаешь, ежели полную мотню наклали, – отозвался рябоватый и угрюмый марсовый Смоляков. – Небось самому Эбергарду вестовые сейчас штаны стирают.
– А ему чего? – повел плечом Кострецов. – Он немец, за немца и держит.
– Тише ты, оболдуй! Одного суда мало, второго захотел? – предостерегающе сказал маленький Жуков.
Кострецов пренебрежительно скривился.
– Кто в море не бывал, тот суда не видал. Что мне суд? – в тоне Кострецова прозвучало ухарское наплевательство отпетого. – Плевал я на суд.
Но, однако, тоже взглянул на мостик и значительно понизил голос.
– Я так полагаю, братцы, что нонешнее дело, видать, заранее подстроено. Вильгельм – это не кот чихнул, хитрая стерва. Он тебе кого хочешь обойдет и пальцы откусит. За его немцы горой стоят, а у нас, куда ни обернись, всюду немцев насажено. Оттого нас и бьют повсюду за милую душу. Сами глядите: под Дубининым (так переделал для себя Кострецов Гумбинен) два корпуса народу навалили, сказывают – девяносто тысяч одних пленных германец забрал. А какие войска были?
– Какие войска… Пехота-матушка, дерьмо серое, – вставил Смоляков. Зараза флотского презрения к армии отрыгнулась в этом безапелляционном замечании.
– Сам ты… серое, – огрызнулся Кострецов. – Это тебе небось не армейские замухрыги – гвардия. У меня брат в семеновцах служит, рассказывал: что ни парень – косая сажень. На коклетах откормлены, против их германец, что жаба против вола. А как их расщелкали?
– Германец машиной дерется. У него пулеметов гибель, – хмуро вставил Жуков.
– Машина машиной, – нравоучительно прервал Кострецов, – а измена свое берет. Кто ими командовал? Господин генерал Рененкампф.
– Брешешь, кум, – вдруг озлился Перебийнос, – а про генерала Самсонова чул? Хиба Самсонов немец?
– А ты слушай. Где генерал Самсонов? Нет его – убили. А храбрый командир был. Он немцев и бил все время. И, значит, выходило, что уже Вильгельму под задницей жарко становилось. Вот он и подослал к Рененкампфу своих людишек: дескать, ваше превосходительство, мы из последних сил на русских вдарим, а коли генерал Самсонов от вас помощи запросит, так вы не давайте, и за то вам мильон заплатим. Вот так оно и вышло.
Жуков засмеялся.
– Враки все это, – сказал он, блеснув зубами и улыбкой. – Генерал генерала не продаст. Одним миром мазаны. А окромя того, каким это манером твой Вильгельм людей до Рененкампфа послал?
– Через царицу, – шепотом, пригнувшись к плечу Жукова, бросил Кострецов. – Царица главная немка и есть. От ней вся пакость.
Слова были страшные. Матросы притихли.
– Вот так и у нас, – после молчания вновь заговорил Кострецов. – Невесть что в одну ночь немец наделал. И в Одессе, и в Феодосии, и в Новороссийске. И тут тоже. А много у его флота здесь? Один крейсер. У турок только корыта старые. Так вот и продают нашу кровь колбасникам. Немец немцу руку дает на полный сговор.
– Мичмана жалко, – вдруг вставил молчавший до сих пор Савкин. – Ни за что сгиб мальчишка.
Опять молодо и дерзко блеснули зубы Жукова.
– Нашел чего жалеть, сачок. Их не убудет. Нового сделают. Одна сволочь!
– Ну, это ты напрасно, – Кострецов с упреком взглянул на Жукова. – Надо тоже в людях разбираться. Одно дело командира или там ревизора бы хлопнули, – все равно что гадюку раздавили. А этот тихий был, не озверел еще. Мальчонка – пел все. Матери-то горе. Материнское сердце у всех одинаково.
Все невольно посмотрели на мостик, туда, где утром шальной осколок оборвал мальчишью жизнь мичмана Горловского, и у всех прошла одна мысль о матерях, тоскующих дома.
– Да, конешно. Мать – она мать и есть, что во дворце, что в избе. Убиваться будет, – круто вздохнул Смоляков и повернулся к Кострецову: – А насчет Вильгельма все же ты, Федька, загинаешь…
Из-за баркаса № 2 вывернулась чья-то ладная, подобранная фигура. Жуков быстро ткнул Смолякова в бок, и тот оборвал фразу.
Но Кострецов, взглянув на подходящего, ободрился.
– Ладно, ребята. Я, может, конечно, и неправильно понимать могу, а вот спросим Руха. Рух парень умственный. Рух, поди-ка сюда, – позвал он Гладковского.
Савкин испуганно посмотрел на унтер-офицерские лычки: он был первогодком и всякого сверхсрочного боялся, как крокодила.
– Что? – спросил Гладковский, останавливаясь и внимательно посмотрев на встревоженное лицо Кострецова.
– Да вот мы про себя спор имели за немца, – и Кострецов поспешно рассказал Гладковскому разговор. Гладковский улыбнулся.
– Не к месту разговор затеяли, – сказал он спокойно. – У нас хозяйки говорят, что гречневую кашу нельзя ворошить, пока не пропреет, иначе комом выйдет.
– А ты все ж объясни, Рух, как ты про это понимаешь? – попросил Кострецов.
– Hex бендзе так, – улыбнулся Гладковский. – Коротенько могу. В одном ты, пожалуй, прав. – Кострецов победоносно задрал голову. – В нашем правительстве много немцев и людей, которые к немцам тянут. Но главное не в этом, Кострецов. Рененкампф, Самсонов – это не важно, дружище. Генералы не изменяют своим хозяевам, им это невыгодно. У генералов нет отечества, Кострецов. Генерал с немецкой фамилией будет, как верный пес, служить русскому царю, а генерал с русской – немецкому. Потому что генералу все равно, от какого царя получать чины, ордена и майонтки[36]36
Поместья.
[Закрыть]. Генерал может изменить, когда изменой можно погубить другого генерала, который стоит ему на пути к ордену, к почести. Тогда они грызутся, как псы из-за кости, и им наплевать на всякую родину. Они ее не имеют. Так было с Рененкампфом. Он не помог Самсонову не потому, что Вильгельм прислал ему мильон, – Вильгельм не такой дурак, чтоб бросаться деньгами на глупого русского генерала, которого он и так разобьет. Он не помог Самсонову потому, что Самсонов очень лез вперед и Рененкампф не хотел уступить ему первую очередь дойти до Берлина. Он подставил ему ножку, и в результате немцы наложили обоим. И наложат еще больше потому, что наша большая, глупая, неграмотная и нищая страна не может воевать. Пятьдесят лет тому назад немцы воевали с французами и наклали им по первое число. И один умный немец сказал, что войну эту выиграли не немецкие солдаты, а немецкий школьный учитель…
– Это как же? – спросил Жуков с загоревшимися глазами.
– А так, что в то время французы были такими же безграмотными дураками, пушечным мясом, как и мы. А немцы были образованны, и каждый немецкий нижний чин не только умел читать газету, но и мог разбираться в том, что в ней написано. И он разбирался в задачах и целях войны, а тогда эта война для Германии была войной нужной потому, что она вела к объединению Германии, к созданию немецкого государства, и выигрыш в ней нес каждому немцу улучшение жизни. Поэтому немцы и победили французов, которые дрались из-под офицерской палки, ничего не понимая в войне. Народ только тогда может победить, когда знает, за что дерется, и понимает, что кровь, которую он льет, облегчает ему жизнь. А мы деремся из-под офицерской палки и ничего не знаем… Вот ответь мне, что тебе сделали злого немцы или турки?
– Да я их и не видал, – хмуро ответил Кострецов. – Какого рожна мне с немцем делить? Он в Германии, а я в Тамбовской.
– Почему же ты идешь воевать против немца?
– А ты разве не идешь? – спросил Кострецов.
– Подожди. Ты мне на мой вопрос ответь.
– Я не дурак, чтоб в святые опять попасть или на рее повиснуть.
– Значит, ты идешь, потому что над тобой палка?..
– Зекс, – внезапно шикнул, выкатывая белки, Жуков.
От старшего офицера возвращался Ищенко, и увлеченные матросы едва не прозевали его.
– Почему без дела толчетесь? Что это за гулянки? – как будто только что налетев на отдыхающих, крикнул Гладковский, чуть побледнев.
– Ничего… ничего, не трожь, – благодушно сказал унтер-офицеру Ищенко. – Это я им позволил, пока к старшему ходил. Устали хлопцы.
– Виноват, господин боцман… не знал. Прохожу мимо – вижу, бездельничают. Непорядок.
– Молодец, – похвалил Ищенко. – Службу знаешь. Из тебя ладный боцман выйдет.
– Покорнейше благодарю, господин боцман. Разрешите идти?
– Иди, иди, – благоволительно буркнул Ищенко. – Ну, коблы, за работу.
* * *
Когда, сдав вахту, Глеб спустился в кают-компанию, там уже завтракали.
Но вместо обычной тишины, – по светским правилам за столом разговаривали вполголоса, – уже от входа до Глеба донеслись громкие, возбужденные голоса.
Вся кают-компания обсуждала события сегодняшнего утра.
Глеб отодвинул свой стул и, садясь, взглянул на пустой напротив. Это было место Горловского. Казалось, вот сейчас он войдет, поблескивая веселыми глазами, отломает корочку хлеба и помажет горчицей – это было привычкой мичмана, уверявшего, что от горчицы разыгрывается аппетит.
Но мичман Горловский лежал уже в батарейной палубе, рядом с лазаретом, на столе, накрытый андреевским флагом. В изголовье и по бокам, желтовато мерцая язычками пламени, горели свечи, отсверкивая в гранях маленького образка, вложенного в посиневшие руки.
Четверо матросов каменели, зажимая винтовки в пальцах, а у аналоя читал псалтырь комендор Яков, сладко растягивая славянские слова. Матросы на цыпочках ходили мимо, недоуменно и хмуро косясь на прикрытую кисеей разбитую голову веселого мичмана.
Глеб отвернулся, стараясь не смотреть на пустой стул. Вяло положил на тарелку салат, вяло зажевал.
– Беленькой хотите? – спросил сбоку Спесивцев, подвигая графин.
– Нет, – Глеб даже передернулся: один вид водки вызывал отвращение.
С лейтенантского края стола доносился рубленый деревянный голос дер Моона:
– …изучение морской истории позволяет утверждать, что подобные операции, с того момента, как плавучие средства были использованы для военных целей, и до сегодняшнего дня, носят в себе элементы полной безнаказанности для оперирующего. Быстроходный корабль, имея перед собой достаточно обширный водный бассейн, всегда, по крайней мере на первое время, будет трудноуловим…
Ревизор однообразно скрипел, как будто читал по книге или отвечал урок на репетиции. Прислушиваясь к его скрипению, Глеб случайно взглянул на Калинина, сидевшего за штурманом, ближе к командирскому концу стола. Артиллерист занимал место сейчас же после старшего офицера, несмотря на то, что Вонсович, дер Моон и минный офицер лейтенант Морошко были старшими лейтенантами. Калинин же просто лейтенантом. Но право на первое место артиллеристу давал георгиевский крест.
Вид лейтенанта обеспокоил Глеба. Худое лицо Калинина пошло белыми и зелеными пятнами, тик безостановочно рвал щеку, тонкие пальцы неврастеника играли вилкой, вертя ее. Вилка крутилась, как крылья мельницы, белесо поблескивая серебром.
Калинин пристально смотрел на ревизора и молчал.
– …Рассуждая математически, по теории вероятности, вы имеете очень мало шансов своевременно предугадать точку, куда вам необходимо направить суда, чтобы пересечь курс противника и принудить его к бою… А особенно в наших условиях. «Гебен» имеет огромное преимущество в ходе… Да даже при наличии незначительного хода на таком просторе, как Черное море, очень затруднительно изловить корабль, отважившийся на крейсерскую операцию.
– Ну, положим, – усомнился Морошко. – Есть же возможность предусмотреть вероятнейшие объекты нападения. Если у флотоводца голова на плечах…
Кавторанг Лосев беспокойно зашевелился, спешно вытирая салфеткой жир с усов. Фраза о флотоводце, имеющем голову на плечах, могла быть намеком на командующего.
Но ревизор не дал минеру закончить опасное сравнение.
– Конечно, возможно. Помимо тактической сообразительности, может помочь удача или случай. Но это единичные факты, в общем же, как правило, крейсерские операции наиболее верные и безопасные из всех морских операций…
«Как противно говорит, – подумал Глеб. – И кому эта лекция сейчас нужна, когда все об этом знают из учебников, а рядом за стальными стенами лежит мертвый Горловский, жертва крейсерской операции и неуменья ее предотвратить».
– Я приведу вам замечательный пример… – Ревизор отправил в рот кусок бифштекса и, старательно разжевав его, проглотил, затянув паузу. – Здесь же у нас, на Черном море… Правда, это было не во время войны и не с вражеским кораблем, но это еще больше убеждает в верности основного положения.
Глеб увидел, как Калинин подвинулся к штурману и вилка еще быстрее заходила в его пальцах.
– Это было во время… – Дер Моон взглянул на возившихся у буфета вестовых и тихо сказал: – Во время этого «потемкинского» безобразия. Я тогда плавал молодым гардемарином.
– Простите, Магнус Карлович, – спросил Спесивцев, и в голосе у него забился непочтительный смешок, – а разве бывают старые гардемарины?
Ревизор даже не обернулся к дерзкому мичману.
– Я прошу вас поберечь ваши остроты для прогулки на бульваре, мичман Спесивцев, – скучно сказал он в сторону. – Так вот, нужно было как-то покончить с этим хулиганством, которое позорило флот. Несколько офицеров обратились к адмиралу Кригеру с просьбой разрешить взять миноносец, укомплектовать команду из офицеров, выйти в погоню и взорвать этот паршивый броненосец. Я упросил лейтенанта Яновича, принявшего командование «Стремительным», взять меня на миноносец. Мы вышли из Севастополя девятнадцатого нюня, зная море как свои пять пальцев, зная, где матросня могла рассчитывать на хороший и где на плохой прием, – словом, находясь в наилучших и наиблагоприятнейших условиях по сравнению с противником, и все же, пробыв в кампании до двадцать пятого июня, мы «Потемкина» не поймали…
– А вы хотели его поймать?
Спросил Калинин. Спросил резко, в упор, с подчеркнутым сомнением. На мичманском конце стола разговор сразу стих, все вытянули головы к лейтенантскому краю.
– То есть я не понимаю вашего вопроса, Борис Павлович, – сказал ревизор внешне спокойно и так же деревянно, но у него задрожали веки.
– Вот срезал, так срезал, – восторженно зашептал Спесивцев, нагнувшись к Глебу. – Молодец! Такую дубину расшевелил.
– Погодите, – шепнул Глеб, отмахиваясь от Спесивцева, как от мухи.
– Я, кажется, выразился чистейшим русским языком, – жестко выложил Калинин. – Думаю, понять не трудно. Меня интересует, – острая судорога исковеркала левую сторону лица артиллериста, – действительно ли вы хотели поймать броненосец?
– А кого же, вы думаете, мы хотели поймать? – спросил ревизор, краснея.
– Я полагаю, – Калинин заикнулся, – что вам меньше всего хотелось увидеться с броненосцем. А вот желание поймать орденок или высочайшую бла…
– Лейтенант Калинин… – Ревизор шумно встал. Краснота отлила с его лица – оно стало серым, как орудийная ветошка.
– К вашим услугам, лейтенант дер Моон.
– Это наглость, – сказал ревизор. Большие руки его нервно смяли салфетку.
Тогда вскочил и Калинин. Голос его зазвенел пронзительно:
– Что? Молчать!.. С кем вы разговариваете? С георгиевским кавалером. Извольте помнить!
Окрик был так резок, что ревизор невольно выпрямился.
Но уже, опрокинув рюмку, к лейтенантам тянулся всполошенный Лосев.
– Господа офицеры!.. Прошу… приказываю прекратить… Перед вестовыми… Магнус Карлович!
– Я прошу вас, Дмитрий Аркадьевич, обратить ваше приказание к лейтенанту Калинину, – сказал ревизор трясущимися губами, пытаясь овладеть собой.
Спесивцев отчаянно ущипнул Глеба выше локтя, но Глеб даже не заметил. Он не отрываясь смотрел на Калинина.
– Борис Павлович, – умолял Лосев, выкарабкиваясь из-за стола, – в кают-компании… во время войны…
Но Калинин, казалось, не слышал и не видел старшего офицера. Он сверлил глазами ревизора – вот-вот ударит. Но неожиданно скверно засмеялся и с презрением сказал:
– «Потемкина» вы, уважаемый, не поймали, а вот в Феодосии солдатский триппер подцепили от благодарного женского населения.
Ревизор рванулся. Офицеры вскочили. Вонсович схватил дер Моона за локти. Лосев метался между ними, кружась, как подшибленный палкой пес, и воющим голосом требовал прекратить ссору. Вестовые, застыв у буфета, двусмысленно кривились.
– Я так этого не оставлю!.. Я рапорт подам!.. Если он сумасшедший – уберите его с корабля! – кричал ревизор, вырываясь из рук штурмана, по Вонсович волочился за ним, как борзая, севшая на волка.
– Господа…
Все оглянулись. Голос тихий, но отчетливый, привлек внимание всех.
– Господа, – лейтенант Ливенцов поднял руку, – вспомните, что рядом за стеной – член нашей семьи, павший сегодня смертью солдата. Нельзя ли тише?
Офицеры переглянулись. И Калинин, дернув головой, как от удара, сказал:
– Простите, Лев Григорьевич. Спасибо, что напомнили.
Он сел, опустив глаза. Ревизор несколько секунд постоял на месте, потом пожал плечами и, несгибающийся, прямой, как стеньга, широким шагом вышел из кают-компании. Офицеры молчали.
– Борис Павлович, – сказал успокоившийся Лосев, принимая официальный тон, – я все же прошу вас сдерживать ваши нервы. Мы здесь все-таки одна семья офицеров, бог знает сколько времени придется прожить вместе, а такие казусы совершенно разрушат мир в кают-компании. Теперь ведь целая история выйдет. Магнус Карлович рапорт подаст. Ведь вы его тяжело оскорбили.
– Прошу извинения, Дмитрий Аркадьевич, – заскучав, отозвался Калинин, – больше не буду. Вы имеете резон, не стоило оскорблять.
Он тщательно сложил салфетку и вышел. Завтрак кончился в подавленной тишине. Мичмана молчали, как убитые, зная по опыту, что сейчас болтать опасно. Лосев, не рисковавший слишком резко разговаривать с лейтенантами, в таких случаях имел обыкновение срывать досаду на младших.
Покурив на диване, Глеб отправился соснуть. Проходя коридором, увидел, что в каюте Калинина дверь приоткрыта. Внутри был свет. Глеб невольно замедлил шаги. В боковом зеркале умывальника отражалась часть каюты, закрытая дверью. У стола, склонившись на руки, сидел Калинин и ритмически раскачивался, зажимая ладонями лицо, как делают при невыносимой физической боли. Это было так страшно и вызвало у Глеба такую острую жалость к лейтенанту, что, рискуя быть выгнанным из каюты, он постучал.
– Кто? – донесся окрик Калинина, и Глеб увидел в зеркале, как вскочил артиллерист.
– Это я, Борис Павлович. Простите, пожалуйста, что не вовремя. У вас, кажется, есть Пушкин. Мне что-то захотелось перечесть «Пиковую даму».
– Войдите, – сказал Калинин, впуская Глеба и запирая дверь. Глаза у него были потухшие и пустые. Он сиял с полки томик Пушкина и протянул Глебу. Глеб поблагодарил и неловко стоял, не решаясь уйти. Калинин взглянул на гостя и рассмеялся.
– А зачем вы, милый юноша, врете, что вам хочется читать «Пиковую даму»?
– Борис Павлович…
– Да вы не смущайтесь. Сознайтесь, что зашли посмотреть, не вовсе ли я сошел с ума?
Глеб растерянно молчал. Калинин взял его за руку и усадил в кресло.
– Милый вы мальчишка! И за каким чертом только вас понесло во флот! Могли бы быть хорошим человеком, полезным человеком, а теперь пропадете ни за грош.
– Почему? – удивился Глеб. – Разве во флоте я не смогу быть полезным?
– Бросьте, – Калинин болезненно скривился, – чепуха! Кому и чему можно быть полезным здесь!.. Я понимаю, что я продолжаю тянуть лямку с отчаяния – мне уже поздно начинать сначала и некуда деваться, мне уже тридцать лет… В ваши годы можно еще надеяться что-то переделать, что-то изменить, вообще перевернуть землю. Но тут эти надежды напрасны, они засохнут, как дерево без поливки. Тут, мой юный друг, царство рутины, тупоумия, бездарности и бесчестия, рай для болванов и холуев, вроде дер Моона. Над этими кораблями надо повесить украденную из Дантова ада доску с надписью: «Оставь надежду всяк сюда входящий»… Вот!
– Вы расстроены и огорчены, Борис Павлович, – осторожно возразил Глеб, – и поэтому преувеличиваете.
Он ждал вспышки, но артиллерист только бледно улыбнулся.
– Нет, я уже совершенно спокоен и сам ненавижу себя за свою выходку за завтраком. Это отрыжка моих прежних розовых мечтаний о великой России, о настоящем флоте, который эту Россию должен защищать, о настоящих офицерах, которые будут командовать этим флотом. Бойтесь этих мечтаний, гоните их в шею. Этого флота нет и не будет, этих офицеров тоже нет, и, кажется, самой России тоже нет. Той России, которую мы узнали с пеленок и которая выдумана кем-то для сладкой отравы наших неустойчивых душ. Ее нет, мичман Алябьев. Есть какая-то другая Россия, которая для нас закрытая книга, в которую нас не пускают и не пустят. А от нашей России остались только погремушки, объедки, жалкий островок, на котором сосредоточена вся российская мерзость – взяточничество, нравственное растление, гнусь, гниль, помойка, прикрытая сверху позументами, галунами, побрякушками.








