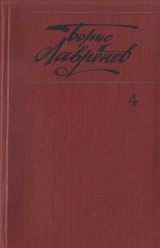
Текст книги "Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 46 страниц)
До полночи шла спешная погрузка угля. В двадцать один час с «Георгия Победоносца» просемафорили флоту клотиком:
«Положение весьма серьезное. „Гебена“ с двумя миноносцами видели около Амастро. С рассвета – положение первое. Госпитальным судам тоже к девяти часам».
Упоминание о госпитальных судах показывало, что кровавый ветер надвигается вплотную.
Огни погашены на всех судах. Очертания и места судов только угадываются по памяти вахтенными начальниками, безмолвно шагающими во мгле по мостикам и палубам. Вахтенные начальники, напрягая глаза до слез, смотрят все чаще и чаще в открытое море. Что таит в себе его непроглядная чернь?
Часовой у флага на «Георгии Победоносце» стоит неподвижно. На узкой грани штыка чуть розовеет отблеск света из люка адмиральского салона. Командующий флотом не спит. В его помещении сейчас сосредоточена вся жизнь флота.
Сюда стекаются и отсюда расходятся все сводки, приказы, радиограммы. Как в человеческое сердце венозной кровью, вливаются в адмиральскую каюту донесения подчиненных, рапорты командиров судов, информационные данные, весь отработанный материал флотского дня, и свежей артериальной кровью выливаются на суда, батареи, минные роты – приказы, инструкции, распоряжения.
Около полуночи вестовой передает в салон радиограмму. Ее принимает начальник штаба контр-адмирал Плансон. Он, зевая и ежась (в салоне сквозняк – командующий любит свежий воздух), читает. Начальник минной дивизии запрашивает из Евпатории об обстановке: «Ввиду серьезности положения полагал бы необходимым принять полный запас топлива. Жду распоряжений».
Контр-адмирал Плансон просыпается, ему становится еще холодней. В самом деле, в горячке дневных событий совершенно забыли о минной дивизии. Начальник штаба докладывает командующему.
– Какие будут распоряжения, Андрей Августович?
– Приготовиться к бою, возвращаться в Севастополь… Только пусть подходит в обстрел батарей и к минному заграждению не раньше рассвета. В случае появления неприятеля вскрыть пакет 4 III.
Рука Плансона с карандашом быстро бегает по блокноту, Листок вырывается и бросается вестовому, хватающему его на лету. Вестовой, как рысак, срывается с места.
– Стой!.. Константин Антонович, а «Прут»? Сообщите «Пруту» то же самое. В случае появления неприятеля вскрыть пакет. Держаться в море, не слишком удаляясь от берега.
Командующий устало закрывает глаза.
Пакет 4 III. На каждом корабле флота, в командирской каюте, на дне несгораемых секретных ящиков, между другими секретными документами, ежедневно сменяясь, лежат большие холщовые пакеты, прошнурованные и запечатанные кровавыми наплывами сургуча. На них ни адреса, ни имени, только буква и цифра:
4 III
Мирно и скромно лежат эти пакеты на дне, и трудно заподозрить в их скромной и замкнутой внешности гремучее содержимое. Пыль оседает на них, и, роясь в ящике, командир обычно досадливо отбрасывает в сторону этот пакет, как лишний предмет, как неуместное напоминание о том, о чем неприятно говорить в спокойные дни размеренной флотской жизни.
Но наступает час, когда из-за горизонта острым порывом шквала налетает тревога, поют горны, дребезжат колокола громкого боя, слетают чехлы и надульники с орудий и голубоватые грузные черепахи башен ворочаются, ища в сумеречной черте горизонта уже зримую цель. Тогда командир, перекрестившись, дрожащими пальцами ломает запекшуюся кровь сургуча, дергает шнуры, с треском раздирая добротный интендантский холст пакета.
И из вязи аккуратных букв пишущей машинки перед глазами командира выплывает красное и горячее, как свежий сургуч, огромное свинцовое слово!
ВОЙНА
И уже наверху гремят залпы, выплескиваются из дул длинные, мгновенно рвущиеся шлейфы желтого огня и рыжего дыма, ухает плещущая вода, скрежещет сталь и умирают люди…
Вестовой уходит. Дремлет, прислонившись к кожаной спинке дивана, командующий, на цыпочках выходит в передний салон, прикорнуть на десять минут, начальник штаба.
Часовой у флага остановившимися, немигающими глазами смотрит на светлое пятно люка. Отсветы его, пересеченные решеткой, неподвижно стынут на зрачках часового.
Спит рейд, спят корабли.
Слезы текут из раздраженных напряжением глаз вахтенных начальников, слезы стекают по красным векам кочегаров, шурующих в топках, подымая пары для полного хода. Звон и шуранье лопат, захватывающих размельченную кашу угля, рев топок, вой вентиляторов. Спящие корабли готовятся к бою.
* * *
Поляна горит ядовитой зеленью травы. Трава высока и жирна. Она хлещет по ногам и мешает идти. Как это неприятно! Ведь нужно идти скорее. На той стороне поляны, под низкими ветками ивы, стоит девушка в белом платьице с сиреневыми полосками. Солнце золотит крутые завитки волос на тоненькой шее.
Вот-вот она бросит травинку, которую грызет, и убежит. И тогда никак не догонишь ее. Никак и никогда. Скорей!
Глеб несется большими легкими прыжками, почти летит.
Вот осталось два шага. Девушка оборачивается. Со смехом протягивает руки. Какие они легкие и горячие! Ее губы обдают душистым теплом, и Глеб припадает к ним. Минута пустоты, стремительного сердцебиения, страшной сладости.
И сквозь эту пустоту в уши бьет частый, пронизывающий, мучительный трезвон набата, и синее небо над поляной багровеет. Где-то пожар. Нужно бежать.
Глеб рвется. Пылающая балка, брызгая искрами, летит сверху и обрушивается на голову. Туман. Темнота.
В каюте темно. Только кругляш открытого иллюминатора чуть синеет. Глеб хватается за лоб, ушибленный о коечную стойку.
Зарева нет, но набат продолжается. Ах, черт возьми! Это же боевая тревога.
Мгновенно вскочив, Глеб задраивает иллюминатор и поворачивает выключатель.
Наспех, через два крючка, зашнуровываются ботинки, на одну поясную пуговицу застегиваются брюки. Китель, фуражка. Все.
Вырванное из сна тело трепещет ознобной утренней дрожью. Но оно прогреется на бегу. Распахнув дверь каюты, Глеб вылетает в коридор. По нему бегут люди. У денежного ящика Глеб налетает на несущегося навстречу человека. Они тщетно пытаются разминуться. Глеб влево – и встречный влево. Глеб вправо – и встречный тоже. Наконец его хватают за плечи.
– Что за черт! Стойте! Я обойду вас кругом.
Только теперь Глеб узнает лейтенанта Ливенцова.
– Что случилось? – спрашивает Глеб, прижимаясь к стене, пропуская лейтенанта.
– В Одессе, – лейтенант проскакивает мимо, – пистолеты обгадились… – Спина Ливенцова уносится по коридору. – Турки взорвали «Донец»… разносят город, – заканчивает лейтенант, исчезая за поворотом.
Глеб несется коридорами, кубриками, обгоняя бегущих, натыкаясь на встречных.
Вот наконец дверь башенного колодца. Сердце прыгает кроликом, вот-вот вырвется. По скользким перекладинам трапа наверх – и вот уже ровный белый свет лампочек, прислуга, окаменевшая у пушки, умное, спокойное лицо Гладковского.
И Глеб сразу приходит в себя, смиряя подступившее клубком, душащее волнение.
Мысли приходят в порядок.
«Напали на Одессу… Какого же черта у нас боевая тревога, а не съемка? Что за переполох? Нужно сниматься, а не подымать тарарам на якорях. Болваны!»
Рот у Глеба наполняется слюной от неистовой вспышки злобы на эту бестолковщину, на бесцельную тревогу, взбудоражившую девятьсот человек и бросившую их по боевым местам, когда никакого противника нет еще в помине.
Он оглядывает башню. Как ласкает глаза этот успокоительный порядок! Ярко и свежо, как молодой ледок, сияет сталь, и тепло лучится надраенная медь приборов. Все на месте, все подчинено прекрасному ритму служебной слаженности, и прислуга слита в одно целое с тяжелым и мощным казенником орудия, ежесекундно готового метнуть огнем и грохотом в испуганно рвущееся пространство.
– Молодец, Гладковский! – говорит Глеб, щурясь от света.
– Рад стараться, ваше высокоблагородие.
Уставный ответ звучит у Гладковского как-то по-особенному. В нем сознание своего достоинства, он отвечает мичману почти как равный. Странный матрос, но прекрасный служака, образцовый унтер-офицер. Надо не терять его из виду.
Бараном блеет телефон. Глеб берет трубку у телефониста, ему хочется самому услышать. Может быть, что-нибудь интересное.
– Левая носовая.
– Это вы, Алябьев? – слышит он голос Калинина.
– Я, Борис Павлович.
– Как у вас?
– Все в порядке.
– Отбой боевой тревоги. Прислуге остаться при орудиях. Могут спать, не отходя от пушки.
– А что наверху, Борис Павлович? – спрашивает Глеб.
– Ни черта особенного. Нагремели в штаны, теперь проветриваемся. Можете погулять. Перемен пока что не предвидится. Вселенная в тумане, на дне морском Садко на гуслях играет.
Жестяной звук лейтенантского смешка – и Глеб слышит, как трубка упала на рычажки.
– Гладковский!
– Есть, ваше высокоблагородие.
– Прислуге остаться! Можете дремать, ребята. Все спокойно – неприятеля еще нет.
Глеб спускается вниз и по коридору выходит на ют. У борта стоит группка офицеров, вглядываясь в начинающую светлеть пелену тумана за боном, в просвете между батареями. Подходя, Глеб взглядывает на часы – пять часов пятьдесят минут. С каждой минутой светает.
В кучке офицеров Ливенцов, Горловский, Лобойко, дер Моон, Спесивцев. Говорят почему-то придушенным шепотком, точно боятся, что разговор будет услышан там, за боном, в колышущейся полосе тумана.
– Только что с Сарыча передали. На зюйд-весте видели прожектор, – говорит Лобойко.
– Чей?
– Ясно – «Гебена».
– Возьмите катеришко – сходите справьтесь, – ядовито советует Спесивцев.
– Вероятней всего, «Прут». Он должен быть где-нибудь у Фиолента.
– Нарвется на немца как пить дать. По пер…
Штурману не удается договорить. Снова томительно взывают горны и гремят колокола по всему рейду. Опять боевая тревога.
Влетев в башню, Глеб подымается к наблюдательному колпаку. В стеклах перископа близкая, как будто здесь, под самой рукой, часть берега Северной стороны. На голых скалах видны кустики высохшей травы. Как на ладони – задний фас батарей, видно, как копошится прислуга у орудий.
Что в море? Но Константиновская батарея, бон, выход закрыты от взгляда надстройками корабля. Какая бессмыслица! Торчать на якоре, когда противник уже у города, когда по морю шныряет вражеский прожектор. Вести огонь можно только кормовой башней.
Глеб переводит перископ в глубину рейда, где на мертвых якорях, наглухо приклепанный, стынет штабной блокшив, сданный к порту линейный корабль «Победоносец». Рядом с ним стоит небольшой пароходишко. Всмотревшись, Глеб узнает флагманский тральщик бригады траления и рядом другие тральщики. Значит, бригада траления вернулась с моря. Что же там? Как мучает эта дурацкая неизвестность! Хотя бы из боевой рубки сообщили что-нибудь.
И вдруг Глеб слышит рождающийся вверху, над кораблем, в плотном осеннем воздухе низкий, гнетущий, приближающийся рев. Он проносится вихрем над самой башней, и Глеб видит, как на середине рейда, будто вытолкнутые подводным извержением, встают пять высоких белых фонтанов.
Они не успевают еще улечься и рассыпаться кругами пены, как с палубы «Георгия» выплескивается вперед длинное, мгновенное, сверкучее пламя, и вслед за ним могучий, грузный удар потрясает рейд. Еще пламя, еще удар. Пауза – и в третий раз.
Ах, что же делается там? Глеб чувствует, как трясутся его пальцы, бешено вращающие штурвальчик перископа. Быстро плывет в стеклах опять Северный берег, батареи. Теперь они тоже полыхают вспышками залпов.
Хлещущий плеск лопается где-то рядом. Слышно, как на борт корабля обрушивается тяжелая масса воды. Попадание? Нет, вероятно, только у самого борта.
Подлое ощущение беспомощной мыши, запертой в мышеловке. Мелкие мурашки щекотно ползут по спине. Что это? Страх? Неужели он испугался? А матросы?
Глеб взглядывает вниз. Матросы стоят недвижно. Головы у них склонены набок, они тоже прислушиваются к темным звукам снаружи. Рука гальванера замерла на ключе. Внимательный взгляд Гладковского встречается с глазами офицера.
А за стальным колпаком, которым накрыты люди, продолжают грохотать залпы.
* * *
В пять часов пятьдесят восемь минут в штаб командующего флотом поступило донесение с северного наблюдательного поста на мысе Лукулл. Начальник поста сообщал, что в виду мыса появилось двухтрубное двухмачтовое судно, идущее к Севастополю.
В сопоставлении с предыдущим донесением поста Сарыч о видимом в море прожекторе можно было уже уверенно предполагать приближение неприятеля. Из своих в этом районе мог находиться только посланный адмиралом в Ялту «Прут». Но ему не было никакого смысла обнаруживать себя боевым освещением.
Но, несмотря на то, что штабу уже было известно о налете турецких миноносцев на Одессу и адмирал Эбергард телеграфировал в Ставку о событиях ночи и выходе флота в море, – ни флот не двигался с рейда, ни штаб не предпринимал ничего для встречи противника.
Помимо спешки и нервности, мгновенно охватившей штаб, превращая его тихий приют на «Победоносце» в разбуженное осиное гнездо, на действиях командования роковым образом отразилось трехмесячное двусмысленное состояние «ни войны, ни мира», притупившее восприятие опасности и быстроту реагирования.
После первого донесения Лукулла ни кораблям, ни береговым батареям, ни начальнику минной обороны не было дано никаких указаний на случай появления противника.
В море оставалась бригада траления, совершенно беззащитная и обреченная на гибель, и дозорный четвертый дивизион эскадренных миноносцев в составе «Лейтенанта Пущина», «Живучего» и «Жаркого». Миноносцы были старые, угольные, с максимальным двадцатипятиузловым ходом. Вероятный противник – «Гебен» – превышал этот ход на три узла.
В шесть часов двадцать минут, когда уже просветлело, пост Лукулл вторично донес, что замеченное судно – несомненно военное и имеет башни с орудиями. Через три минуты начальник бригады траления по собственному почину, не дожидаясь приказаний, повернул с партией на траверзе Херсонесского маяка в Севастополь, ибо завидел на севере вылезающий из тумана огромный силуэт линейного крейсера. Сомнений не оставалось, и, бросившись полным ходом к рейду, натралбриг дал радио комфлоту: «Вижу „Гебен“ в тридцати пяти кабельтовых на норт-ост-тен норд, курсом зюйд».
Но «Георгий Победоносец» молчал. Он стоял в глубине бухты, как мертвый корабль-призрак. Начальник охраны рейдов, находившийся в адмиральской рубке, осмелился напомнить командующему, что боевые батареи крепостного минного заграждения разомкнуты в ожидании возвращения «Прута» и что, вследствие появления противника, их необходимо замкнуть.
Адмирал стоял, наклонившись над картой района. Он поднял на начальника охраны рейдов пустые, ничего не выражавшие зрачки и молча отвернулся опять к карте. Подчиненный не осмеливался настаивать – когда командующий смотрел таким пустым взглядом, это означало недовольство посторонним вмешательством в его ответственные мысли.
Начальник охраны рейдов не выдержал – нервы у него были натянуты. Он дернул головой, как лошадь, и вылетел на палубу, чтобы лично взглянуть на положение.
Но едва он переступил за комингс люка, над его головой завыло, раздираясь, небо, и он увидел на оловянно-неподвижной воде рейда те же пять высоких фонтанов-всплесков, которые видел в перископ из своей башни Глеб.
Это был первый залп «Гебена» по Севастополю.
Начальник охраны рейдов схватился за голову и присел. В узком просвете между Александровской и Константиновской батареями, на грани волокнистой полосы тумана, колыхавшейся в море, он увидел на секунду неясный очерк низкого серого двухтрубного корабля. «Гебен» шел вдоль крепости полным ходом, у носа его кипел отчетливо видный высокий бурун.
Соломенно-светлый огонь блеснул над его корпусом. Взвыли снаряды, и сбоку в городе прокатился дребезжащий раскат разрыва. Начальник охраны рейдов оглянулся. Над прямоугольным скучным зданием морского госпиталя курилась пыль и расходился оранжево-лиловый дым.
Начальник охраны рейдов снова взглянул на неприятельский крейсер. «Гебен» значительно передвинулся к югу. Он стал виден отчетливее, и начальник охраны рейдов с томительным зудом во всем теле увидел, что крейсер маневрирует на линиях минного заграждения.
Тогда, не ожидая нового залпа, начальник охраны рейдов ринулся в люк, не разбирая ступенек. В голове у него молотком стучала страшная мысль. На рейде среди боевых кораблей стояли заградители с полным запасом мин. Один случайный снаряд в заградитель – четыре тысячи пудов тринитротолуола вырвутся на волю из чугунных шаров, и флот окончит свое существование на рейде.
Время нужно было считать тысячными долями секунд. Ввести батареи заграждения было единственным шансом отвратить катастрофу. «Гебен» в своем тяжелом разбеге налетит днищем на гальванический контакт на таком же чугунном шаре, злобно таящемся под водой – Севастополь к флот будут спасены.
Начальник охраны рейдов ворвался в адмиральское помещение с перекошенным лицом. У адмирала кипела суетня, он только что отдал приказание о немедленном переходе штаба на «Евстафий», и писаря стремительно свертывали карты, напихивали карманы документами, кто-то уронил пишущую машинку.
«Сумасшедший дом, – подумал начальник охраны. – Вздумал переезжать под огнем, нашел время, тюфяк».
В это время наверху ахнуло, и старый корабль шатнулся. Это его двенадцатидюймовая башня, без приказания, которого не от кого было получить, по собственной инициативе, открыла огонь по чуть видному силуэту вражеского крейсера. Остальной флот молчал, не решаясь вести огонь без приказа командующего.
Начальник охраны рейдов подбежал к адмиралу. От волнения и спешки он едва выговаривал слова. Он забыл даже титуловать командующего.
– Разрешите включить батареи. «Гебен» на заграждении… Идет на юг. Через пять минут выйдет из минированного района.
Эбергард просовывал в рукава поданного вестовым пальто. Резко обернулся и злобно, почти с отчаянием, как показалось начальнику охраны рейдов, обрубил:
– А… включайте… черт с ними.
Раздумывать было некогда. Черная трубка телефона прилипла к уху. Центральная штаба не давала ответа. Начальник охраны рейдов вопил в трубку, перескакивая с ноги на ногу, как будто стоял на раскаленном металле.
Наконец удалось соединиться с начальником минной обороны через центральную коменданта крепости.
«Только успеть бы», – шептал в забвенности начальник охраны рейдов.
– Начальник обороны!
– Их высокоблагородие вышли на пристань, – почтительно ответила трубка.
– Кто у телефона?
– Дежурный унтер-офицер Маслаков, вашскобродь.
Начальник охраны рейдов в ярости хватил себя кулаком по ляжке.
– …перемать! Немедленно начальника обороны к телефону!
– Слушаю, вашскобродь.
Уходили безвозвратно дорогие секунды. Берег гремел орудийным огнем, и тут, в слабо освещенном адмиральском салоне, превращенном в канцелярию штаба и сейчас опустевшем, начальник охраны рейдов чувствовал себя отрезанным от всего мира.
Наконец в трубке захрипел голос начальника минной обороны.
– У аппарата…
– Говорит начальник охраны рейдов… Что вы делаете, черт возьми! Включить батареи.
– Есть!
Начальник охраны швырнул трубку и снова помчался на палубу. В городе, на Корабельной слободке, начинался пожар от снарядов «Гебена». Корабли стояли без движения, врезанными в воду памятниками русской чугунной бессмыслицы, монументами имперского позора. Невидный уже за берегом Артиллерийский бухты, «Гебен» продолжал слать с моря воющие и рвущиеся сгустки стали.
Начальник охраны рейдов в бессильной злобе вцепился в поручни и вдруг, не обращая внимания на матросов, вслух захохотал.
Под неприятельским огнем, среди неподвижного растерянного флота, ставшего похожим на притихшее стадо, пыхтя и буравя воду, бежали от «Георгия» к «Евстафию» гуськом катера с адмиральским штабом и канцелярией.
В момент боя, прозеванного и обрушившегося на флот, как гром из чистого неба, корабли остались без командующего. Он сидел на корме адмиральского катера, нахохлившийся, понурый, оставшийся без пристанища, странный командующий беспризорного флота.
– Скотина! – яростно взревел начальник охраны рейдов, уже не считаясь ни с какими требованиями чинопочитания и осторожности. – Плавучий бордель катается.
Стоявшие рядом матросы, обслуживавшие штабной блокшив, беззвучно, из деликатности, захихикали, подталкивая друг друга.
* * *
Когда утихла стрельба и сыграли отбой боевой тревоги, Глеб торопливо выбрался из башни.
Стало неожиданно и страшно тихо над городом, над рейдом.
Только орали, низко проносясь над водой, всполошенные грохотом чайки и, как всегда, дрались из-за плавающих отбросов.
На верхней палубе Глеб заметил боцмана Ищенко, распоряжавшегося на рострах. Матросы возились у спасательного вельбота.
– В чем дело, Ищенко? – спросил Глеб.
Боцман сурово обернулся к мичману… И чего лезет?
– Кильблоки разбило осколком, вашбродь.
– Разве было попадание?
– Никак нет, вашбродь, – еще сумрачнее отозвался боцман. – Об воду и рикошетом осколками рвануло. По вельботу и по мостику. Их высокоблагородие мичмана Горловского убило.
– Что?
Глеб почувствовал странную отяжеляющую пустоту под ложечкой.
– Так точно, вашбродь. Голову раскроило. На месте скончались, без слова.
Матросы работали у вельбота молча и сосредоточенно. Не было слышно обычной переброски словами. Глеб справился с мучительной внезапной тяжестью и взбежал на мостик. У левого обвеса стояли сигнальщики, тесно сгрудившись, обступив Вонсовича. Штурман был бледен, у него отвисла губа, и, больше чем когда-либо, он походил на сеттера.
Двое матросов с голиками и ветошками мыли палубу у нактоуза, и Глеб, взглянув, увидел в ведре мутную, ярко-розовую воду. Его затошнило, и воротник кителя прилип к шее от внезапного пота. Он повернулся к сигнальщикам.
– Мы, значит, ваше высокоблагородие, стояли вот тут, значит, – сигнальщик испуганным жестом обвел вокруг себя, – он, значит, в море идет, еле его видать сквозь туман. Потом как блескануло на нем… р-раз, значит… и весь залп вон там слева, ваше высокоблагородие, об воду… Ну и выбросило!.. Сажен на пятнадцать кверху вода встала, как свечками, значит. А их высокоблагородие засмеялись еще и говорят: «Поздравляю, ребята, дождались, праздничка». А он тут снова как дернет по городу! От госпиталя так кирпичи и фукнули в небо… И наши, главное дело, молчат, просто злость берет… Что ж, думаем, значит, так он и будет садить, а мы в рот воды набрамши? Но тут в самую минуту с «Георгия» из башни и по ему дунули… Я гляжу – здоровый недолет, значит. Их высокоблагородие тоже увидели и говорят: «Надо показать „Георгию“ недолет, может, им за берегом не видно». Костюк это вмиг на шкаф и семафорит «Георгию». И только позывные, значит, успел дать, а тут совсем рядом об воду… И опять, значит, фонтан и прямо на мостик. Как вдарило водой – прямо молотом по башке. Я, ваше высокоблагородие, спиной об рубку как треснулся – Москву увидел! И всех поразметало – кого, значит, куда. Очухался я, тут вода журчит, ребята с карачек подымаются…
«Это тогда, когда я в башне услышал, как вода плеснула», – с холодком подумал Глеб, жадно прислушиваясь.
– Все, значит, встали, ваше высокоблагородие, оглядевшись – господин мичман под нактоузом лежат, руки раскинумши и ничком. Сперва думали – зашиблись об нактоуз. Подбегли, а у их высокоблагородия из-под головы кровь хлещет… Перевернули, значит, на спину, скричали санитаров, глядим, у их высокоблагородия заместо лица одна каша… Что-то они еще сказать хотели, какое-то слово, но только, значит, в горле у них одно бульканье зашлось, вытянулись, дрогнули и кончились.
– Вот, сын человеческий. Судьба, – сказал штурман растерянным, коровьим каким-то голосом Глебу. – И боя еще не было, а готов человек.
– Какой ужас, – трудно выжал из себя слова Глеб. – Ведь подумайте, вечером я видел его на Екатерининской. Он ехал… ехал с женщиной… – Глеб говорил все медленней, горло сжимало. – У него были такие счастливые глаза… Он смеялся, Викентий Игнатьевич… Смеялся…
Мутная пелена поплыла перед глазами, как медленно волочащийся пороховой дым. Глеб удивился. Поднял руку и, коснувшись лица, с удивлением понял, что это слезы мешают видеть. Он отвернулся. Офицеру неприлично реветь перед матросами, но это было сильнее его, это были обыкновенные мальчишеские неудержимые слезы, которые вскипали в детстве и лились без конца от обиды или боли. И остановить их было нельзя.
«Уступите очередь… За сколько?.. Даю пять… Свинство, хотите семь?» – вспомнил Глеб последний разговор за обедом, просиявшее улыбкой детское лицо Горловского с дымным пушком стриженых юношеских усиков. Так это было еще близко, так резко выплыло из тайника памяти, что Глеб склонился на поручни и, уже не сдерживаясь, затрясся всем телом в плаче.
– Бросьте!.. Брось, сын человеческий… Все там будем по очереди. Есмы говядина, погонами украшенная. Привыкайте, мальчик.
– Ваше высокоблагородие! Глядите… глядите! – неистово вскрикнул один из сигнальщиков, перегибаясь через поручни.
Глеб выпрямился. Слезы еще дрожали на ресницах, он по-детски смахнул их тыльной стороной кисти.
В ворота рейда медленно вползал с моря миноносец. Корма его была высоко приподнята, полубак осел в воду почти до палубы. Вся носовая часть до мостика дымилась, тугими струями хлестали там шланги, душа огонь.
Из рубки вышел каперанг Коварский. Сигнальщики расступились, пропуская его к обвесу. Молчали.
– «Пущин», – сказал наконец Коварский. – Очевидно, нарвался на «Гебена» в море.
Миноносец подходил ближе. Уже виден был весь опустившийся полубак с рваной дырой в палубе, под носовым орудием. Листы стали торчали развороченной розеткой, палуба выпучилась. На мостике дыбились остатки расщепленной обшивки штурманской будки.
Мучительно тихо скользя по воде, «Лейтенант Пущин» проходил вдоль борта «Сорока мучеников». На изуродованном мостике тесно жались офицеры.
Коварский прижал ладони рупором ко рту:
– Андрей Николаевич, с боевым крещением!.. Что у вас?
– Атаковали… С четвертого залпа – накрытие, подлец. Один – в командный кубрик, второй дал в рубку, – донеслось в ответ.
– С людьми как?
– Семь убитых, одиннадцать раненых.
Кто-то тихо и испуганно охнул рядом с Глебом. За надстройками и трубами миноносца открылась его кормовая часть. На палубе у кормового флага неподвижно лежало что-то, смутно угадываемое по очертаниям, накрытое брезентом. В нескольких местах по брезенту проступали темные пятна, как ржавчина. Часовой у флага, наклонив голову, неотрывно смотрел на брезент, и винтовка в его руках не стояла, как всегда, отвесным стеблем, а склонилась, шатаясь, набок.
Матросы на мостике «Сорока мучеников» молча крестились, провожая взглядами миноносец. Коварский снял фуражку, и Глеб торопливо сдернул свою.
Так вот оно – настоящее! Вот война! Ярко-розовая вода в ведре… «дрогнули и кончились»… старый в латках брезент… ржавые пятна на нем и страшные в неподвижности контуры.
Острое, как с размаху всаженная игла, пронзило воспоминание детства. По городу везли на свалку издохшую лошадь. Телега была накрыта таким же вот брезентом, чтобы не портить настроения обывателям. От тряски брезент сполз. Из-под него палкой торчала одеревенелая лошадиная нога, и хотя был чистый шумный летний день, эта одеревенелая нога была так страшна, что Глеб затрясся и бросился бежать к дому во всю прыть своих десяти лет. И долго потом эта нога пугала во сне.
А это на миноносце было страшней, и разве сможет он когда-нибудь забыть серую казенную мертвенность брезента и смертельную ржавчину на ней!
Механически, пустым жестом Глеб надел фуражку. Всем телом ощутил жесткий, кусающий утренний холодок. Взглянул на часы. Было пятьдесят минут восьмого. Через десять минут предстояло заступать вахту. Нужно было одеться. Глеб сообразил, что пронизывающий холод помимо нервного состояния, оттого, что, вскакивая по тревоге, он напялил брюки на голое тело.
Он спустился с мостика и побежал в каюту. На умывание, одевание, на стакан крутого кипятку, который взбодрит и приведет чувства в норму, оставалось девять минут. Нужно было торопиться. Что бы ни случилось, флотская служба должна была идти по своему вековому ритуалу, и опоздать на вахту мог только мертвый, для живого это было преступлением.
* * *
Командующий флотом вступил на палубу флагманского корабля в ту минуту, когда, отвлеченный от бомбардировки города безнадежной атакой дозорного дивизиона, «Гебен» прекратил огонь по крепости и рейду и обрушился на атакующие миноносцы. Подбив головного «Пущина» и отбив атаку, крейсер внезапно повернул на шестнадцать румбов и вышел из района минного заграждения помер три, боевые батареи которого были наконец замкнуты в это мгновение.
Адмирал Сушон не захотел больше рисковать и бросился в море на пересечку одинокому и всеми покинутому «Пруту».
Когда над «Евстафием» взвился адмиральский флаг, бой был кончен, противник исчез из вида. Командующий упустил время командовать, и сейчас его присутствие было бесполезно и на «Евстафии» и на «Георгии».
Надеяться догнать противника в море, при двойном превосходстве его в ходе, мог только сумасшедший, и при таких условиях выход флота в море отпадал, как безнадежная фантастика, к тому же еще и опасная, так как неприятельский крейсер мог набросать за собой плавучие мины и без предварительного траления фарватера нельзя было высовываться за бон.
В сумрачном молчании начальника штаба, в опущенных глазах офицеров и матросов адмирал чувствовал презрительное осуждение.
«Старая ворона… Шляпа», – безмолвно говорило каждое лицо.
Эбергард тяжело ходил по салону, смотря под ноги, и, путаясь в словах, вяло диктовал Плансону текст донесения в Ставку верховного главнокомандующего. Донесение требовало особо осторожного подбора выражений, а встревоженный мозг, как назло, не мог найти нужных, точных фраз.
В дверь салона осторожно просунул голову флаг-офицер, мичман Рябинин.
Голова была маленькая, как у петуха, с петушьим коком. Волосы синевато блестели, отлакированные бриолином. Никакая катастрофа не могла помешать мичману привести голову в состояние обычного лоска. Даже оторванная снарядом, она должна была бы оставаться образцом высочайше утвержденной мичманской головы для всего обер-офицерского состава.
– Ваше превосходительство, – голос флажка тянулся вязко, как стынущая патока, – начальник охраны рейдов просит экстренно принять.
Командующий остановился на полушаге. Лицо его мгновенно побурело, он поднял руку к воротнику кителя и просунул в него палец, как будто хотел разорвать стянувшую шею петлю. То, чего он больше всего страшился сейчас, надвигалось. Оно воплощалось в коренастой фигуре начальника охраны рейдов. Адмирал многое отдал бы, чтобы отдалить минуту этой встречи, но отказать было нельзя.








