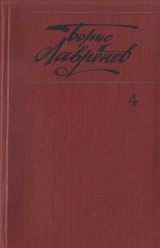
Текст книги "Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 46 страниц)
Судостроителей на весь выпуск было девять. Кому же охота добровольно отрекаться от прелестей жизни? Только сумасшедшие или аскеты могут решаться на это безрадостное существование. Они сами избирают удел презрительного забвения и платят за него тем же, строя для избранных корабли, которые к моменту спуска оказываются архивными экспонатами, с малой плавучестью, с вылетающими от башенных залпов клепками и другими катастрофическими дефектами.
Сто восемьдесят корабельных гардемаринов разных сортов, объединенные пока еще в одно целое железными клещами строя, ждали внезапного выпуска.
Они стояли в мертвой тишине, а за стенами корпуса кипела и билась встревоженная накатывающимся валом военного шторма невская столица.
Но здесь было тихо. Потолок знаменитого зала развертывал над гардемаринами свой простор, как огромный белый парус, уносящий к счастью и славе.
Зал был знаменит своей огромностью и солидностью. Прочность бесконечной площади паркетного пола была испытана после капитального ремонта оригинальнейшим и остроумнейшим способом. Кто-то из высшего начальства, осмотрев только что отделанный зал, усомнился в прочности тонких рельсовых балок, заменивших чудовищной толщины корабельные сосны, поддерживавшие пол до ремонта.
– Это не балки, а спички, – брюзжало начальство. – Роту ввести – и провалится.
Обиженные строители решили наглядным способом доказать облыжность начальственных подозрений. Золотым августовским утром в зал были приведены два батальона Балтийского экипажа с оркестром.
Батальоны построились в две колонны повзводно, с законными интервалами, во всю длину зала. Оркестр отвели на хоры, где у решетки собралось начальство – строители, приемная комиссия, офицеры батальонов. Внизу, на отливающем синью из окон паркете, в интервалах между взводами, по углам зала, на середине, по диагоналям, стояли заранее заготовленные сейсмографы и другие сложные приборы для измерения колебаний. Батальоны замерли на месте по команде «смирно», не подозревая и недоумевая, зачем их расставили на этой паркетной пустыне, где загадочно поблескивают стеклом и медью неизвестные приборы.
Но им не дали долго раздумывать. Командир первого батальона набрал воздуха в легкие и пропел с хор оглушающим баритоном:
– Батальо-о-оны!.. На месте ша-а-агом ма-а-а-арш!
Платиново мерцающие трубы оркестра ударили в стены гулким тараном Преображенского марша. Две тысячи тяжких дюймовых каблуков грянули в паркет. По залу пошел громыхающий рокот, ударяясь в потолок, разбиваясь о решетки хоров.
Зеленый мичманок, дежуривший в тот день по корпусу, тревожно округлил глаза, побледнел и незаметно прошил грудь мелкими крестиками, а председатель приемочной комиссии, контр-адмирал Колокольцев, осклабился, как нажравшийся рыбы тюлень, и воркующе сказал командиру батальона:
– Лихо они у вас ходят. Прямо слоны!
Озадаченные небывалым маршем, слоны балтийского экипажа, наливаясь кровью, грохали в пол с точностью метронома. Удары били залпами:
– Батальо-о-ны!.. На месте ша-а-агом ма-а-а-арш!
Сатанея, звенел оркестр, и командир батальона, с отвисшей внезапно челюстью и осоловелыми, как у мышиного жеребчика, разглядывающего ножки балерин, глазами, перегнулся через перила решетки и, утеряв ясность голоса, исступленно прохрипел:
– Ножку!.. Крепче ножку, ребята! По две чарки, молодцы!
Гром усилился. Казалось, качается все здание. В рядах батальонов началось странное, непозволительное шевеление. Головы заводных слонов, устремленные по уставу прямо вперед, стали оборачиваться назад к хорам, лица бледнеть. Люди поняли, но продолжали с отчаянием безысходности грохотать каблуками.
Двадцать минут продолжался этот страшный неистовый марш на месте, все оглушительней, все быстрее темпом, пока Колокольцев не махнул с испугом рукой. Оркестр смолк, оборвался грохот. Батальоны вывели из зала. Проходя коридорами к выходу, матросы во всю глотку матерились. Взводные делали вид, что не слышат.
В зале сутулый поручик корпуса корабельных инженеров, единственный офицер, находившийся внизу для наблюдения за приборами (кого же еще можно было оставить с матросами, обрекая на гибель в случае обвала, как не третьесортного офицера!), зябко пожимая плечами, рассказывал обступившему начальству:
– Прямо не знаю, господа, как выдержал. Весь пол плясал, как пружинный матрац. Вверх… вниз… Точно качели, ей-богу. Я сперва все же следил за приборами, а потом плюнул, закрыл глаза и только жду… вот-вот пролетим в первый этаж. Дрожу, как лист, и «Отче наш» читаю… Девять раз прочел, ей-богу.
А на улице в рядах уходивших батальонов по шеренгам глухо перекатывалось:
– Это что же, братцы? До чего драконы, сволочи, додумались!
– Нашим братом балки пытать?
– Погоди, мы ихнего брата тоже под балки положим.
И в первый раз офицеры не оборвали недопустимые разговоры в строю, шли молча, кусая губы и бледнея.
С тех пор под тягучую томность вальсов и резвый дребезг мазурки безопасно носились по залу во время корпусных балов крепкие ноги гардемаринов и маленькие в шелковых туфельках ножки институток. С тех пор спокойно устраивались в зале парады и разводы – знали, что если балки выдержали топот двух батальонов грузной, набитой кашей и щами, матросни, то легких, подвижных, призванных повелевать, выдержат безусловно.
По строю гардемаринов словно прошелестел ветер, шатнув его. Выравнивая ряды, повелительно хлестнула команда. Корабельные гардемарины вытянулись, вскинули головы, три гардемаринские роты с тупым плеском взнесли перед собой стальной частокол штыков.
За дверью зала, в дымной глубине коридора, зашелестело, зашаркало, тускло блеснуло золотом, муаровой радугой лент. Торжеством, триумфальным величием встречи обрушился оркестр. И директор корпуса, славный рассеянностью и чудачествами, высоко подняв плечи с адмиральским орлом (был произведен всего месяц назад), плавно скользнул по паркету туда, к дверям, в блеск золота, в переливы муаров, и отлился неподвижной черно-золотой статуей, рапортуя.
Низкорослый, в мешковатом мундире, с эполетами капитана первого ранга, с голубой мерцающей рекой Андреевской ленты, с неуловимым лицом в бесцветной пепельной пене бороды и усов, прослушав, протянул руку, принимая четвертушку строевого рапорта. Прошел мимо отступившего адмирала на середину зала. Гардемаринские головы плавно поворачивались за его движением, как башни за вражеским кораблем.
За низкорослым, почтительно клоня к нему голову, шел худой, подобранный, с лицом инока Осляби, морской министр генерал-адъютант Григорович и, отступя, безликая золотоплечая, золотогрудая мешанина свиты.
Остановившись, мешковатый капитан первого ранга повернул голову к Григоровичу, тихо сказал что-то. Министр почтительно согнул спину, отвечая. Со стороны строя было смешно смотреть на каучуковое сгибание полного адмирала, сурового старика, перед младшим в чине. Но над капитаном первого ранга учинила злую шутку история. Его венценосный родитель, Александр Третий, внезапно почил, опившись в Ливадии, не успев произвести возлюбленного наследника в генеральский чин. Это было непоправимо – по закону царствующий император не мог сам себя повышать в чинах. И самодержец всероссийский двадцатый год вековал в штаб-офицерах, как забытый в провинции и обойденный замухрышка, командир какого-нибудь Обдерилаптинского полчка. От этого, от сознания своей воинской ничтожности, на парадах он всегда смущался в окружении генералитета, сбивался с ноги, сердито покашливал, по-ефрейторски разглаживая усы вывернутой ладошкой.
И сейчас, проведя пятерней по усам, невнятно сказал, когда смолк оркестр по знаку министра:
– Здравствуйте, господа гардемарины.
И вздрогнул от дробного раската:
– Здрав… жлаем… ваш… императст… во…
Самодержец переступил с ноги на ногу, как будто жали новенькие ботинки. Путаясь пальцами, полез за подкладку треуголки, скосив туда глазом. Сказал, не подымая головы:
– Господа гардемарины! По случаю посещения нашей дорогой родины главой союзной нам Франции, президентом Французской республики, признали мы за благо произвести выпуск офицеров флота ранее установленного срока. Надеюсь, что вы будете служить матушке-России так же доблестно и честно, как ваши старшие товарищи… Будьте строги, но справедливы с подчиненными и уважайте ваших начальников. С верою в милость божию храните честь нашего славного андреевского флага в грозную для Руси минуту… Поздравляю вас офицерами…
Император запнулся… Возможно: хотел сказать еще привычное: «Подымаю бокал за ваше здоровье». Фраза лезла сама на язык, хотя бокала и не было.
Но гардемарины приняли заминку за окончание речи. Ревущее «ура», поддержанное грузными колоннами аккордов гимна, поплыло над строем. Николай растроганно обмяк, вынул платок, сморкнулся и пошел к выходу. «Ура», отпрыгивая от потолка, грохочущими комьями валилось на начинающее лысеть темя самодержца.
Строй треснул, сломался, ринулся. Гардемарины гурьбой бросились по коридору, на почтительном расстоянии провожая державного вождя флота нечленораздельным, надрывным воем. Глеб заметил, как, неистово работая локтями, проталкиваясь вперед, разевал рот, чернея от прилива крови, Бантыш-Каменский. Постепенно замедляя шаг, Глеб отстал. Тот холодящий нервный подъем, с которым он ждал, стоя в строю, появления императора, внезапно исчез. Бежать и орать «ура» рядом с Бантышом не хотелось.
Ярко припомнилось, как в комнате Мирры на него полезла из волшебной зеленой полумглы подхихикивающая истасканная физиономия Бантыша, и от этого стало томительно противно. Глеб совсем отстал от гардемаринской толпы и пошел в курилку. У входа услышал нагоняющие шаги и обернулся.
– Чугунка? Ты что, тоже сбежал?
Беловолосый, круглолобый, розовый Чугунов пренебрежительно махнул рукой, догнав Глеба.
– А ну их… Не офицеры, а вологодская плотва по первому году. Топочут по коридору, как бараны. Неужели нельзя сдержанней?
– Узнаю вашу милость, – улыбнулся Глеб. – Как всегда, «принципиально против».
– А что? – запальчиво надвинулся Чугунов, все же понижая голос, хотя в курилке было пусто. – Разве не комедия? Два часа морили в строю, как истуканов. Зачем? Две минуты послушать, как величество мямлит словеса, заглядывая в шпаргалку на дне треуголки? Скука… Из года в год одно и то же… Хоть бы для такого случая новый текст придумали… А мы, как ишаки, «уру» ревем.
– Ясное дело, – поддразнил Глеб. – И чего только ты молчал? Вышел бы из строя и сказал: «Ну, отойдите, ваше величество. Не выходит у вас. Вот я, гардемарин Чугунов, сказану…»
– Идиот!.. – обиделся Чугунов.
– Не сердись, Чугунка. Я шучу… Ты прав – тоскливо.
Оба молча закурили.
Глеб действительно чувствовал щемящую, подступающую слезами, тоску. Жданная годами радость производства, до которого тщательно отсчитывались годы, месяцы и дни, перед которым тускнели все другие события гардемаринского существования, – была грубо скомкана, смята, раздавлена этим неожиданным выпуском в верчении военных вихрей, уже колебавших страну. Все произошло мгновенно, наспех и не так, как представлялось. Даже вместо чаянных мичманских мундиров с эполетами пришлось встать в строй в будничных кителях, и от этого церемония тоже выглядела буднично и тускло. И вместо двухнедельного веселого гулянья предстояло через трое суток выехать в Севастополь. Отсрочки не могло быть.
Только три дня в Петербурге. Сегодня шестнадцатое июля – значит, девятнадцатого уже в вагон. Но ведь Мирра будет в Петербурге только восемнадцатого. Что же, удастся пробыть с ней два неполных дня? Но это ж невозможно! Что делать? Может быть, проситься остаться в Балтике? Нет! Поздно и неудобно. Весь год он только и говорил о Черном море, вакансия давно выбрана. Если менять теперь, нужно ставить все адмиралтейство вверх ногами. Но для этого у него нет достаточно сильной протекции. Так – откажут, а обращаться за помощью к имеющим руку в министерстве – противно.
«Эх, и упек же я себя!» – отчаянно подумал Глеб, грызя мундштук папиросы. Чугунов внимательно смотрел на хмурое лицо Глеба.
– Что с тобой, Глебка, если не секрет? Ты плохо выглядишь.
Годы корпуса связали Глеба с Чугуновым ниточкой доверчивой юношеской привязанности. Чугунов, как и Глеб, ехал на Черное море, и это еще больше сближало. И Чугунов был одним из немногих серьезных, не ветрогонных юношей и внушал Глебу уважение, несмотря на забавную внешность.
– Так, – ответил Глеб, жалко улыбнувшись, – непонятное что-то, Чугунка. Нужно бы радоваться, а я… видишь… Пустота и смятение. Как будто вытряхнули все из меня и остался пустой футляр.
– А чему особенно радоваться? Радоваться после будем, когда отвоюем. У морского царя на дне весело будет. Садко на гуслях играет, и моржи затыкают задницы льдом во избежание тумана.
– Может быть, все-таки до войны не дойдет? – сказал Глеб и сам удивился, как он, только что выпущенный гардемарин, безотчетно хочет, чтобы вся кружащаяся сумятица событий кончилась мирно.
– Держи карман шире, – буркнул Чугунов, – а для чего тебе в спешном порядке надели мичманские погоны сегодня, а не подождали пятого октября? Почему высокий гость, мусью Пуанкаре, стремительно плывет сейчас на «Франс» через Каттегат, чтобы добраться вовремя до дому? Почему австрийцы громят Белград, а мы объявили вчера мобилизацию? Будь спокоен, когда мы сядем в вагон, на границе уже будет мордобой. Флот фактически мобилизуется, заградители с полным запасом мин под парами. Нет, голубчик, рыбки уже виляют хвостиками, чуя вкусное мичманское мясцо. – Он встал и положил руку на плечо Глеба. – К бою, мичман!.. открыть погреба!.. башни на правый борт!.. Дистанция… А, все равно. Раздумывать нам с тобой не полагается. Казенное имущество – куда повезут, туда и поедем. А если не сгорим в огне и в воде не утонем, тогда…
– Что тогда? – спросил Глеб, взглянув на замолчавшего Чугунова.
– А тогда и увидим, что вырастет… Ты что намерен делать вечером? – спросил Чугунов, явно желая переменить тему разговора.
– Право, не знаю. Собиралась компания к Додону вспрыснуть погончики, но мне что-то неконвенабельно.
– А хочешь – поедем к нашим? Я тоже не имею желания праздновать в такой обстановке. У нас будет посемейному тихо. Мама, сестры да мы с тобой. Хочешь?
Глеб с благодарностью принял приглашение. Ему хотелось простого домашнего тепла, ласковой семейной тишины. Буйный ресторанный кутеж выпускных мичманов, который наверняка закончится уличным скандалом и поездкой к женщинам, – показался отвратительным.
* * *
Каменный окоп Невского проспекта, выдолбленный в тусклых, серых массивах домов, охраняемый с обоих концов часовыми – башнями Адмиралтейства и Николаевского вокзала, – непривычно бушевал звуками и красками.
Трехцветные флаги в кронштейнах и на балконах нежно трепетали, как присевшие отдохнуть на домах огромные бабочки. В окнах, у балконных решеток, на панелях всеми цветами полыхало людское множество. Панели, по которым любило чинно, без помехи, прогуливаться в свои часы петербургское чиновничество, были сейчас забиты человеческим месивом, плотным, как шпроты в банке. Толпа стискивала и плющила людей.
И в стиснутых руках, повисая на сломанных в давке стеблях, – белые, алые, синие, – пестрели по всему проспекту цветы, цветы, цветы.
От множества цветов в июльский жар над проспектом подымалось ароматное удушье, и между расцвеченными панелями по мостовой текла бесконечная, шумная, мутно-зеленая река, накатывая правильные волны. Солнце над золотеющей пикой Адмиралтейства рябило эти волны тусклым стальным мерцанием штыков.
По смоленскому пластрону торцов, вместо льстиво-пристойного шелеста дутиков и автошин, гулко и грубо, крича о силе, устрашающе грохотали кованые колеса лафетов и зарядных ящиков, каменным рокотом прибоя боцали сапоги тысяч.
Золотом песчаных отмелей сверкали в этой зеленой реке трубы оркестров, и торжественный ритм маршей колыхал дома, людей, весь проспект от края до края.
Петербург, Санкт-Петербург, столица империи, провожал свою гвардию. Гвардия уходила на фронт, неузнаваемо обесцвеченная серой зеленью защитных рубах, потерявшая волнующий блеск и яркость мирной раскраски. Но от этого она казалась петербуржцам суровее и величавее, похожей на ряды римских легионов, идущих завоевывать мир.
И Санкт-Петербург не щадил для своей гвардии цветов, улыбок и легких.
Безостановочное, уже хриплое, но все так же восторженное «ура» лилось из окон, с балконов, панелей вперемежку с цветами. Цветы падали крупным, радужным, душистым ливнем, устилая торцы мягким живым ковром, чтобы ногам гвардии было легче шагать по пути побед. Цветы пылали в петлицах гимнастерок, за походными ремнями, на погонах, кокардах, винтовочных дулах.
На лафетах проходящих орудий лежали охапки цветов, и черноглазый хорошенький мальчик, подпоручик лейб-гвардии конно-артиллерийской бригады, гордо высился на новом скрипящем седле перед взводом, без фуражки, в бело-золотом венке нарциссов, брошенном ему с панели девушкой в голубой соломенной шляпке.
Гвардия уходила на фронт. Она имела право на внимание и любовь Санкт-Петербурга, размеренный покой которого она охраняла доблестно и верно в течение двухсот лет от всяких бурь. Гвардию нарочно вели на вокзал главной артерией Санкт-Петербурга, а не второстепенными улицами Питера, чтобы зрелищем восторга и преклонения петербуржцев изгладить из памяти гвардии обиды, понесенные ею несколько дней назад от жителей Питера, неблагодарных и невоспитанных, не умеющих оценить защитников родины.
В захудалых питерских кварталах гвардию также встречали плотные толпы людей, но у них не было достаточно такта, чтобы, расступясь по панелям, оставить гвардии широкий свободный путь. Они загораживали улицы поперек своими телами и трамвайными вагонами. Их крики были тоже громки, но грубы, в них отсутствовали ласковые интонации. В гвардию вместо цветов летели бутылки, вывороченные из мостовой булыжники и даже револьверные пули. Бестолковая чернь застав не хотела понять, что гвардия – соль земли, надежда и любовь Санкт-Петербурга, главный оплот столицы и России.
Гвардия была жестоко обижена этим невежеством, и нужно было дать ей последнее удовлетворение встречи с теми, кто понимал, как нужно провожать на боевую страду самых верных, самых избранных рыцарей русской земли.
И выходившая из казарм с хмурыми еще от огорчения лицами гвардия расцветала, проходя по Невскому, под беспрерывным дождем криков, цветов и улыбок.
Любовь Санкт-Петербурга щедро проливалась на нее, как весенний теплый проливень на распаханный чернозем.
Глеб стоял в безнадежно застрявшей у Главного штаба пролетке, держась за пухлое плечо извозчика, и смотрел на бесконечное шествие гвардии. Переехать через Невский нечего было и думать. Санктпетербуржцы разорвали бы в клочья каждого, кто осмелился бы нарушить триумфальный порядок этого шествия их гвардии, невзирая на офицерские погоны нарушителя.
– Не выйдет, васясь, – сказал извозчик, оборачиваясь. – Гляньте, что делается. Идет Русь-матушка на немца всей силой.
– Объезжай через Марсово поле, – с досадой приказал Глеб.
Он бессознательно относился в этот момент к гвардии почти так же, как отнеслись к ней на питерских заставах. Он, правда, был далек от того, чтобы выворачивать из мостовой булыжники, но гвардия была для него неприятной помехой, она загородила ему путь к Мирре.
Но, объехав кругом и приближаясь по Литейному к углу Невского, он увидел, что и здесь сбита такая же плотная толпа. На этом перекрестке гвардия сворачивала с Невского на Владимирский и Загородный, к Царскосельскому вокзалу.
Выругавшись, Глеб расплатился с извозчиком и, проложив дорогу через толпу, перебежал мостовую под мордами лошадей гусарского эскадрона. Гусары с презрительными усмешками смотрели на мичмана, бегущего перед лошадьми. Флот, в лице Глеба, вынужден был торопиться, чтобы не попасть под копыта армии.
Выскочив на тротуар и резко расталкивая толпящихся петербуржцев, Глеб вышел наконец на Троицкую. Здесь было свободно. Размашисто, почти бегом, Глеб добрался до Пяти углов.
Угловой шестиэтажный дом давил и разглаживал перекресток серым, громадным утюгом. Острой грудью, стеклянными выступами фонариков он победно раздвигал, оттесняя в расступившиеся пять улиц, унылые каменные коробки, не достигавшие окон его пятого этажа.
Гранитным мысом он входил в пространство города, высоко вздымая шпиц своей башни, как знамя неудержимой купеческой экспансии, орифламму золотого мешка, беспощадно наступающего на оробелое и притихшее, закопченное стадо дворянской архитектуры, на прошлое имперской столицы.
Зеркальные овалы двери подъезда бесшумно раскрылись перед Глебом. Пышная борода Черномора распласталась по ливрейной груди в низком поклоне.
– Бельэтаж, направо, ваше высокоблагородие.
По суконной красной дорожке Глеб взбежал в бельэтаж, позвонил. Голубая горничная в наколке впустила его, оценив внимательным и опытным взглядом, попросила в комнату, откидывая портьеру. Глеб вошел в серо-голубой уют матовых обоев и кожи. Посреди комнаты стоял человек, чертами лица очень напоминающий Мирру. Та же легкая неправильность лица, длинные ресницы, только все определеннее, тверже.
– Семен Григорьевич? – спросил Глеб.
– Так вот вы какой, – не отвечая на вопрос, сказал человек. – Я знаю вас по письму Мирры. И сегодня, не успев положить чемодан, она стала рассказывать только о вас. Очень рад познакомиться. Конечно, приятнее было бы встретиться в более спокойное время, но что делать… Курите? Может быть, сигару? Вероятно, вскоре с сигарами придется проститься…
Он предупредительно подвинул Глебу ящичек.
– Спасибо, – отказался Глеб. – Так Мирра Григорьевна приехала?.. Она дома?
Нейман понимающе, по вполне корректно улыбнулся, смотря через плечо Глеба.
– Если вы обернетесь… – сказал он с поклоном, и Глеб услыхал сзади шорох, бросивший его в жар.
В дверях он увидел Мирру. Смущенно и неловко поклонился.
– Мирра Григорьевна…
Но нежданный жаркий, душистый вихрь налетел на него, смял, завертел, повис на нем опьяняющей тяжестью.
– Ну, здравствуй же… здравствуй… Ну что? Ты даже не хочешь меня поцеловать?
Девушка, хохоча, тормошила опешившего Глеба.
– Глебушка… Какой ты смешной! Ты язык потерял? – болтала она, вися на Глебе.
Глеб с беспомощным испугом взглянул исподлобья на Неймана.
– Умываю руки… Не сестра, а разбойник, – засмеялся Нейман. – Впрочем, Глеб Николаевич, я в курсе дел. Можете не брать меня в расчет.
– Ну… Ты и после этого будешь стоять такой смешной чучелкой? – спросила Мирра, приближая лицо, и тогда Глеб еще неловко и чрезмерно громко чмокнул ее в щеку.
– Садись, – Мирра насильно повлекла его к дивану. – Рассказывай… Нет, лучше я буду рассказывать… Я жалею, что не поехала с тобой. Какой ужас в дороге! Вагоны переполнены, грязь… на всех станциях стоим… все забито… и эшелоны… без конца эшелоны… Плач, вой, страшно. В Москву опоздали на восемь часов… Только случайно попала в курьерский… А ты как? Тебя отпустили? Надолго?
Завороженно смотря в глаза девушки, слушая щебет, Глеб сразу вспомнил при этом вопросе, что завтра отъезд. Бесповоротный, неотложный отъезд. У него захватило дыхание. Тихо сказал:
– Мирра… Я завтра еду…
Девушка откинулась, не понимая. Пальцы ее сжали руку Глеба.
– Едешь?.. Куда?..
– В Севастополь. Ведь война же, – еще тише выговорил Глеб, как будто оправдываясь, хотя оправдываться было не в чем.
– Постой… я ничего не понимаю. Как же… ведь ты говорил – до октября?..
Глеб молча и с ненавистью щелкнул пальцем по мичманскому погону, по так долгожданному мичманскому погону.
– А что? Я не понимаю…
– Да ведь нас же досрочно произвели… Дали три дня. Завтра я должен выехать.
Девушка прижалась к нему. Губы детски недоуменно и тоскливо дрогнули.
– Глебушка… Этого не может быть. Я так мечтала приеду, будем вместе бродить по Петербургу, ты будешь мне все показывать. Помнишь, я говорила тебе, что бредила Петербургом… Как же так?.. Не мучь меня. Неужели нельзя отложить?
Глеб усмехнулся. О, если бы была какая-нибудь возможность!.. Но что мечтать впустую!
– Ничего нельзя сделать, Мирра… Ничего.
Она вскочила и подбежала к брату.
– Сеня… Что же это такое? Ну, неужели ты ничего не можешь придумать? Ты же юрист…
Нейман пожал плечами.
– Я юрист, а ты ребенок. Ведь Глеб Николаевич военный. Он же не ратник второго разряда, чтобы я мог выхлопотать ему отсрочку. Война!
Мирра отвернулась. Плечи ее поднялись уголками.
– Двое мужчин – и ничего не могут придумать. Хороши!
Глеб взглянул на Неймана. Оба засмеялись.
– Единственный выход, – сказал Нейман, – купить Глебу Николаевичу в Вяземской лавре липовый паспорт и отправить его в тайгу. Или внести в Государственную думу срочный законопроект о пожизненном освобождении офицерского корпуса флота от воинских обязанностей…
– Ты все шутишь, – упрекнула Мирра, – но ведь это Глеб уезжает завтра… Завтра!..
– Шутит или не шутит Семен Григорьевич, – уныло сказал Глеб, – а ехать нужно, – и ничего не сделаешь.
Мирра обернулась к нему.
– Ты очень нехороший. Но я беру тебя в плен до самого отъезда. Ты никуда не уйдешь от нас и останешься ночевать… Правда, Сеня?
– Конечно, Глеб Николаевич. Не стесняйтесь. Квартира просторная – места хватит.
– Но у меня же все вещи в корпусе, – попробовал возразить Глеб. Но возражал больше для приличия. Возможность пробыть с Миррой до конца была заманчива.
– Ерунда! Сейчас мы с тобой отправимся бродить по Петербургу. Я хочу хоть в первый раз посмотреть его вместе с тобой. А потом ты заедешь за вещами и вернешься к нам. Идем.
По Загородному все еще текла зеленая река гвардии, звенела музыка и гремело «ура».
– Я не хочу на это смотреть, – болезненно зажмурилась девушка. – Куда-нибудь подальше, где тихо и нет людей.
На углу Московской они нашли лихача.
Серый рысак пролетел Марсовым полем, прогремел мостом и, стрекоча копытами по торцу, помчал Каменноостровским.
Весь остаток дня они носились по островам, обедали на Стрелке и только к вечеру направились обратно в город. Усталый конь шагом пошел через Елагин мост.
– Вот, – сказал Глеб, – это место внушило Блоку те стихи, которые я тебе прочел в день нашей встречи у Лихачевых.
– Да? – Мирра с интересом посмотрела на мост и часовенку. – Это и другое, помнишь? «Вновь оснежённые колонны, Елагин мост и два огня. И голос женщины влюбленный. И хруст песка и храп коня»… Как странно… Когда-нибудь умрет Блок, забудется многое из его стихов, а вот мимо этой часовенки будут, как и прежде, проезжать тысячи влюбленных и вспоминать эти строчки, пьянея грустью.
Она оглянулась. Мост был пуст, только две старушки ковыляли через него. Мирра вытянулась и крепко, жадно поцеловала Глеба.
– Ты ведь останешься жив для меня? Правда, родной?
Глеб невесело усмехнулся.
– Если бы это зависело от моего желания… Впрочем, на Черном море, вероятно, будет спокойно. Будем плавать, как в мирное время, и завидовать балтийцам.
Но, сказав, почувствовал, что никакой зависти к балтийцам не испытывает, – наоборот, сердце радостно билось от сознания, что Черного моря вряд ли коснется война.
Отвезя Мирру домой, он в одиннадцатом часу поехал за вещами. По корпусу бродили сонными мухами несколько обездоленных мичманов непетербуржцев, не имеющих пристанища в городе и застрявших до выезда на корпусном пепелище. Наскоро простившись с ними, Глеб погрузил чемоданы и помчался на Загородный.
В столовой он застал Мирру и Семена Григорьевича за столом. Нейман был во фраке.
– Вы почему в таком параде, Семен Григорьевич? – спросил Глеб.
– Сейчас еду вместе с патроном к одному его клиенту. Никифиров… Может быть, слышали – мануфактурист?.. Возрадовался купчина, что запахло жареным, и устраивает патриотический вечер. Наверное, на всю ночь закатимся, так что меня не ищите. Вернусь не раньше утра… Кстати, если хотите, Глеб Николаевич, я могу дать вам письмо в Севастополь к моему другу, доктору Штернгейму. Вы ведь, полагаю, будете себе устраивать пьедатерчик[23]23
Пристанище.
[Закрыть] на берегу. Мирра сказала, что вы любите рояль. А Штернгейм прекрасный музыкант и поможет вам найти место, где вы могли бы пользоваться инструментом.
Глеб поблагодарил и, закрыв дверь за Нейманом, улыбаясь, вернулся в столовую.
– Я вспомнил, – сказал он на вопросительный взгляд Мирры, – как ты ошеломила меня утром встречей. Я думал, нам придется играть роль знакомых, разговаривать «на вы», и вдруг… Я просто ошалел, не зная, как к этому отнесется Семен Григорьевич.
Я же говорила тебе, что он совсем другой. Он простой, мы с ним друзья, и он мешать не будет. Это его принцип. Он никому не мешает и требует, чтобы ему не мешали.
– Он женат? – спросил Глеб.
– Нет… если говорить об обыкновенной женитьбе. Но у него есть большой друг – художница. Она замечательная. Сеня приезжал с ней два года назад к нам. Жаль, ты ее не увидишь, она сейчас на Кавказе.
Они вышли из столовой на балкон. Белые ночи шли на убыль. В полночь было уже почти темно, но фонари на улицах не зажигались. Внизу все еще шумела людская толчея взбудораженной первым военным днем столицы.
Голубоватый полусвет, похожий на сияние луны сквозь туманную дымку, дрожал над улицей. В неровный шум улицы вошло неожиданно мерное шарканье и позвякиванье. Мирра круто повернулась по направлению к этим приближающимся звукам.
Со стороны Невского подходила какая-то пехотная часть. Гвардия продефилировала по столице днем, на глазах у петербуржцев, в ярком солнечном свете, грозная, Непобедимая. Ночью погнали к вокзалам пасынков – армию. Уставшая за день публика равнодушно смотрела на серые шеренги, не имея уже сил кричать. И цветы были все израсходованы на гвардию.
Взводы пехотинцев шли медленно и устало. Едва различимые с балкона лица казались бледными, призрачными. Глухо шаркали по мостовой сапоги, мерно позвякивали котелки и саперные лопатки.
Мирра всей тяжестью налегла на плечо Глеба, глаза ее испуганно раскрылись.
– Глеб… Что это? Мне страшно…
– Что ты? Это же солдаты, – успокаивающе сказал Глеб, не понимая причину внезапного испуга девушки.
– Мне показалось… помнишь ту ночь… арестантов? Совсем как тогда. Тот же голубой туман… пыль, шарканье, звяк кандалов. И такие же согнутые, несчастные, и их гонят, гонят… Куда, Глеб? Зачем?
Глеб молчал. Ему нечего было ответить. Он не мог ответить.
Солдаты скрылись. Рассеивая ночной бред, опалами вспыхнули дуговые фонари. Лилово дымясь пылью, улица засияла.
– Идем в комнату, – сказала Мирра, – мне почему-то тяжело здесь.
В гостиной на рояле лежали поты.
– Смотри, – Мирра взяла знакомую Глебу тетрадь, – я привезла из дому. Я думала, что ты не раз сыграешь мне ее здесь. А теперь возьми себе. Если захочешь вспомнить обо мне, сыграй в Севастополе.








