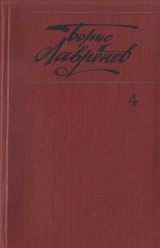
Текст книги "Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 46 страниц)
Глава двадцать третья
СТРАННЫЙ ПАЦИЕНТ
Разбитые белые армии катились к морю. С каждым днем освобождались из-под помещичье-генеральской пяты все новые и новые пространства трудовой земли, политой потом и кровью бойцов. Но за спиной победоносных армий советской страны вставала новая угроза. То там, то тут вспыхивали восстания кулаков, поднимаемые и поддерживаемые агентами белых. По разоренным губерниям бродили бандитские шайки зеленых, составившиеся из дезертиров обеих сторон и уголовного элемента. С ними завязалась новая упорная и кровопролитная борьба.
* * *
В кабинете члена реввоенсовета армии сидели у стола, заваленного бумагами, два человека.
– Вы неправы, товарищ Твердовский, – сказал один из них, поднимаясь, – это не мелочь. Это очень серьезный противник. Может быть, даже серьезнее белых. С белыми на этот раз покончено, они больше не оправятся, и мы добьем их остатки и без вас.
Второй из разговаривающих, Твердовский, покачал головой.
– Смотрите, вам виднее. Наделает вам еще Врангель хлопот. А если сейчас на него обвалиться лихим рейдом, от него в две недели ни пуху, ни пера не останется. А вы меня на каких-то несчастных бандитов гоните.
Член реввоенсовета улыбнулся.
– Я понимаю, что вам обидно после Слонова драться с зеленым Симоновым. Но я повторяю вам, что это очень серьезный противник. Восстанием охвачена вся губерния. Предпосылки удачны для повстанцев. Сильно пересеченная местность, масса мелких, но густых древесных порослей и болота, делающие их неуловимыми. Вспомните вашу собственную практику, когда вы командовали лесными братьями. С маленькой дружиной вы ввергли в панику даже петербургские власти и были неуловимы. То же и здесь. Итак…
– Ладно! Согласен, – сказал Твердовский, хлопая по протянутой руке члена реввоенсовета, – только я с ними не буду столько возиться, как со мной возились в оны дни. Две недели сроку – и конец.
– Желаю успеха, – сказал член реввоенсовета.
Вскоре среди зеленых разнеслись вести, что против них двинута конная дивизия Твердовского. Эффект одного этого известия был поразителен. Шайки зеленых, бродившие по болотам, стали рассыпаться и рассасываться.
Главарь зеленых, бывший эсер Симонов, сначала растерялся, но решил привести свои отряды в повиновение суровыми мерами. Он начал расстреливать бегущих и сжигать села дезертиров. Это остановило бегство, и вскоре зеленые, видя, что никакой опасности еще нет и что дивизии Твердовского нигде не удалось обнаружить, успокоились и продолжали свои разрушительные налеты на села и местечки, срывая продовольственную и советскую работу и безжалостно расправляясь с захваченными работниками.
Обнаглевший Симонов даже прислал в губисполком угрожающее письмо, в котором требовал убрать дивизию Твердовского из губернии, предупреждая, что в случае отказа он сожжет город и перережет всех большевиков.
Но, хотя Твердовский и получил пересланное ему губисполкомом письмо бандита с просьбой о принятии решительных мер, дивизия по-прежнему стояла на отдыхе и никуда не двигалась.
Окончательно обнаглевшие зеленые ворвались ночью в уездный город, перебили несколько десятков человек, сожгли продовольственные склады и разрушили электрическую станцию и водопровод.
Симонов открыто хвастал, что скоро он сам явится в гости к Твердовскому и повесит его на городской каланче.
Но Твердовский по-прежнему молчал. Он даже уехал из города повидаться с женой и сыном, которых не видел два года, и передал командование дивизией на время своего отъезда Володе.
Прослышавшие об этом зеленые издевались:
– Поехал, краснопузый, у бабы храбрости набираться. С нами биться кишка тонка!
Но спустя десять дней Твердовский, веселый и загорелый, появился в штабе дивизии, радостно встреченный Володей.
– Здравствуй, Иван! Ну, как съездил? Как Тоня? Как малыш? – любовно расспрашивал он Твердовского, оставшись с ним наедине в штабе.
Твердовский молча положил руки ему на плечи.
– Дурень ты, Володя! Ты думаешь, я был у Антонины?
Володя молча глядел на своего начдива недоумевающими глазами.
– Ты что ж думаешь, что я могу бросить дивизию в такое время и уехать к жене? Да как ни люблю я Антонину, а никогда этого не сделал бы.
– А где ж ты был? – ахнул Володя.
– Где был – там нет. А был я в самом волчьем логове у Симонова.
– Что ты говоришь?
– А вот то самое. За ручку с ним держался, даже очень ему, сукину сыну, по сердцу пришелся. Он меня уговаривал к себе полком командовать.
– Тебя? Твердовского?
– Ну, зачем Твердовского! Не Твердовского, а Шляпкина, так я там назывался. Зато теперь я их в два счета кончу. Они тем сильны, что в каждом селе у них имеется свой комендант от Симонова. Они шпионят за каждым нашим передвижением, и чуть мы шаг сделаем – им все известно. А коменданты перед Симоновым дрожат и боятся его как черта, хоть никогда в глаза не видели, потому что он им никогда не показывался. Словом, я тебе вечером расскажу, что делать, а пока пойду сосну. Всю ночь не спал, ехавши.
* * *
Зубной врач Шликерман отпустил последнего пациента из своей холодной конуры, гордо носившей название кабинета, и складывал инструменты в ящик, когда услыхал у дверей резкий звонок. Он подошел к двери с возможной осторожностью – в городе были часты налеты – и спросил, что нужно посетителю.
– Здесь живет зубной врач? – раздался голос из-за двери.
– Здесь, а что такое?
– Пациент.
– Но позвольте, что значит пациент? – заволновался Шликерман, – для пациентов же есть прием. Он уже кончился, какие могут быть пациенты?
– Откройте, доктор! Я хорошо заплачу. Не деньгами, а продуктами. Маслом и бараниной.
Такое щедрое обещание заставило сердце Шликермана смягчиться, и он, еще робея, осторожно открыл цепочку. Пред ним стоял неизвестный в шинели с вещевым мешком на спине.
– Пройдите в кабинет, – с достоинством сказал Шликерман и, пропустив пациента, зажег опять погашенную лампочку у кресла.
– Садитесь! Что у вас такое?
Незнакомец ткнул пальцем в передний резец на верхней челюсти.
– Сюда золотую коронку.
Шликерман осмотрел зуб и пожал плечами.
– Но это же совсем здоровый зуб. Дай бог, чтоб у моих детей были такие зубы. Зачем же я буду ставить на него коронку?
– Я вам сказал, поставьте! – нетерпеливо возразил пациент.
Докторское самолюбие Шликермана вспыхнуло, как вулкан.
– Вы уже будете меня учить, где ставить коронки? Так я вам говорю, что я не согласен. Берите ваше масло и баранину и ухо…
Он не договорил. Глаза его скосились и с ужасом застыли на револьверном дуле, прижатом пациентом к боку его белого халата.
– Что? Что такое? – прошептал он.
– Не дурите, доктор! – ответил пациент. – Берите какую-нибудь из ваших запасных коронок и подгоните к зубу. Мне нужно это временно, но только сейчас же. Иначе вашим детям придется оплакивать вас.
Доктор поник головой и дрожащими руками вытащил коробочку с коронками.
Когда все было готово, пациент поднялся и крепко пожал руку доктору, подавая ему вещевой мешок.
– Здесь десять фунтов масла и пуд баранины. Я думаю, что вам давно не платили так щедро. Еще одно условие. Вы никому не скажете ни слова о происшедшем.
Он повернулся и вышел. Доктор молча уложил инструменты, по его спине еще бегали мурашки. Он вышел в другую комнату, где жена его варила ржаной кофе. Доктор сел на стул и поежился.
– Да! Видали вы такого пациента? – спросил он сам себя.
– Ты что-то сказал, Моисей? – подняла голову жена.
Доктор взглянул на нее и ответил:
– Нет… ничего. Это тебе показалось…
Глава двадцать четвертая
ОДИН ПРОТИВ СОРОКА
Трудно бороться с Симоновым. В каждом селе у Симонова коменданты из местного кулачья, в каждом селе люди для связи. Что случается – все моментально от села к селу, от деревушки к деревушке, через комендантов и посыльных становится известным таинственному начальнику зеленой армии, заседающему где-то посередине болота и никогда не показывающемуся никому, кроме своих самых близких людей, из страха покушения.
О Симонове по селам ходят самые невероятные слухи. Иные говорят даже, что зеленый атаман по ночам обращается в крылатого змея и летает над полями, над лесами и болотами, и оттого ему все известно и поймать его невозможно. Кто говорит, что у Симонова один только глаз, но заколдованный, и им он видит на два аршина сквозь землю. Еще ходит слух, что Симонов от пули заколдован, что выкупала его цыганская колдунья в вороньей крови и от этого стал он неуязвимым.
А в общем верного ничего не знает никто, даже симоновские коменданты, которым известно только, что ходит атаман в рыжей кожанке и красных штанах.
В селе Соловом комендантом у Симонова – Илья Савватеевич Дулов, богатейший мужик. Тех запасов, что припрятал он на худой день, хватит ему не только, чтоб самому кормиться, но еще и на то, чтоб давать бедноте взаймы и закабалять ее с потрохами. Все село у Ильи Савватеевича в долгу, как в шелку, и жмет он из должников соки, как паук, без жалости и пощады.
А с виду взглянуть – добрейшей души человек. Плечи косая сажень, глазки маленькие, синие, добрые, и улыбочка губ, закрытых усами и окладистой, под бога-отца, бородой, всегда ласковая и приветливая. И баба у него ему под стать – крупитчатая, пухлая булка. По целым дням на кровати лежит, пышки жует и поет чувствительные песни.
Илья Савватеевич сидит за самоваром, наслаждается яблочным чайком. Неплохой чай, а все ж хуже китайского. Да где китайского достанешь? Вот побьют зеленые большевиков, торговля воспрянет, тогда опять и китайский будет. А пока приходится яблочным баловаться. Уже одиннадцатую чашку выпивает Илья Савватеевич.
Расстегнул жилетку, розовую ситцевую рубаху выпустил, отдувается.
Солнце зашло, бегут по земле косые тени сумерек. Вот дрогнули по уличной пыли, как бабочки крыльями, и погасли. Быстро надвигается черная, теплая ночь.
Дулов наливает двенадцатую чашку, но в это время на улице слышен легкий топот копыт, и кто-то подъезжает к крыльцу. Дулов встает и отворяет дверь.
– Кого несет? – спрашивает он, недовольный нежданной помехой.
Человек в ободранной фуражке с обрезом за плечом входит на крыльцо.
– Ты, что ли, Дулов-то будешь?
– Я самый. А ты, добрый человек, откуда?
Вместо ответа человек тычет чуть ли не в нос Дулову записку, Дулов быстро ее схватывает.
– Пройдем в горницу, – говорит он тихо, – тут неловко.
В комнате он разворачивает записку у лампы, предварительно сторожко метнув глазом на двери.
В записке стоит: «Штаб народно-повстанческой группы атамана Симонова. Коменданту села Соловое. Вы извещаетесь, что сегодня в ночь вы должны приготовить помещение для прибывающего командующего группой Симонова. Держать в секрете».
Дулов немедленно сжигает записку на лампе и вскидывает глаза на посланца.
Тот устало сидит у стола. Его оборванный вид, налипшая на нем со всех сторон грязь, нечесаные волосы говорят за то, что этот человек давно не видел дома и живет в какой-нибудь лесной или болотной норе, как загнанный зверь.
– Чайку хочешь? – спрашивает он.
Оборванец делает утвердительный жест и с наслаждением выпивает залпом большую чашку кипятку, налитую Дуловым, не выпуская из рук обреза.
– Когда ж атаман приедет?
– К полночи, – отвечает гонец и прощается, перекидывая за спину верный обрез.
* * *
Около полуночи слух дремлющего у стола Дулова ловит осторожный конский топ на улице. Он встает, открывает дверь и всматривается в ночь.
Трое всадников. Один слезает с коня.
– Комендант!
– Здесь, – отвечает испуганно Дулов.
– Ты что же, сукин сын, не видишь? Лошадь прими! – свирепым шепотом говорит спешившийся и тычет в холеную бороду Ильи Савватеевича рукоятью нагайки. Дулов поспешно схватывает лошадь за повод и вводит во двор. Когда он возвращается, спешившийся стоит на крыльце и говорит своим спутникам:
– Езжайте, завтра в ночь за мной приедете!
Двое хлестнули лошадей и ускакали. Дулов вводит гостя в горницу. Перед ним загорелый человек с черной повязкой на глазу, в новой коричневой кожаной куртке и красных рейтузах.
Дулов пристально всматривается в него.
– Вы будете господин командир Симонов?
– А тебе что, повылезло? Протри зенки! – отвечает пришелец.
– Простите, господин командир, но только как по вашему же приказу должны мы удостовериться по сообщенным приметам. С костюму вы подходите.
Приехавший смеется хриплым смехом, и при свете керосинки Дулов видит, как поблескивает золотой зуб, главная примета атамана, сообщенная всем комендантам.
Дулов вздыхает и кидается к самовару.
– Присядьте! Чайку не угодно ли, благодетель?
Но Симонов грубо обрывает:
– Некогда чаи распивать. Я сыт. Поди сюда!
Дулов подходит.
– Слышь ты, – говорит Симонов, – мы большое дело затеяли. Нужно всех осведомить в районе. Я сейчас спать залягу, а ты пошли посыльных в Павловку, Суслово, Кут, Шулявку и Ясное, чтобы наши к утру приехали. Да только шпаны не зови, а самых верных, которые за нас душой и телом. Буду с вами говорить. А теперь веди спать.
Дулов ведет грозного гостя в свою горницу, которую уступает гостю. Сам с женой будет спать в сеничках. Гость, не раздеваясь, кидается на гору пуховиков, воздвигнутую на постели.
– Не угодно будет чего приказать? – осведомляется Дулов.
– Пошел к чертовой матери! Делай, что приказано! – слышится крепкий ответ.
Дулов на цыпочках выходит в сенички. Жена кидается к нему.
– Ну как? Приехал? Каков? Красавчик?
Дулов чешет в затылке и говорит восторженно:
– Сурьезный человек. Настоящий мужчина… Вот что, ты ложись, баба, спать, а у меня еще гора дела. Всю ночь провожжаюсь.
Он надевает шапку и выходит. Вскоре по нескольким направлениям скачут верховые собирать верных людей по приказу Симонова.
* * *
На следующий день после наступления темноты к дому Дулова поодиночке пробираются люди. Окна дуловской избы наглухо занавешены. Один за другим набиваются приезжие в комнату, их до сорока человек. Все они здоровые, упитанные, щеголевато одетые люди, все окрестное кулачье собралось на зов своего вождя.
Они сидят на лавках и тихо переговариваются. Наконец распахивается дверь, и, сопровождаемый Дуловым, в комнату влетает быстрыми шагами атаман Симонов.
Все встают и низко кланяются начальству.
Симонов отвечает быстрым кивком и садится за стол.
– Все надежные? – спрашивает он, обводя собравшихся таким пронизывающим взглядом, от которого по спинам у них начинают ползать мурашки.
– Все, благодетель! Наилучшие. Как по вашему приказу, так собраны самые что ни на есть отборные.
– Ну, ладно! Не трепли языком, как сука титьками! – затыкает рот разговорчивому Дулову атаман под общий довольный смех.
Разложив на столе небольшую карту, Симонов поднимается.
– Братья крестьяне! – говорит он. – Пришла пора нам взяться за большевистских насильников всерьез! Я получил донесение, что конница большевиков завтра выступает против нас в район Павловки. Вот и нужно обсудить, как нам заманить ее в топь, за Ясное. Как они туда залезут с лошадьми – так и завязнут, дьяволы, а тут мы и налетим. И враз с ними кончим. А потом пойдем на губернию.
Нагнулись все над картой, разгорелись глаза у кулачья.
Симонов показывает пальцем в карту, где цветными карандашами, зеленым и красным, показано, куда нужно затянуть большевистскую конницу и где докопают ее зеленые.
Раскрасневшиеся рожи нависли над столом, всем хочется посмотреть, где покончат ненавистных краснопузых. И Симонов освободил место у карты, сам отошел к стене. Радуются кулаки, похохатывают, вырывают друг у друга карту, припечатывают красных четырехэтажным словом.
И…
– Руки вверх, сволочи! Я Твердовский!
Отлетели от карты ошарашенные страшным криком кулаки. Смотрят в оцепенении на стоящего у стены, точно выросшего на голову Симонова, у которого в руках два револьвера.
Охнуло, посерело кулачье стадо, но Дулов, с кулацкой сметкой, ударом ноги опрокинул стол. Лампа мигнула и погасла. В темноте дуловский голос провопил:
– Робя, не трусь! Он один! Жарь в его по чем попало!
В полной тьме в душной горнице замелькали огоньки выстрелов. Вся изба грохотала и ходила ходуном. Кто-то бросился к дверям, чтобы бежать, но они оказались защелкнутыми на задвижку, а дрожащие руки не могли нащупать ее.
Стоны, крики, рев и стрельба продолжались несколько минут. Сыпались разбитые стекла, затем на улице раздались крики и грохочущие удары посыпались в дверь.
Она слетела с петель и рухнула.
В провал двери хлынул яркий луч электрического фонаря. Толпа сбилась и отхлынула к стене. Тонкий меч света, ползавший по лицам, показался страшнее пуль.
Голос от двери спросил:
– Товарищ Твердовский, где вы?
Голос откуда-то сверху, как будто с потолка, ответил:
– Здесь. Зажгите свет. Никому не трогаться с места. Смирно, кулацкие морды!
Вспыхнули спички в руках кавалеристов. С полу подняли лампу, но она была скомкана в лепешку. Наконец притащили лампу из соседней горницы, где в страхе выла и каталась по полу сыротелая жена Дулова.
Лампа осветила трупы на полу, стонущих раненых и сбившихся комком в углу живых. Они стояли, и бегающие глаза их перебегали по лицам кавалеристов.
– Товарищ Твердовский, да где же вы? – вновь позвал Кособочко.
– Здесь!
Все подняли глаза кверху и увидели на голбце печи лицо Твердовского с весело блестевшими глазами.
– Слезайте! – засмеялся Кособочко.
Губы Твердовского вдруг смялись в болезненную гримасу.
– Помогите сойти! У меня прострелены плечо и нога.
Кавалеристы сломя голову бросились снимать с печи любимого командира.
В ту же ночь, наскоро перевязав раны, Твердовский бросил свою дивизию в обход главных сил зеленых по району, откуда он ловким маневром убрал симоновских шпионов. Дивизия прошла на рысях всю ночь и утро, закончив к двенадцати часам дня окружение симоновского расположения.
После упорного боя, кончившегося только на следующее утро, остатки зеленых в панике сдались на милость победителя, а сам Симонов был найден в болоте с огнестрельной раной в виске. Губерния была очищена.
Глава двадцать пятая
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Похудевший и осунувшийся, с рукой на перевязи, но по-прежнему бодрый и пышущий энергией, появился спустя два месяца, проведенных в госпитале, Твердовский в кабинете члена реввоенсовета N-ской армии.
– Ну, что? Предсказывал я вам, что Врангель натворит бед. Не хотели верить, вот и возитесь теперь, – сказал он после дружеского объятия.
Член реввоенсовета улыбнулся.
– Ишь неугомонный! Приехал теперь барона бить? Милости просим. Нужно скорей кончать с последышами белогвардейщины. Надоела эта заноза. Все равно вырвем ее рано или поздно, – губы говорящего сжались решительно и сурово.
– Что ж? Принимать дивизию? – спросил Твердовский.
Член реввоенсовета взглянул на него искоса и нахмурил брови.
– Нет, – ответил он, – дивизии вы, товарищ Твердовский, больше не получите.
Твердовский отступил на шаг и уперся в собеседника потемневшими от гнева и обиды зрачками.
– Это почему? – спросил он. – Что это значит?
– Это значит, – с лукавой усмешкой протянул член реввоенсовета, – что вам придется подчиниться нашему решению и принять конный корпус. Дивизия уже мала для вас, дорогой друг.
Лицо Твердовского налилось румянцем, он опустил глаза, как девушка, услыхавшая признание в любви.
– Я не знаю, – сказал он тихо, – заслужил ли я такую честь.
– Мы знаем это, – ответил член реввоенсовета, – мы знаем и просим вас принять командование корпусом, который ждет с нетерпением своего доблестного командира и хочет идти с ним вместе к новым победам. А кроме того, разрешите еще передать вам вот это.
Он взял со стола маленький бархатный футляр и раскрыл его.
В солнечном луче, пробившемся сквозь морозные узоры на стеклах окна, заискрился серебряными гранями орден Красного Знамени.
Твердовский, низко склонив голову, принял из рук товарища драгоценную награду и после паузы спросил коротко:
– Когда прикажете принять корпус?
– Когда вам будет угодно.
– Хорошо. Принимаю сегодня.
* * *
Красная Армия, накопляя силы для последнего удара, стояла перед непреодолимыми бетонированными укреплениями белых в солончаковых пустынях Чонгарского перешейка, продуваемых насквозь пронзительными ноябрьскими ветрами и засыпаемых снежной поземкой.
Тяжел был последний подвиг. Сплошная сеть полевых фортов, усиленных могущественной артиллерией крупных калибров, высилась на вражеском берегу узкого перешейка. Оттуда, как на ладони, были видны все позиции красных, разбросанные в глухой солончаковой степи.
Малейшее движение в красноармейских окопах вызывало ураганный огонь противника, не жалевшего снарядов, и каждый день уносил неисчислимые жертвы.
Но тем упорнее держались красные части, помня, что это последние жертвы на последнем фронте побеждающей революции, что с падением этого клочка земли, захваченного врагом, придут мир и возможность вернуться к спокойному труду, к возрождению разоренной страны. Армия, накапливая силы, жадно ждала момента, когда приказ командования бросит ее в «последний и решительный бой».
В ночь на четырнадцатое ноября заревел с неистовой силой ветер с континента. Его ждали давно с нетерпением и тревогой. Он оголил на несколько верст мелкое дно залива, и это дало возможность двинуть наступающие части по осушенному дну, в обход позиций противника, лобовая атака которых была безумной и обреченной на неудачу операцией.
В глухую, завывающую, кидающуюся колючим снегом полночь с берегового обрыва спустился на твердый, словно утрамбованный, щебень оголенного морского дна и потонул в серой ночной мути конный корпус Твердовского.
К рассвету он выбрался снова на берег, уже за позициями противника, и внезапно, как молния, обрушился на тыл белых одновременно с начатой на фронте общей атакой.
Совершилось невозможное. Растерявшийся, ошеломленный противник почти без выстрела кинул позиции, которые сами штурмовавшие считали неприступными.
Белые в отчаянии и ужасе кинулись в паническом бегстве по дорогам, ведущим к морю. По пятам их, наседая на плечи бегущим, рубя и уничтожая все, понесся конный корпус.
Но враг еще раз, в последней судороге издыхающего волка, показал свои зубы. Для спасения бегущих, для обеспечения отступления навстречу коннице Твердовского командование белых бросило свою гордость и надежду, кавалерийский отряд генерала Барбовича, составленный сплошь из офицеров.
Штормом налетела офицерская конница и тяжелым ударом смела первые части корпуса Твердовского. Твердовскому донесли о начавшемся замешательстве. Он выскочил из разрушенного здания полустанка, откуда руководил боем, и кинулся к ординарцам.
– Коня! – крикнул он бешеным голосом.
Напрасно выскочившие вслед за ним Володя и Кособочко уговаривали его вернуться, доказывая, что его место в штабе на руководстве операцией, а не в гуще схватки, где могут обойтись и без него. Твердовский не захотел слушать ничего.
– К черту! Я сам их, сволочей, зубами перегрызу. Замешательство? Отступление? У меня?
Он вскочил в седло и унесся, словно подгоняемый ветром.
Части корпуса медленно отходили под натиском свежей, невыдохшейся конницы Барбовича, засыпаемые градом снарядов конной артиллерии противника, когда в гуще боя появился Твердовский.
Он налетел на попавшегося ему навстречу командира полка.
– Что? Что такое? Почему отходите? Кто вам приказал, три черта вашей матери? Вперед!
Бледный комполка, с перевязанной обрывком рубашки головой, прижал пальцы к отсутствующему козырьку.
– Невозможно держаться. Лошади еле идут. Артиллерия нас не поддерживает, а они сыплют снарядами, как горохом. Полк потерял три четверти состава…
– Молчать! – крикнул Твердовский. – Трусы! Вперед! Кто не пойдет, будет расстрелян на месте. Я сам пойду в атаку в рядах, посмотрим, кто рискнет отстать от меня.
Ободренные присутствием любимого комкора, кавалеристы, отходя, подбирались и перестраивались к атаке. Вот они вытянулись длинной цепью по заснеженному нолю. Твердовский окинул глазами суровые истомленные лица ближайших, пелену снега перед цепью, на которой поминутно вспыхивали огни разрывов снарядов противника, бившего с открытой позиции прямой наводкой, и такую же черную колеблющуюся цепочку наступавшего врага.
Он вынул шашку, и поднятая кверху стальная полоса тускло блеснула.
– Товарищи! В атаку! Марш-марш!
Конная артиллерия белых загрохотала яростней, заливая стальным ливнем атакующих. Но он уже не мог остановить разъяренного натиска. За скошенными рядами вырастали новые.
Уже ясно виднелись ряды белых, тоже несшиеся навстречу, но в них началось замешательство. Некоторые сдерживали лошадей, некоторые поворачивали обратно.
И в эту минуту под самыми ногами несшегося рыжего жеребца Твердовского вскинулся к небу фонтан бурого дыма и огня.
Атакующие пронеслись мимо, видя, как офицерская конница поворачивает спины, и врубились в белые эскадроны. Корпус Барбовича обратился в неудержимое роковое бегство.
Когда дым разрыва рассеялся, соскочивший с коня полковой командир и ближайшие красноармейцы, подбежав к месту несчастья, с ужасом попятились.
На земле лежал совершенно разорванный труп рыжего коня командира корпуса, а под ним неподвижно вытянулось тело Твердовского, с ног до головы залитое кровью.
Командир полка закрыл рукой глаза. Нервы его, измученные за день, не выдержали, он сел на землю и в голос, как баба, зарыдал.








