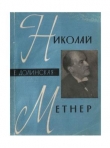Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 36 страниц)
Генеральная репетиция в зале Дворянского собрания прошла хорошо, музыканты, кажется, начали проникаться симфонией. Уставший, но довольный, Петр Ильич ушел в артистическую в окружении друзей – Направника, Лароша, Глазунова и еще нескольких музыкантов. Все горячо поздравляли его с новой симфонией, успокоив похвалами автора, уже отчаявшегося заинтересовать других своим сочинением. Даже всегда флегматичный и с виду апатичный Глазунов говорил взволнованно и необычайно для него горячо и быстро.
Несколько минут спустя в артистической появился племянник Юрий, который присутствовал на репетиции. Выглядел он крайне взволнованным, а глаза покраснели, как после слез.
– Ты ревел, что ли? – недоуменно спросил Петр Ильич.
Неужели это симфония произвела на него такое впечатление? От этого вопроса Юра бросился ему на шею и заревел снова. Тронутый до глубины души Петр Ильич почувствовал, что у него у самого слезы выступили на глазах. Наверное, со стороны это выглядело довольно комично. Слезы скоро перешли в улыбки, которые в свою очередь обратились в смех.
В день концерта зал Дворянского собрания был переполнен до отказа. Волнуясь, Петр Ильич взошел на дирижерское возвышение. Его встретили бурные рукоплескания с поднесением венков. Нервно поклонившись, он поднял палочку, и в зале воцарилась тишина.
Первую часть приняли тепло, но без особенных оваций. Вторая вызвала бурю аплодисментов, однако непродолжительных. Третья опять принималась менее горячо. Но вот отзвучал финал. Растворился в воздухе последний звук, и Петр Ильич медленно опустил руки. В зале царила мертвая тишина, которая длилась и длилась. Он продолжал стоять с опущенной головой, пытаясь прийти в себя и собраться с мыслями. Наконец, понимая, что оцепенение затянулось, он начал кланяться и благодарить оркестр, и тогда зал нерешительно зааплодировал. Эти аплодисменты, постепенно нарастая, перешли в овацию. И все же Петр Ильич чувствовал, что симфония не то чтобы совсем не понравилась, но вызвала недоумение. Сам же он не чувствовал ничего – лишь опустошение и желание оказаться у себя, подальше от людей.
По возвращении в Гранд отель он обнаружил там ждущую его компанию: Модест, Боб с Юрой, двоюродные племянники Литке и пара их друзей. Вечер получился шумный и веселый, шутки сыпались как из рога изобилия. Много пили за здоровье виновника торжества и желали ему еще многих прекрасных сочинений.
– Как долго ты пробудешь в Петербурге? – спросил Боб перед уходом.
– Собирался уезжать завтра, – ответил Петр Ильич.
– Так быстро? – огорченно спросил Модест. – А как же «Предрассудки»? Я думал, ты останешься посмотреть.
Немного поколебавшись – и хотелось побыстрее оказаться дома, и жаль было огорчать брата, – он согласился дождаться спектакля. Обрадованный Модест тут же пригласил на представление всех присутствующих и позвал Петра Ильича переехать из гостиницы к нему на квартиру. Раз уж он стал причиной того, что тот задержится в столице, хотя бы за гостиницу платить не придется.
***
Вопреки ливню за окном и шквальному ветру, Петр Ильич проснулся в прекрасном настроении. От вчерашнего разочарования не осталась и следа. Да, публика приняла симфонию не так, как он надеялся, однако он был уверен, что со временем все изменится, и его любимое детище завоюет симпатии слушателей.
За завтраком он по обычаю пролистал прессу. В большинстве своем критика отнеслась к новой симфонии благосклонно, но с оговорками. И только «Биржевые ведомости» безусловно и восторженно хвалили ее, зато не одобрили дирижера:
«Будь новая симфония исполнена вчера под управлением г. Ауэра или г. Направника, она имела бы больший успех, чем тот, который выпал на ее долю».
Как ни горько признавать, но, в сущности, это было правдой. Петр Ильич понимал, что является не самым хорошим дирижером. Особенно в отношении собственных сочинений.
Допив чай, он взял партитуру: симфонию надо отправить в Москву Юргенсону, и хотелось дать ей заглавие, но он не знал какое. Предполагавшееся ранее название «Программная» давно перестало нравиться.
Именно за этими размышлениями застал его Модест.
– Трагическая, – предложил он, узнав о проблеме.
Петр Ильич покачал головой – нет, не то. Модест пожал плечами и вышел из комнаты, оставив его в раздумьях. Но скоро вернулся с воодушевленным лицом.
– Патетическая! – заявил он, стоя в дверях.
– Отлично, Модя! – обрадовался Петр Ильич: вот то, что надо. – Патетическая!
И он надписал название на партитуре. Довольный собой Модест тем временем устроился на диване в ожидании, когда брат освободится.
– Знаешь, – сказал Петр Ильич, отложив ноты. – Я вот все думаю о том, чтобы переделать «Опричника». Жаль все-таки, опера пропадает. Да и «Орлеанскую деву» стоило бы подправить.
– Хорошая мысль, – кивнул Модест. – Я давно хотел предложить: раз уж ты пользовался сценарием Шиллера, сделай и конец по-шиллеровски.
– Может ты и прав, – задумчиво согласился Петр Ильич. – Да и Погожев утверждает то же самое.
С Владимиром Петровичем Погожевым – членом дирекции Императорских театров – он виделся незадолго до концерта, и тот возобновил уже не раз начинавшееся обсуждение «Орлеанской девы», упрашивая переделать вторую часть. Он с увлечением говорил о красотах начала оперы, даже напевал мелодии из некоторых мест.
– Как хорошо вы это помните! – воскликнул польщенный и довольный Петр Ильич.
– Помню, потому что это прекрасно, а переделаете вторую часть – и вся опера будет прекрасна!
– Вы думаете? – с оживлением спросил он.
– Не только думаю – убежден! – заявил Погожев с горящими глазами. – Восходящая ветвь карьеры Иоанны-девственницы, вдохновенной, экзальтированной патриотки, со всей окружающей ее исторической обстановкой, великолепно проведена в вашей музыке. А зенит торжества и дальнейшая картина драмы Иоанны-женщины, с ужасом ее трагического конца – сравнительно бледна, мало интересна и не захватывает зрителя.
– Да, не вы первый мне говорите это… по существу, я не спорю. Я согласен: музыку эту надо переделать, но... – Петр Ильич тяжело вздохнул. – Вы себе представить не можете, до чего трудно, противно даже приниматься за исправление старого произведения!
– Примитесь, дорогой Петр Ильич, – уговаривал Погожев. – Примитесь, и вы создадите «Орлеанскую деву», которой будете гордиться, ведь тема ее в высшей степени благодарная! Эта опера будет иметь громадный, не только русский, но и общеевропейский успех и, поверьте, сделается вашим любимым детищем.
– Надо подумать.
– Да что тут думать! Позвольте, я пошлю в нотную контору приказ сейчас же отправить к вам на квартиру партитуру «Орлеанской девы».
– Постойте, постойте! – такой напор даже немного испугал. – Зачем так скоро?
– Именно скоро-то и нужно, – убежденно заявил Владимир Петрович. – Получайте ноты и дайте слово, что приметесь за переделку!
Петр Ильич все еще колебался, и Погожев принялся упрашивать и страстно убеждать его. Наконец, он сдался:
– Ну, хорошо! Посылайте за партитурой!
Теперь, когда прошли волнения концерта, Петр Ильич собирался как следует обдумать эту задачу. Вот и Модест советует переделать финал. Значит, точно надо браться за работу.
***
Несколько дней спустя Петр Ильич вместе с племянником Юрой обедал у сестры Льва Васильевича – Веры, генеральши Бутаковой. По-прежнему пребывая в бодром расположении духа, он рассказывал про первое представление «Иоланты» в Гамбурге:
– У немцев хорошо то, что они добросовестно и тщательно относятся к постановке и оформлению. Нам бы так… Но какие же грузные у них голоса! Им только и петь партии разных богов, вроде Вотанов, Хундингов, Зигфридов, Валькирий – неведомых нам, смертным, существ. А для простых людей, нам хорошо знакомых, таких, как все, они не подходят.
Посмотрев на часы, Петр Ильич поспешно встал и повернулся к Юре:
– Ну, собирайся: нам пора, а то опоздаем.
– Куда ж вы торопитесь? – удивленно спросила Вера Васильевна.
– Я взял ложу в Александринском театре на «Горячее сердце» Островского и веду туда племянников.
Вера Васильевна состроила гримаску:
– Не люблю я этих купеческо-мужицких спектаклей и, хотя признаю талант и мастерство Островского, все же нахожу, что он мог бы избрать более интересные темы для своих сочинений.
Петр Ильич посмотрел на нее с сожалением, но спорить не стал.
Приехали они в момент поднятия занавеса. Все уже собрались в ложе: Модест, Боб, его приятель Буксгевден, братья Литке.
По окончании спектакля, которым все остались довольны, Петр Ильич с племянниками пошли в ресторан, а Модест остался переговорить с актрисой Савиной, обещав догнать их, если они пойдут пешком.
Отправились к Лейнеру, поскольку это был один из немногих ресторанов, пускающих учащихся с черного входа. Племянникам, как студентам, легальный вход в рестораны был закрыт. Оставив их во дворе, Петр Ильич уладил вопрос с хозяином, после чего провел их в большой кабинет.
Едва они устроились за столом, как появился Модест в сопровождении артиста Юрьева.
– Ага, какой я догадливый! – радостно воскликнул он. – Проходя, зашел спросить, не тут ли вы.
– Где ж нам еще быть? – пожал плечами Петр Ильич.
Вечер прошел в оживленной болтовне за стаканом вина и кружкой пива. Просидели до второго часа ночи.
***
До самого утра Петр Ильич мучился расстройством желудка и проснулся с отвратительным самочувствием. Преодолев недомогание, он все-таки собрался и пошел к Направнику. Однако по дороге его скрутило так, что пришлось с полпути вернуться домой.
– Может, вызвать Бертенсона? – спросил обеспокоенный Модест.
Василий Бернардович Бертенсон был хорошим врачом, который давно наблюдал Петра Ильича.
– Не стоит, – покачал он головой. – Ты же знаешь: проблемы с желудком – обычное дело для меня. Пройдет.
Модест кивнул и ушел к себе работать. Петр Ильич принял касторовое масло, которое всегда помогало в таких случаях, а потом еще воды Гуниади[43]43
Офенская минеральная вода, употребляется в том числе при хронических катарах желудка.
[Закрыть]. За обедом есть не стал – не столько из-за отсутствия аппетита, сколько понимая, что пища сейчас будет ему во вред. Просто составил компанию за столом брату и племяннику.
Как вдруг ему стало хуже, затошнило так, что он был вынужден выйти, после чего больше в гостиную не возвращался, а прилег у себя, чтобы согреть живот. Впрочем, он был уверен, что беспокоиться не о чем – подобное случалось и раньше. Модест снова предложил вызвать Бертенсона, и Петр Ильич снова отказался. Вскоре ему полегчало, и он заснул.
Проснулся он от резких болей в животе. В квартире никого не было. Петр Ильич выпил еще горькой воды, но на этот раз не помогло: рвота и понос только усилились. К тому времени как вернулся брат, он чувствовал себя ужасающе плохо. Испугавшийся Модест решительно заявил:
– Как хочешь, Петя, а я посылаю за Бертенсоном. Вдруг что серьезное.
Слабые возражения он слушать не стал.
Врач приехал к половине девятого вечера.
– Бедный Василий Бернардович, – встретил его Петр Ильич, – вы такой любитель музыки и, наверное, вас потянуло в оперу. Сегодня, кстати, дают «Тангейзера». Вам же вместо этого пришлось ехать ко мне – скучному, гадкому Чайковскому, больному, да еще такою неинтересною болезнью…
Бертенсон лишь покачал головой и приступил к осмотру, после которого, ничего не сказав, вышел в соседнюю комнату, поманив за собой Модеста и недавно вернувшегося Боба.
***
– Дело серьезное, – тихим обеспокоенным голосом произнес Бертенсон, едва за ними закрылась дверь. – Я не берусь лечить один.
Модест Ильич нахмурился:
– Думаете, это не обычное его желудочное недомогание? Такое ведь не раз случалось.
– Пока не могу сказать точно, но я советовал бы собрать консилиум.
Душу охватила смутная тревога, и Модест Ильич кивнул. Самое трудное было убедить в необходимости консилиума Петра, но совместно они справились с этой задачей. Бертенсон, прописав все, что считал необходимым, немедленно уехал за своим братом.
Выделения все усиливались, и Петр ослабел настолько, что сам двигаться уже не мог. Особенно ужасна была рвота. Во время нее он даже кричал от боли, жалуясь на невыносимое ощущение в груди.
После очередного приступа, в изнеможении опустившись на постель, он тихо произнес:
– Это, кажется, смерть. Прощай, Модя.
– Что ты такое говоришь! – одновременно сердито и испуганно ответил Модест Ильич.
В глубине души затаился страх, что, возможно, брат прав, но он усиленно гнал от себя эту мысль. Когда в одиннадцатом часу приехали оба Бертенсона и с ними еще два врача, Модест Ильич выдохнул с облегчением. Теперь-то все будет в порядке. Увы, облегчение длилось недолго.
– Это холера, – произнес Лев Бернардович после тщательного осмотра.
Модест Ильич похолодел, но все-таки не оставлял надежду: да, опасная болезнь, но не все от нее умирают. Может, Петр еще выкарабкается.
Час спустя брат с криком начал жаловаться на судороги. Голова, руки и ноги посинели и похолодели. Вместе с врачами, Бобом и слугой Назаром Модест Ильич принялся растирать его.
Всю ночь длилась непрерывная борьба с судорогами и коченением. Пару раз казалось: все, наступает смерть. Но впрыскивание мускуса и клизмы из танина освежали больного. Страшнее всего было, когда Петр жаловался на боль около сердца и отсутствие воздуха.
И вот к пяти утра болезнь начала отступать. Судороги ослабли от энергического растирания. Рвота и испражнения, оставаясь частыми, потеряли свой страшный вид. Модест Ильич воспрянул духом. Петр пришел в себя настолько, что попросил пить. Однако, едва ему дали воды, как он с отвращением отвернулся.
– В воображении питье мне представлялось несравненно более отрадным, чем в действительности, – удивленно произнес он.
А уже несколько минут спустя снова молил о воде.
Даже среди самых сильных припадков он сожалел о том, какое беспокойство причиняет окружающим. Однажды даже сказал Бобу шутливым тоном (и как только умудрялся сохранять чувство юмора в таком состоянии?):
– Боюсь, ты потеряешь ко мне всякое уважение после всех этих пакостей.
Боб нервно улыбнулся, только чтобы показать, что оценил шутку. Племянник был взвинчен и встревожен не меньше Модеста Ильича.
– Шли бы вы спать, – снова заговорил Петр. – Я теперь уже в порядке. А вы устали, всю ночь возле меня суетясь.
– Ты бы помолчал лучше, – отмахнулся Модест Ильич.
Когда Петр заснул, Василий Бернардович, убедившись в относительно стабильном его состоянии, поехал дать знать полиции о случившемся. Эпидемия холеры, разразившаяся тем летом в Петербурге, уже почти затихла, но о каждом случае болезни следовало сообщать властям.
Синева прошла, припадки стали значительно реже, и Модест Ильич с Бобом вздохнули с облегчением. Проснувшись, Петр почувствовал себя настолько лучше, что посчитал себя спасенным.
– Спасибо вам, – горячо благодарил он Льва Бернардовича, – вы вырвали меня из когтей смерти. Мне неизмеримо лучше, чем в первую ночь.
К полудню припадки прекратились совсем. Единственное, что мучило Петра – неутолимая жажда. Болезнь, казалось, отступила. Однако Лев Бернардович предупредил, что радоваться пока рано:
– Я опасаюсь второго периода холеры: воспаления почек и тифоида. Хотя пока признаков ни того, ни другого нет, но…
Он выразительно замолчал, и Модест Ильич понимающе кивнул. Что ж, значит, надо запастись мужеством и терпением, но они обязательно победят и спасут Петра. Вечером ему стало настолько лучше, что врач посоветовал ложиться спать, не предвидя угрожающих симптомов в эту ночь.
Проснувшись на заре, Модест Ильич тут же поспешил к брату и застал его в сумрачном настроении.
– Бросьте меня, – говорил он Бертенсону, – вы все равно ничего не сделаете: мне не поправиться.
Модест Ильич в ужасе застыл на пороге. Уж, если Петр сам не верит в свое выздоровление, дело совсем худо. Заметив его, Лев Бернардович отозвал его в соседнюю комнату и удрученно сообщил:
– У Петра Ильича отказали почки. Я делаю все, чтобы вызвать их деятельность, но пока безрезультатно. Большую надежду возлагаю на теплую ванну.
Модест Ильич вздрогнул, испытав суеверный страх: ведь их мать умерла именно после теплой ванны. Он попытался убедить себя, что это глупости и одно с другим никак не связано, а мера необходима.
Звонок в дверь отвлек от мрачных мыслей: приехал срочно вызванный брат Николай.
– Как Петя? – спросил он с порога.
– Плохо, – Модест Ильич сокрушенно покачал головой и кратко обрисовал положение дел.
Они зашли в комнату как раз в тот момент, когда Бертенсон спрашивал Петра, не хочет ли он принять ванну.
– Я очень рад вымыться, – слабым голосом ответил тот, – но только я, верно, умру, как моя мать, когда вы посадите меня в ванну.
Модест Ильич с Николаем одновременно вздрогнули: эти слова выразили их собственные страхи.
– Коля! – Петр заметил брата. – Хорошо, что приехал – я рад повидать тебя перед смертью.
– Брось ты эти разговоры! – с притворной сердитостью и тщательно скрываемой тревогой ответил Николай.
В тот день ванны сделать не пришлось из-за усилившегося поноса и слабости больного. Однако ночь прошла относительно хорошо – после двух клизм понос значительно ослаб. Увы, почки продолжали бездействовать.
– Положение не безнадежное, – уверил братьев Лев Бернардович на следующее утро. – Вот только бездействие почек сильно меня беспокоит.
На вопрос о самочувствии Петр ответил:
– Отвратительно, – и, обращаясь к Бертенсону, добавил: – Сколько доброты и терпения вы тратите по-пустому. Меня нельзя вылечить.
– Прекрати, Петя, – чуть ли не со слезами произнес Модест Ильич.
– Но это правда, – спокойно возразил тот.
Положение оставалось неизменным. Петр по временам впадал в бессознательное состояние: то напряженно хмурил брови, будто прислушиваясь к чему-то, то улыбался. К часу дня Лев Бернардович настоял, что надо прибегнуть к ванне.
– Больше ничего не остается. Иначе деятельность почек не стимулировать.
К тому времени как ванна была готова, Петр находился в состоянии забытья. Его разбудили, и поначалу он не вполне ясно сознавал, что от него хотят, но потом согласился на ванну. Модест Ильич с Николаем перенесли его туда.
– Не неприятна ли вам теплая вода? – спросил Бертенсон.
– Напротив того – приятна, – ответил Петр, но скоро забеспокоился и начал просить: – Выньте меня, я чувствую, что слабею.
Его поспешно вынули, и он тут же вновь погрузился в забытье. Ванна вызвала испарину, но… почки так и не заработали.
– Она хотя бы ослабила отравление крови мочевиной, – сказал Лев Бернардович. – По крайней мере, на некоторое время.
По его тону становилось ясно, что дело совсем плохо и он теряет надежду. Пульс начал слабеть, и пришлось снова делать вспрыскивания мускуса. Это помогло, и братья решили, что дело пошло на поправку. Но к вечеру пульс опять ослаб, и когда Модест Ильич вошел в комнату, Бертенсон тихонько сообщил:
– Он впал в коматозное состояние, к тому же начинается отек легких. Советую вам не покидать его ни на минуту.
Сердце замерло. Неужели это конец? Неужели спасти Петра нельзя, и он действительно умирает?
– Думаю, стоит послать за священником, – сказал Николай, и Модест Ильич согласно кивнул.
Как ни не хотелось верить в худшее, надо быть готовыми ко всему.
Когда посланный в Исаакиевский собор Боб вернулся вместе с батюшкой, усиленные вспрыскивания для возбуждения деятельности сердца уже не давали улучшений, а лишь поддерживали Петра в том состоянии, в котором он находился. Батюшка сокрушенно покачал головой:
– Я не могу причастить вашего брата: он не в состоянии исповедоваться. Вам следовало позвать меня раньше, пока он был в сознании.
Да, наверное, надо было, да всё тянули, надеясь на выздоровление. Теперь Модест Ильич корил себя за это, но упущенное время не вернешь и не исправишь. Батюшка только громко прочитал над умирающим отходные молитвы.
Доктора продолжали борьбу за жизнь Петра, хотя с каждой секундой становилось все очевиднее, что их усилия напрасны. Модест Ильич, Николай и Боб уже не отходили от его постели. В комнате царил полумрак, лишь керосиновая лампа на ночном столике освещала небольшое пространство рядом с кроватью.
Дыхание Петра становилось все реже. И вдруг глаза, до тех пор полузакрытые и закатанные, распахнулись. В них появилось выражение ясного сознания. Он по очереди остановил взгляд на братьях и племяннике, затем поднял его к небу. На несколько мгновений в нем что-то засветилось… и с последним вздохом угасло.
Николай наклонился и бережно закрыл Петру глаза. Модест Ильич судорожно вздохнул. Да, в последние часы было предельно ясно, что надежды не осталось, и все равно было больно осознавать, что любимый брат, который был для него и матерью, и отцом, и другом, и нянькой, ушел навсегда. Бледный Боб молча вышел из комнаты. Модест Ильич хотел пойти за ним, но передумал – пусть побудет один. Взгляд скользнул по стене, на которой висели часы с кукушкой. Три часа утра. Странно, как в такие моменты западают в сознание ничего не значащие мелочи: графин с водой на столике, складка на одеяле, трещинка на спинке кровати.
Модест Ильич тряхнул головой, сгоняя оцепенение. Надо, наверное, что-то делать: обмыть тело, сообщить в полицию, договориться об отпевании и похоронах…
Сначала казалось, что сил на хлопоты нет никаких – хотелось рухнуть в кровать и забыться тяжелым сном. Сказывалась и усталость от бессонных ночей, и эмоциональное напряжение последних дней. Однако Модест Ильич быстро понял, что эти заботы помогают отвлечься, не думать и даже почти не чувствовать.
***
Громадный Казанский собор, в котором отпевали Петра, был до предела забит людьми, пришедшими проститься с любимым композитором. Не меньшая толпа собралась у маленького входа с левой стороны – ее не впускали в уже переполненный собор. И только у самого гроба, где находились родственники, было более-менее просторно. Публика стояла сплошной стеной за колоннами, за деревянными перегородками. Гроб утопал в цветах, венках и букетах. Дивно пели соединенные хоры капеллы и архиерейский. Модест Ильич замер рядом с братьями (Ипполит и Анатолий прибыли к самым похоронам), едва сдерживая слезы.
Когда закончилось отпевание, они вместе подняли гроб и понесли его к выходу. Толпа зашевелилась и зашумела. На улице гроб установили на катафалк, запряженный шестеркой лошадей. Обязанности факельщиков взяли на себя студенты Училища правоведения. Они же вели лошадей, держали кисти балдахина и окружали катафалк в виде охраны.
Вдоль всего пути следования – от Казанского собора до Александро-Невской лавры – народ тесно стоял шпалерами и по мере движения колесницы следовал за ней. Медленно тянулась процессия, и всякое движение по Невскому проспекту прекратилось.
Все еще не до конца верилось в происходящее – казалось, это просто страшный сон. И только когда застучала земля по крышке гроба, Модест Ильич со всей ясностью осознал, что больше никогда не увидит брата, больше никогда нельзя будет с ним пошутить, поговорить по душам, просто помолчать, сидя рядом, прийти к нему за советом и поддержкой.
Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Петра…
Речи на могиле затянулись до вечера. Говорили о безвременной кончине; о том, что пятьдесят три года – это еще совсем не старость; о том, сколько чудесных сочинений мог бы создать любимый композитор. Слова прощания были искренни и трогательны, но невероятно утомительны. И вдруг Модесту Ильичу пришла мысль.
– Коля, – тихонько позвал он старшего брата, – я подумал: надо сохранить дом в Клину. Наверняка многие захотят его посетить. Оставить там все в неприкосновенности – так, будто Петя жив и только должен вернуться.
Николай подумал и кивнул:
– Хорошая мысль.
***
Несколько дней спустя Шестая симфония была исполнена снова, на этот раз под управлением Направника. И теперь произведение, о котором Петр Ильич жаловался, что оно произвело какое-то недоумение, потрясло слушателей. Во время четвертой части, когда в рыдании скрипок так и слышалась мольба: «Господи, помилуй», – весь огромный зал плакал. Затихла последняя нота, и благоговейная тишина взорвалась бурными аплодисментами. Только вызовов «Автора!» не звучало впервые за много лет. Автор больше никогда не выйдет на сцену, чтобы неловко поклониться горячо приветствующей его публике. Отныне он принадлежал вечности.
А звуки музыки плыли над головами слушателей и поднимались ввысь, в ясное осеннее небо.
«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась и увеличивалось число тех, кто находит в ней утешение и поддержку».