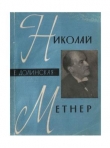Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Весь следующий день эти мысли терзали его, так что ни о чем другом он не мог думать. Сашина подруга Ната Плесская добавила масла в огонь сообщением, что весь Елизаветград и весь Киев говорят, будто Таня была беременна от Блюменфельда.
– Я, конечно, в эти глупости не верю, – с выражением презрения к слухам заключила Ната. – Боюсь только, что они дойдут до Санечки.
До крайности встревоженный и расстроенный Петр Ильич не представлял, что тут можно сделать и как оградить сестру от ужасной правды.
Закончив сюиту, Петр Ильич собирался отдохнуть, но быстро понял, что не в состоянии сидеть без дела. И взялся за сочинение детских песенок на стихи Плещеева. Он тут же набросал множество эскизов, которые жаждал как можно скорее выполнить. Он сам не понимал, к чему эта вечная торопливость, чувствовал себя глупо, но ничего не мог поделать со своим рвением.
***
Стоило появиться в Москве, как немедленно закружило бешенное коловращение городской жизни. Первая симфония, не исполнявшаяся шестнадцать лет, имела огромный успех. Автора восторженно вызывали, что было приятно и лестно, но в то же время мучительно тяжело. Петр Ильич уже не впервые посетовал на свою проклятую застенчивую натуру, из-за которой каждый раз, выходя на сцену, испытывал невообразимые страдания.
После концерта он заглянул в дирекцию театров, узнать, как обстоят дела с «Мазепой», и обнаружил, что не только репетиции не идут, но даже не начали писать декораций.
– Мне жаль, но постановку оперы придется отложить на январь, – заявил режиссер.
– В чем же задержка?
– Материальные затруднения: ни декорации, ни костюмы невозможно заказать раньше.
– Но в январе Павловская уезжает из Москвы! – в отчаянии воскликнул Петр Ильич. – А она единственная, кто может петь Марию!
Режиссер пожал плечами: мол, я все понимаю, но поделать ничего не могу. Впору было волосы рвать от бессилия. Ну почему никогда ни одна его опера не может быть поставлена без приключений?
Съездив в Петербург повидаться с Модестом, Петр Ильич обнаружил, что и там постановка «Мазепы» откладывается. А значит, он зря так рано покинул Каменку, обрекая себя на суетливую жизнь в большом городе.
Дни тянулись томительно скучной чередой. Месяц прошел безо всякого дела, даже почитать что-нибудь не удавалось. В одной гостинице с Петром Ильичом жил Герман Ларош, которого пригласили в число профессоров Московской консерватории. И если поначалу эта должность несколько оживила Германа – в «Московских ведомостях» даже появилось несколько его статей, – то скоро он опять впал в полнейшую апатию. Он целыми днями лежал в постели, ничего не делая и предаваясь мрачной ипохондрии. До боли жаль было способного человека, так бездарно губившего свой талант.
Чтобы хоть как-то оживить друга, Петр Ильич предложил писать под его диктовку статью для «Русского вестника». Это так польстило Герману, что он сразу же согласился, и теперь Петр Ильич ежедневно проводил у него по два часа, работая секретарем. Как ни жаль было времени, он приносил эту жертву другу: Герману нужна была постоянная нянька, без которой он опять впал бы в обломовщину.
Постоянного внимания требовали личности, претендующие на композиторство и ищущие одобрения и поощрения Петра Ильича. Чуть ли не по два-три автора являлись каждый день поиграть ему свои творения. И ведь среди этой массы, за весьма редкими исключениями, он не встречал серьезных задатков. Как же скучно было их слушать и как неприятно говорить нелестную правду! К концу года Петра Ильича измотали непреходящее утомление от городской жизни и недовольство самим собой, ибо праздное существование мучило его как сознание содеянного преступления.
Немного развлекла поездка в Петербург на свадьбу племянницы Анны, позволив вырваться из московской круговерти и повидаться с родными. А в январе наконец-то начались репетиции.
***
После обеда Петр Ильич ушел в театр, где в последнее время проводил ежедневно по четыре часа, наблюдая за репетициями и аккомпанируя певцам, с необычайным усердием относившимся к делу. Снег хрустел под ногами, морозный январский воздух заставлял поднимать повыше воротник пальто, пряча в него лицо. От гостиницы до театра было недалеко, и Петр Ильич предпочитал ходить пешком, несмотря на холод.
Репетиция уже началась – когда он вошел в зал, режиссер спорил с примадонной. Заметив его, Альтани с облегчением заявил:
– А вот и наш композитор! Поясните, Петр Ильич, как следует вести роль Марии?
Тот пожал плечами, слегка улыбнувшись:
– Спросите Павловскую – она лучше меня знает.
Эмилия Карловна победоносно посмотрела на растерявшегося режиссера, а Петр Ильич подошел к роялю, чтобы аккомпанировать ей. Вокруг раздались сдержанные смешки. Но он имел в виду именно то, что сказал: Павловская была не только талантливой певицей, но и замечательной актрисой, идеально подходившей на эту роль. Она удивительно тонко чувствовала свою героиню, и ни разу не пришлось поправлять ее или даже что-то советовать.
По окончании репетиции примадонна поинтересовалась:
– Как мы сегодня справились?
– Замечательно, Эмилия Карловна! – искренне воскликнул Петр Ильич, поцеловав ей руку. – Как я счастлив, что нашел, наконец, то, что искал столько времени. Вы моя благодетельница.
Павловская польщенно улыбнулась:
– Просто вы написали замечательную оперу, в которой одно удовольствие играть.
Давно уже ему так не везло с исполнительницей главной роли, и это внушало надежду на успех.
Однако генеральная репетиция «Мазепы» с даровой публикой, наполнившей театр сверху донизу, разочаровала. Неслаженная обстановка, бесконечные антракты, неурядицы на каждом шагу. То ли поэтому, то ли оттого, что некоторые из артистов пели в полголоса, но публика осталась крайне холодна, что страшно поразило Петра Ильича. Теперь ему казалось, будто опера не имеет залога прочного и продолжительного успеха. Эта мысль угнетала и грызла его день и ночь. Совершенно измучившись, он каждую минуту обещал себе, что больше никогда в жизни не будет писать опер.
Третьего февраля, в день премьеры Большой театр заполнился сочувственно настроенной к автору публикой. И все равно он не мог перестать нервничать, из-за кулис наблюдая за залом и замирая от ужаса.
Премьера прошла гораздо лучше генеральной репетиции. Артисты пели замечательно, а Павловская – выше всяких похвал. Зрители много единодушно аплодировали и вызывали автора. Но… создавалось впечатление искусственности и оваций, и вызовов. Петр Ильич нутром чуял, что они относятся к нему лично и к некоторым исполнителям – любимцам публики. Но не к самой опере. В таких условиях необходимость выходить на поклоны причиняла почти физическое страдание – возникало ощущение, точно холодной водой окачивают.
К окончанию спектакля он был абсолютно истощен и хотел только скрыться куда-нибудь от всех. Но артисты давали в его честь торжественный ужин, и не пойти было нельзя. А там пришлось просидеть до пяти утра, выслушивая бесконечные неуместные тосты и поздравления.
Умирая от усталости, с расстроенными нервами, огорченный прощанием с Алешей, которому предстояло вернуться на службу, Петр Ильич сел в поезд. Устроившись в купе – наконец-то в одиночестве, – он развернул утреннюю газету. «Мазепу» не то чтобы сильно ругали, но отнеслись с презрительной снисходительностью. Он устало потер лицо и откинулся на спинку сиденья, прикрыв глаза. Нет, решительно, оперы причиняют слишком много страданий – лучше ограничиться симфониями. Если у него еще были сомнения в том, стоит ли ехать в Петербург, то сейчас они окончательно исчезли. Ни за что на свете он не сможет еще раз вынести эту пытку. Немедленно надо уезжать за границу – отдышаться и успокоиться.
В Берлине Петра Ильича догнала телеграмма от Модеста, ставшая большим утешением. Брат сообщал, что представление «Мазепы» в Петербурге прошло с успехом и государь выразил удовольствие.
***
За границей Петра Ильича охватила тоска, одиночество начало пугать. Потому, поколебавшись, он поехал в Париж, чтобы разузнать, где обосновалась племянница Анна с мужем, и пожить с ними.
Беляры – хозяева Ришпанса – встретили его с радостью, объявив, что его номер свободен. В тот же день Петр Ильич пошел к Татьяне, застав ее лежащей на кушетке – в красивой позе, облеченную в великолепный бархатный халат с мехом.
– Дядя Петя! – обрадовалась Таня при виде него, тут же вскочив и бросившись обнимать.
Здоровый и довольный вид оказался обманчив – у нее что-то было не в порядке по части женских органов. Но главное, что удручало – отсутствие у племянницы интереса к чему бы то ни было. На все расспросы она отвечала, что ничем, собственно, не занимается, целыми днями валяется на кушетке и даже о замужестве перестала мечтать.
От Тани он поехал в Бисетр проведать Жоржа. Мадам Оклер вежливо встретила его и сразу же принесла ребенка. Петр Ильич был поражен, каким большим, красивым и веселым тот стал. Прямо не верилось, что это и есть тот жалкий цыпленок, которого он принес сюда девять месяцев назад. Жорж поначалу боялся чужого человека, но быстро привык и пошел на руки. Единственное, что мешало восхищаться мальчиком – его удивительное сходство с отцом.
Вся приемная семья искренне привязалась к Жоржу – сразу было заметно, что ему хорошо здесь живется. Однако пора решать, что делать с ним дальше. Как устроить мальчика в России, чтобы не узнали в Каменке? Какое имя ему носить? Бесконечные вопросы не давали покоя.
Несколько дней спустя Петра Ильича настиг неожиданный удар: Модест лгал про успех «Мазепы» в Петербурге. Оперу приняли так же, как в Москве – холодно-почтительно. Кюи остался верен себе: «В Чайковском заметен в течение десяти лет медленный, но неустанный упадок творческих сил, происходящий, вероятно, от излишнего их напряжения». Но не это уязвило Петра Ильича – к нападкам петербургского критика он давно привык, – а упрек Юргенсона, сообщившего новость:
«Не в укор тебе будь сказано, а этому ты виноват. Ведь и хорошее вино подогревают. Присутствие автора возвышает дух публики и есть могущественный рычаг, пользоваться которым далеко не лишнее».
И даже слова о том, что второе представление в Москве вызвало шумный успех, не сгладили впечатления от упрека. Правильно говорят: никто не умеет так уязвить, как близкий друг. Неужели не понятно, что Петр Ильич прекрасно знает, чего лишается из-за своего несчастного нрава. Но виноват ли он, что так создан и не в состоянии пересилить своей натуры? Известие подействовало подобно громовому удару – будто случилось непоправимое, громадное бедствие. В запале он высказал Юргенсону всю свою обиду, и получил в ответ извинения, остроумно пародирующее его собственные обвинения:
«Твой упрек, что я тебя огорчил, попал в мое чувствительное место. Неужели ты думаешь, что я сам не знаю, как много я себе врежу своим неумением быть деликатным и сдержанным, сколько я (через это) теряю от своей неблаговоспитанности!»
Письмо повеселило и немного утешило, но настроение оставалось премерзким. Петр Ильич перестал получать удовольствие от путешествий – они не развлекали, не освежали. Никуда не тянуло, кроме деревни. Он и уехал бы немедленно в Каменку, да только надо было что-то решать с Таней и Жоржем. И с финансовой стороны содержание ребенка во Франции становилось слишком дорогим.
Страшно хотелось домой. Но… дома-то у него и не было. Считать ли домом Каменку? Однако давно уже он перестал чувствовать себя там уютно и покойно, несмотря на любовь к сестре и ее семейству. Кочующая жизнь с каждым днем все больше тяготила. Петр Ильич начал серьезно задумываться о том, чтобы найти где-нибудь свой собственный уголок. Тысячи планов роились в голове, но пока он не мог остановиться ни на чем конкретном.
Все сомнения о местопребывании на ближайшее время разрешились письмом Направника, настоятельно советовавшего приехать в Петербург и явиться к государю, который интересовался Петром Ильичом и даже велел поставить «Евгения Онегина».
***
Официальным поводом для представления императору послужил пожалованный недавно Петру Ильичу орден Владимира четвертой степени.
Пасмурным мартовским утром он выехал в Гатчину, выпив перед отъездом брома, чтобы хоть как-то взять себя в руки. Все предшествующие дни он находился в неописуемом волнении и страшно страдал от борьбы со своей застенчивостью. Видимо, из-за взвинченных нервов накануне началась мигрень, которая к утру, к счастью, прошла. А вот невыразимые волнение и тревога никуда не делись.
Оказавшись перед дверьми царских покоев, Петр Ильич почувствовал такой ужас, что вынужден был снова принять бром, дабы не потерять сознание от нервного напряжения.
Александр III вопреки суровой богатырской внешности оказался добродушен и ласково встретил Петра Ильича. Государь долго беседовал с ним, постоянно повторяя, что очень любит его музыку. Столь же приветлива была и императрица Мария Федоровна. Участие императорской четы трогало до глубины души, но как же убийственны были страдания от проклятой застенчивости!
Лишь на следующий день Петр Ильич пришел немного в себя, вздохнул свободно и смог осмыслить общение с государем.
Проведя в столице гораздо больше времени, чем собирался, он обнаружил, что сильно преувеличил в своем воображении неуспех «Мазепы». Опера явно понравилась, несмотря даже на плохое исполнение. Во всяком случае, никакого позора и в помине не было.
В Москве же по-прежнему разрывали на части всевозможные знакомые, не оставляя времени ни для чего. Петр Ильич начал подыскивать себе домик поблизости от Москвы и даже получил множество указаний и предложений. Но… вдруг осознал, что для этого нужны деньги, которых у него нет. Пришлось поиски пристанища отложить.
Анатолий расстроил очередным приступом упаднических настроений.
– Я не могу больше оставаться прокурором! – страстно убеждал он брата, меряя шагами гостиную. – Меня назначили состоять при политических следствиях. Каждую неделю приходится присутствовать при обысках у нигилистов. Я постоянно так нервничаю, что просто схожу с ума. К тому же и продвижения по службе нет никакого.
– И чего ты хочешь? – спросил Петр Ильич, чувствуя, что этот разговор Толя завел не просто, чтобы пожаловаться.
– Я мог бы сменить службу. Работать на железной дороге, например. Спроси Надежду Филаретовну – может, она устроит меня куда-нибудь? Она ведь никогда тебе не откажет!
– Не знаю… я и так обязан ей столь многим…
– Прошу тебя, Петичка! Я погибну здесь!
Толя сделал такие умоляющие глаза, что Петр Ильич сдался:
– Хорошо. Я напишу ей. Но мне кажется, ты преувеличиваешь силу моего ходатайства.
Толя просиял:
– Ты самый лучший брат на свете!
Петр Ильич хмыкнул, но не мог не улыбнуться в ответ.
И в Москве он остался дольше, чем собирался. Всю Страстную Седмицу он посещал службы в московских храмах: был на мироварении и на выносе плащаницы в Успенском соборе, а Пасху встретил в храме Христа Спасителя. И отовсюду вынес впечатление благолепия, умилительности и красоты. Удивительно все-таки действует на душу православное богослужение! Совсем не то у католиков.
***
В Каменке царила тишина. Саша должна была вернуться из Петербурга только через неделю – она поехала туда за Володей, решив забрать его домой до экзаменов, поскольку он сделался нервным и слабым и нуждался в отдыхе от постоянного напряжения. Лева уехал на ярмарку в Елизаветград. Оставались только Аня с Колей, поглощенные друг другом.
Холодная погода с неистовым ветром сменилась по-настоящему весенним теплом, и Петр Ильич ежедневно гулял в лесу, наслаждаясь природой. Собирал фиалки, любовался птицами, проснувшимися насекомыми, записывая в блокнот пришедшие в голову музыкальные темы.
Вернувшись с прогулок, он обедал с Александрой Ивановной. Эта восьмидесятилетняя старушка восхищала его своей бодростью и живостью. В таких преклонных летах, перенеся столько испытаний, она все еще была полна сил. Она радовалась его приходу и каждый раз рассказывала истории о старине: о Пушкине, гостившем когда-то у Давыдовых, о декабристах.
Саша с Бобом вернулись как раз ко дню рождения Петра Ильича. Каменка оживилась. День рождения праздновали пышно и весело, именинника от души поздравляли. Сорок четыре года – много уже прожито, много сделано. Без всякой горечи принимал Петр Ильич течение времени. К смерти он не стремился и хотел достичь глубокой старости, но если бы предложили ему снова стать молодым, не согласился бы. Всякий возраст имеет свою прелесть и свои хорошие стороны. Еще бы утвердиться в вере настолько, чтобы не бояться смерти…
Все яснее Петр Ильич ощущал, что нельзя всю жизнь оставаться приживалкой у сестры. Он начал замечать, как сильно его раздражают глупые мелочи, вроде нелюбимого блюда за ужином. Со временем он мог стать совершенно несносным. Пора, пора найти собственный уголок, жить отдельно. Но… весь вопрос упирался в деньги.
Пребывание в Каменке скрашивал Боб, постоянно приходивший к дяде поболтать, но соблюдая часы занятий и не мешая, когда тот был погружен в сочинение. С годами мальчик становился все очаровательнее, и Петр Ильич обрел в нем настоящего друга.
Закончив работу над сюитой, он уехал к Модесту в Гранкино.
Путь на лошадях от станции стал сущим мучением. Из-за обильных дождей и размытой дороги тащились черепашьим шагом двенадцать часов. Модест, встретивший брата в Харькове, поделился своими планами. Оправившись от прошлой неудачи, он с энтузиазмом обдумывал новую драму.
– Я рассказал сюжет Стрепетовой, и она пришла в восторг и от пьесы, и от своей роли. Даже очень уговаривала меня к началу сезона представить «Лизавету Николаевну» в Дирекцию театров.
Петр Ильич порадовался за брата, а услышав готовые два первых действия, в свою очередь проникся восхищением. Несомненный литературный талант Модеста развивался и укреплялся.
Братья целыми днями занимались своими трудами, сходясь вместе только за едой. Глушь здесь была такая, что не было даже церкви. Петр Ильич не замечал бы и воскресений, если б не Алеша, наконец вернувшийся с военной службы: по праздникам он считал своим долгом одеваться в лучшие платья. Оказавшись на природе, в тишине, с совершенно новым энтузиазмом Петр Ильич отдался работе: закончив инструментовку сюиты, немедленно принялся за следующее сочинение, на этот раз симфоническое.
***
После степи, становившейся летом совсем голой, особенно приятны были пышные леса Скабеевки, где недавно приобрел имение Анатолий. Танюша, отвыкшая от дяди, поначалу пряталась, уткнувшись лицом в мамино плечо, но скоро привыкла, и они снова стали друзьями не разлей вода.
– Что Надежда Филаретовна? – спросил Толя за ужином. – Может ли она устроить меня в железнодорожное ведомство?
– Знаешь, с моим письмом к ней случилось что-то странное: то ли она не получила его, то ли делает вид, что не получила, чтобы избегнуть неприятности отказать мне в просьбе. Во всяком случае, я долго думал об этом… – Петр Ильич серьезно посмотрел на брата. – Действительно ли ты хочешь оставить службу? Я много дурного слышал в последнее время об администрации железных дорог. Стоит ли вот так бросать все и переходить в совершенно чуждый тебе мир?
Анатолий недовольно поджал губы, и он поспешил добавить:
– Я как никто сочувствую твоему желанию уйти из судебного ведомства. Но нельзя делать такой шаг наобум. Если ты уйдешь, а потом раскаешься? Что может быть хуже?
– На самом деле, Толя давно понял глупость своего необдуманного порыва, – с едва заметной усмешкой заметила Паня. – Но гордость не дает ему в этом признаться.
– Ну что ты говоришь! – пробурчал Анатолий, однако бросив на жену почти благодарный взгляд.
Она пожала плечами, всем своим видом выражая: «Разве я не права?»
– Значит, и говорить не о чем, – облегченно заключил Петр Ильич, обменявшись с Прасковьей веселым взглядом.
С наступлением сентября он проводил Толю с Паней в гости к брату Николаю, а сам отправился в Москву: его просил приехать Танеев, чтобы просмотреть недавно написанную Концертную фантазию для фортепиано, которую он собирался играть. Алексея с вещами Петр Ильич сразу отослал в имение фон Мекк Плещеево, куда Надежда Филаретовна давно звала его погостить, да все не получалось.
Сергей Иванович уже начал разучивать фантазию, и ему нужны были замечания автора по исполнению. Играл он безупречно, и советовать ничего не пришлось. После чего Танеев попросил учителя высказать мнение о своей новой симфонии.
– Стоит ли что-то говорить до исполнения? – неуверенно спросил тот. – По себе знаю, как неприятна критика до появления произведения в свет.
– Я настаиваю, Петр Ильич, – со свойственным ему упорством сказал Сергей Иванович. – Мне важно услышать ваше мнение.
Вздохнув, Петр Ильич взял партитуру, чтобы ознакомиться с ней.
– Что ж, в музыкальном отношении она мне очень нравится, – произнес он, закончив просмотр. – Оркестр будет звучать хорошо. Если хотите придирчивой критики, мне есть что сказать, но скажу в свое время. Сейчас я только смутил бы вас, а замечания такого рода нельзя переделать так, как мне хотелось бы, в один присест. Потому я лучше отложу их до того, как симфония будет сыграна.
Танеев не удовлетворился столь обтекаемым ответом, продолжал настаивать, и пришлось подробно отчитываться о впечатлении.
– Может быть, я ошибаюсь, и если, услышав симфонию, переменю мнение, буду рад сознаться в своем заблуждении, но вот что мне кажется теперь, – Петр Ильич перевел дыхание, собираясь с силами – высказывать критические замечания всегда было для него тяжело. – Симфония не задумана для оркестра, а есть только переложение на оркестр музыки, явившейся в вашей голове абстрактно, или же, если было конкретное представление, то, мне кажется, в виде фортепиано – пожалуй, с одним или двумя струнными. Даже, скорее всего, в виде фортепианного трио. В первую очередь, главные темы не оркестровы. Это несоответствие мысли с формой или, лучше сказать, насильственность формы дает себя чувствовать от начала до конца. Только в редких местах встречаешь настоящую звучность. В большинстве же страниц оркестр, претендующий быть прозрачным и светлым, в сущности, массивен, тяжел и искусствен. Несмотря на этот общий недостаток массивности и бесколоритности, есть места, которые будут отлично звучать и таких весьма много. Но все же симфония должна быть симфонией, а не хорошим переложением с фортепиано на оркестр.
– То есть вам не понравилось, – Серей Иванович заметно расстроился и поник.
– Да нет же! – горячо возразил Петр Ильич. – С музыкальной стороны я не только удовлетворен, но восхищен. Мне нравятся до чрезвычайности все фокусы ваши, особенно суматоха тем перед возвращением главной партии. Но… я же говорил – не стоило высказывать суждение до исполнения.
– Зато я заранее увидел свои недостатки, – убежденно заявил Сергей Иванович.
***
Петр Ильич ожидал приятных впечатлений от Плещеева, однако действительность бесконечно превзошла все ожидания. Великолепный, даже немного слишком роскошный дом. Удобная, уютная обстановка. Очаровательная река Пахра, протекающая рядом. Парк, представляющий собой длинную узкую полосу речного берега, обсаженную липами, березами, елями и соснами. Бездна инструментов, нот и книг. Словом, рай на земле.
В одиночестве, когда никто не отвлекает, Петр Ильич смог распределить свое время, как ему хотелось. Целыми днями он занимался: инструментовкой концертной фантазии и сочинением пьес для парижской газеты «Gaulois», чтением, изучением английского языка, в котором сильно продвинулся, игрой на фортепиано. Ощущение полного удовлетворения своих нравственных, умственных и материальных потребностей лишний раз доказало, что лучше всего ему будет жить в деревне. Но только в деревне своей собственной. Большое значение имела и близость Москвы. Сознание, что крупный родной город на расстоянии часа езды как-то успокаивало. А значит, дом следовало искать в Подмосковье.
К октябрю погода испортилась, начались бесконечные дожди, но это не расстраивало Петра Ильича. Он любил осеннюю хмурую погоду, пожелтевшие обнаженные деревья, своеобразно прелестный осенний пейзаж.
К сожалению, скоро гостеприимную усадьбу пришлось покинуть ради Петербурга, куда звала и дирекция театров – в связи с постановкой «Евгения Онегина», – и брат Модест.
***
Ежедневно с утра до вечера приходилось бывать на репетициях, после них ходить в гости к многочисленным родственникам и знакомым – иногда в несколько мест за один вечер, – так что домой Петр Ильич возвращался в полном изнеможении. А на следующий день все повторялось. Среди прочих он навестил Балакирева, который поразил происшедшими в нем переменами: казался умиротворенным и чуть ли не отрешенным от всего земного.
– Я теперь, Петр Ильич, гораздо больше думаю о своей душе, чем о сочинениях, – пояснил он, правильно истолковав изумленный взгляд гостя. – И вам того же желаю. Нет-нет, я не имею в виду бросать творчество – просто уделять внимание духовному. Вы не представляете, сколько успокоения и опоры я нашел во Христе!
– Вы правы, Милий Алексеевич, – задумчиво кивнул Петр Ильич, – я и сам в последнее время чувствую нечто схожее. И молюсь, чтобы вера утвердилась во мне.
Удовлетворенный согласием собеседника Балакирев сменил тему:
– Что пишете сейчас?
– Только закончил концертную фантазию, и пока никаких новых мыслей нет.
– Если позволите – могу предложить вам тему для симфонии, – с энтузиазмом заявил Балакирев, подавшись вперед. – «Манфред» Байрона: по-моему, эта пьеса прекрасно подходит именно для вашего дарования. Кроме того, сюжет ее глубок и современен, так как болезнь настоящего человечества в том и заключается, что оно не смогло уберечь свои идеалы. Они разбиваются, не оставляя в душе ничего, кроме горечи. Отсюда и все бедствия нашего времени.
– Я подумаю, – неуверенно ответил Петр Ильич. – Честно говоря, я не очень хорошо помню сюжет «Манфреда», но обещаю, что сегодня же зайду в магазин и куплю его.
Хотя он не был до конца уверен, что возьмется за симфонию на этот сюжет, во всяком случае, поближе познакомиться с пьесой стоило.
Премьера прошла успешно, но не триумфально. Вызовы начались со второго акта. Нервно кусая ногти за сценой, Петр Ильич отметил, что пели великолепно – никогда еще сложная партитура «Евгения Онегина» не передавалась так законченно и совершенно. Модест, пришедший в антракте проведать брата, принес из зала новости:
– Аплодируют много, но есть и недовольные. Хотя никто не шикает, я слышал насмешки и порицания, – и поспешно добавил: – Однакож похвал звучит больше. В целом, опера нравится – это можно сказать с уверенностью.
Петр Ильич только вздохнул – он и не ждал безусловного принятия, но «Онегин» здесь нравился определенно больше, чем в Москве. И этим он обязан исполнительнице главной роли. Павловская хоть и не была абсолютно той Татьяной, о которой он мечтал, все же являлась великолепной артисткой.
– Жаль, государь не смог присутствовать, – добавил Модест. – Уверен, это добавило бы энтузиазма публике.
В конце артисты устроили овацию с поднесением венка. Пришлось выходить на сцену кланяться. Петр Ильич так разволновался, что за кулисами у него случился нервный срыв. Модест поспешил увести его домой, где он только и смог успокоиться и наконец-то искренне порадоваться успеху.
Четыре последующих представления прошли блестяще – «Онегин» понравился петербургской публике и имел настоящий успех. Но всю радость испортило неожиданное известие: бывший ученик Петра Ильича Иосиф Котек был болен чахоткой и с нетерпением ждал его в Швейцарии, где проходил лечение. Лишить умирающего человека утешения видеть знакомое лицо он не мог и потому отправился в Давос – курорт для чахоточных.
***
В Европе наступила настоящая зима. По пути Петр Ильич задержался на несколько дней в Берлине, чтобы закончить две неотложные вещи, камнем лежавшие на душе. У артиста Малого театра Самарина готовился бенефис, и Петра Ильича просили внести вклад в празднование – написать что-нибудь. А во-вторых, как оказалось, государь, неправильно поняв его слова на аудиенции, удивлялся, что он до сих пор ничего не сочинил для церкви. И, чтобы не показаться невежливым и неблагодарным, он решил написать Херувимскую.
За четыре дня усиленной работы были готовы антракт для струнного оркестра «Привет благодарности» и две Херувимские.
Петр Ильич долгого добирался до Давоса на узенькой бричке, запряженной одной лошадью. Курорт располагался высоко в горах, среди суровой природы. Взору сразу открывался ряд великолепнейших гостиниц и нескольких частных вилл, уютно расположившихся в долине между гор. Все было завалено снегом, и стоял такой холод, что совершенно отмерзли уши и нос. При этом ярко светило солнце, слепившее глаза и сверкавшее бликами на крышах домов. Необыкновенно чистым, хрустальным, но разреженным воздухом с непривычки было тяжело дышать.
Добираясь до главной гостиницы, Петр Ильич обнаружил массу магазинов, театр, приспособленные к климату увеселения: каток, горы, стрельбища. Давос являлся целым маленьким миром. Главная гостиница представляла собой белый двухэтажный домик. Котека Петр Ильич не застал – метрдотель объяснил, что тот не ждал его так рано и уехал искать для него помещение.
С большим волнением ожидал он возвращения ученика. Наконец, Иосиф появился. Он не казался умирающим, как Петр Ильич вообразил себе, напротив – выглядел здоровым и румяным. Увы, первое впечатление быстро разрушилось.
– Петр Ильич, как я рад вас видеть! – Котек, сияя улыбкой, протянул руку, которую он машинально пожал, внутренне похолодев.
Это был не столько не голос, сколько хрип. Даже после этих немногих слов, Котек тяжело закашлялся, задыхаясь, и тут же опустился в кресло – явно не в состоянии долго держаться на ногах. Петр Ильич с глубоким состраданием и тоской смотрел на молодого совсем человека, обреченного так мучительно умирать. Впрочем, говорят, в Давосе многие чахоточные исцелялись. Может, повезет и Котеку?
– Как вы себя чувствуете? – обеспокоенно поинтересовался Петр Ильич.
– Вполне сносно, – жизнерадостно заявил Иосиф. – Врачи говорят, каверн еще нет, и надеются, что и не будет. Хотя одно легкое в хроническом воспалении, покрыто ранами и воздуху не принимает. Но горный воздух творит чудеса – здесь за одну зиму полностью выздоравливают шестьдесят больных из ста, – немного погрустнев, он добавил: – Правда, боюсь, мне придется и весь будущий год здесь прожить.
Несмотря на постоянный страшный кашель, Котек без конца болтал, и приходилось уговаривать его помолчать и отдохнуть. Петр Ильич обещал остаться на несколько дней, порадовав Иосифа – он явно соскучился здесь в одиночестве.