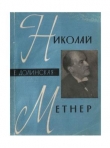Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 36 страниц)
Глава 15. Скиталец
В Риме по-прежнему жил Кондратьев – на этот раз с женой и дочерью. Дина, страшно обрадовавшаяся приходу Петра Ильича, все время его визита не отходила ни на шаг. Он и сам был счастлив всех видеть, но все-таки слишком много времени они отнимали: Николай Дмитриевич постоянно требовал вместе кататься, гулять, ходить в театры, на концерты… Если бы только можно было устроить так, чтобы почаще оставаться в одиночестве! А ведь еще приходилось без конца отговариваться от старых и новых знакомств.
На Петра Ильича напал творческий кризис: все прежде написанное казалось ему незрелым, несовершенным по форме и пустым. Рассудком он понимал, что преувеличивает эти недостатки, но не мог не чувствовать к ним отвращение, которое парализовало всякую творческую активность. Преодолев себя, он все-таки взялся за «Мазепу», начатого еще в Каменке. Однако, написав сцену Марии и Мазепы, опять отложил многострадальную оперу, увлекшись сочинением Трио памяти Рубинштейна.
Несмотря на бесконечные потоки дождя, Петр Ильич ежедневно гулял. Красота Рима все больше очаровывала его. Где еще можно найти прогулку, какую они однажды предприняли с Николаем Дмитриевичем, воспользовавшись на короткое время прояснившимся небом? Начали они с площади, посреди которой возвышалась колонна с крестом наверху, прошли мимо величественной базилики Санта Мария Маджоре – идеально симметричной и поражающей воображение своей монументальностью. Направились к украшенной колоннами и статуями церкви Пьетро ин Винколи – более воздушной и уютной. Очаровательной, затерянной тропинкой добрались до величественного Колизея, и до утопающих в зелени грандиозных развалин – Терм Каракаллы. Посетили и Латеранский собор – простой внешне, но роскошно изукрашенный внутри мрамором, изразцами, позолотой, статуями и великолепнейшими фресками.
Вернувшись домой, впечатленный красотой Вечного города, в котором бесконечно можно варьировать маршрут прогулок и никогда не наскучить видами, Петр Ильич обнаружил, что его поджидает огромное количество корреспонденции.
Анатолий писал, что уже сомневается делать ли Коншиной предложение. Чего и следовало ожидать. Петр Ильич попытался образумить брата. С Прасковьей Владимировной он познакомился в свой последний визит в Москву, и девушка ему понравилась. Она была бы Толе замечательной женой – лучше и выдумать невозможно.
Телеграмма из Москвы сообщала об успехе Второй симфонии, исполненной под управлением нового капельмейстера Зике. Убийственно грустно было думать, что вот уже иные деятели появились на месте Николая Григорьевича.
Юргенсон писал, что Адольф Бродский играл в Вене скрипичный концерт, от которого в свое время отказался Ауэр, заявивший, что он слишком сложен. Причем Ауэр не только сам не исполнял его, но и других скрипачей отговаривал! С тех пор вот уже два года никто не решался играть несчастный концерт. Героический поступок Бродского тронул Петра Ильича до глубины души. Еще больше он оценил его подвиг, развернув немецкую газету и наткнувшись на заметку некоего Ганслика:
«Русский композитор Чайковский, конечно, необычный талант, но форсированный, производящий неудобовкушаемые, безразборные, безвкусные вещи. Все, что мне из них известно, есть странная смесь оригинальности и грубости, счастливых мыслей и безотрадной утонченности. Мы видим ясно дикие, пошлые рожи, слышим грубые ругательства и обоняем сивуху. Фридрих Фишер однажды говоря о чувственной живописи, выразился, что бывают картины, которые «видишь, как воняют». Скрипичный концерт Чайковского приводит нас в первый раз к ужасной мысли – не бывают ли и музыкальные пьесы, которые «слышишь, как воняют».
Этот отзыв больно уязвил Петра Ильича. Уж насколько он привык к нападкам критики, но подобного не ожидал. Даже Кюи, словно задавшийся целью разругать любое его произведение, до таких гадостей не доходил.
Рождество встретили невесело: Модест заболел лихорадкой, Коля страдал сильным кашлем. А в сам праздник у бедного ребенка разыгралась такая страшная мигрень, какой Петр Ильич ни разу еще не видел. Однако елка была наряжена, упускать праздник не хотелось, и его просто перенесли на следующий день – когда все почувствовали себя лучше.
***
Кондратьевы уехали. Без них стало немного грустно, зато освободилась масса времени для творчества. Петр Ильич немедленно принялся за трио, сжигаемый почти болезненным стремлением сделать все поскорее.
Начав писать сразу после завтрака, он так увлекся, что просидел не вставая весь день. Уже почти стемнело, когда он распрямился и повел затекшими плечами. Он был доволен проделанной работой: черновые эскизы трио были закончены. В голове не осталось ни одной связной мысли.
В дверь робко постучали – вся прислуга уже выучила: когда Петр Ильич запирается в своем кабинете, его нельзя беспокоить.
– Войдите! – крикнул он.
Смуглый темноволосый паренек лет восемнадцати принес целый ворох писем.
– Ваша корреспонденция, синьор, – с поклоном сообщил он и тут же испарился.
Петр Ильич страдальчески поморщился: переписка когда-нибудь сведет его с ума. И ведь год от года писем становится все больше. Быстро перебрав самые разнообразные конверты, он решил начать с приятного – письма от Юргенсона. Послания Петра Ивановича, в подробностях и при этом остроумно отчитывавшегося о московской жизни, всегда было интересно читать. Но в этот раз ждали совершенно иные впечатления. Юргенсон сообщал о смерти от скарлатины своего младшего сына – пятилетнего Алеши. Страстно любившего жизнь Петра Ильича всегда потрясали известия о чьей-либо смерти. Тем более когда это знакомый и любимый человек. Тем более когда это маленький ребенок, которому еще жить и жить. Он не просто сочувствовал другу, но и сам испытывал настоящее горе.
За ужином Модест сообщил, что Алина Ивановна зовет его пожить с ней в Алжире.
– Все расходы берет на себя. Местность красивая. Думаю, стоит принять приглашение. Да и Коле хорошо будет повидаться с матерью.
– Пожалуй, – кивнул Петр Ильич. – А меня Аня Мерклинг просила привезти ей Прозерпину Бернини.
– Бернини! – скривился Модест, состроив физиономию великого ценителя искусства. – Он же ужасен! Может, Аня лучше предоставит выбор мне? Я бы подыскал что-нибудь действительно стоящее.
– Я спрошу ее, – улыбнулся Петр Ильич.
Он так и предполагал, что Модя придет в ужас при упоминании Бернини. Если честно, столь желаемая кузиной Прозерпина ему тоже нравилась. Но брату он этого, конечно же, не сказал.
Несколько дней спустя, вернувшись вечером с прогулки, Петр Ильич был встречен сияющим Модестом, который, высоко подымая какую-то депешу, воскликнул:
– Отличное известие!
Он как-то сразу почувствовал, что это Толя сообщает о своей помолвке. И точно: брат писал, что и свадьба уже назначена. Петр Ильич обрадовался новости: вот действительно подходящая партия для Анатолия. Да и чувства его к Прасковье явно более глубокие, чем к предыдущим пассиям. Судя по довольной физиономии Модеста, он был рад за брата не меньше.
– А наша поездка в Алжир отменяется, – словно между прочим заметил Модест. – Герман Карлович категорически против. И его можно понять.
– Но и в Риме долго оставаться нельзя – слишком дорого, – задумчиво произнес Петр Ильич. – А что если переехать в Неаполь?
Модест с готовностью согласился и протянул брату еще одно письмо:
– Тебе от Юргенсона.
Едва начав читать, Петр Ильич удивленно приподнял брови:
«Милый мой! Нет, не так.
Многоуважаемый Петр Ильич!»
Оказалось, Юргенсон в штыки воспринял идею написать шесть пьес для «Нувеллиста» по просьбе его издателя Бернарда.
«В ответ на почтенное письмо от 10/22 с.м. имею честь ответствовать, что нахожу письмо г. Бернарда к Вам некоторым посягательством на чужое добро, ввиду того, что г. Бернард, зная наши отношения с Вами, не задумывается предлагать Вам заказ на хлебный кусок. Я позволю себе сомневаться в его желании абонироваться на следующие 6 симфоний. Как купец я крайне изумлен наивности г. Б. и нахожу причины, почему Вы должны писать для его журнала пьесы, а я отступать – слишком недостаточными.
Не подлежит сомнению, многоуважаемый Петр Ильич, что главным условием, основою постоянных дел между сочинителем и издателем непременно следует ставить афоризм: любишь кататься, люби и саночки возить. Уступив г. Б. несколько лет тому назад 12 пьес, я ему продал за чечевичную похлебку право своего первородства, и, конечно, если бы я не был таким превосходным мужчиною, рвал бы теперь на своей голове те немногие волосы, которые остались мне верными. Словом, я остался в дураках. Повторять глупости не велено, и потому, г. композитор, не посягайте никогда на освобождение из кабалы, не старайтесь выпутаться из пут бархатных, из цепей золотых (licenziupoetica), не вороти физиономии (деликатно) от рублей кредитно-юргенсоновских. В отлива час я не верю измене друга».
Начавший улыбаться с первых строк, Петр Ильич под конец уже хохотал и передал письмо с любопытством наблюдавшему за ним Модесту. И все-таки он не понимал упорства Юргенсона печатать непременно каждую нотку его сочинений. Ну, зачем ему эти глупые, ничего не стоящие шесть пьес, которые Петр Ильич решил написать исключительно ради денег? А с другой стороны, он был польщен и благодарен другу.
***
На самом высоком месте дороги, идущей вдоль берега, возвышалась вилла Постильоне. Отсюда открывался потрясающий вид на Неаполь с Везувием и окрестностями. Виллу эту посоветовал Кондратьев, уверявший, что ничего более прекрасного и вообразить нельзя. Сидя у окна и любуясь закатом, Петр Ильич согласился с его отзывом всей душой. Вокруг царила абсолютная тишина: ни шума большой гостиницы, как это было в Риме, ни суеты города, а главное – никаких визитов. Зрелище, развертывавшееся перед окнами, было поистине несравненным. Петр Ильич даже плакал от наплыва благодарности к Богу, посылающему ему это счастье. Он не мог оторваться от окна – даже читать не тянуло. Сидишь и смотришь – и хотелось бы сидеть без конца!
Они с Модестом достаточно недорого сняли целый этаж. В их распоряжении имелось шесть просторных комнат, причем в цену входило питание, белье и все необходимое. Еще двенадцать человек, живших на вилле, располагались далеко от братьев – иногда казалось, будто здесь кроме них никого нет.
К сожалению, хозяин оказался мошенником и потребовал плату гораздо большую, чем договаривались. В возмущении Петр Ильич даже устроил небольшой скандал, но пришлось заплатить. После чего они с Модестом немедленно съехали. В городе условия были гораздо хуже, зато хозяева гостиницы были порядочными людьми.
Впрочем, и здесь можно было часами любоваться на чудное синее море, слегка подернутое зыбью, и на Везувий, красующийся во всем своем величии. Вот только ни на секунду не смолкали шарманки, порой доводившие Петра Ильича до отчаяния. Случалось, играли по две и даже по три одновременно, да еще где-нибудь пели, а неподалеку берсальеры[30]30
Горные стрелки.
[Закрыть] занимались шагистикой[31]31
Военное обучение, основой которого является маршировка.
[Закрыть] и неустанно трубили от восьми утра до полудня. Шум страшно мешал сосредоточиться. Однако Петру Ильичу так хотелось закончить поскорее, что он усердно занимался, невзирая ни на какие препятствия.
В Неаполе он получил от сестры отчет о знакомстве с Александром и Николаем фон Мекк. Встреча состоялась в Киеве, где старшие девочки гостили во время Рождественских каникул. Был организован маскарад. Обе стороны остались довольны друг другом: молодые люди очаровали всю семью Давыдовых, а Надежда Филаретовна писала, что Николай положительно влюблен в Анну и просит у нее разрешения снова навестить их летом. Столь долго подготавливаемое дело, очевидно, сладилось. Всем сердцем Петр Ильич одобрял выбор Николая – из Ани для него выйдет невеста гораздо лучшая, чем Тася.
Александра не забыла и успокоить его по поводу мнимой ссоры с Анатолием. Тот – как всегда, чересчур мнительный – жаловался недавно, что сестра де не рада его счастию и равнодушно отнеслась к новости о свадьбе. Что, конечно же, было неправдой.
«Все давно прошло, – писала Саша. – Да и какая серьезная ссора могла бы быть у меня с братом, да еще с маленьким? Ты, верно, это и по себе чувствуешь: Толя и Модя – маленькие братья, не правда ли?»
Петр Ильич невольно улыбнулся – действительно, все они до сих пор опекали близнецов, точно малых детей.
***
На родину Петр Ильич возвращался в подавленном состоянии. Связанная со свадьбой Анатолия суматоха пугала его, да и от посещения Москвы он не ожидал ничего веселого. Модест с Колей остались в Неаполе, и одиночество усиливало тоску.
Петр Ильич вышел из поезда, погруженный в себя, ничего вокруг не замечая. Двигаясь сквозь шумную толпу, он услышал, что его вроде бы окликнули. И точно – обернувшись, он обнаружил Юргенсона и Анатолия, машущих ему и зовущих, пытаясь перекричать вокзальный гвалт. Дурное настроение разом испарилось, и, улыбаясь, он начал пробираться им навстречу.
Юргенсон выглядел здоровым и полным сил, а не той бледной тенью, какой он был в их последнюю встречу. Петр Ильич с облегчением вздохнул – он-то уже начал опасаться за друга. Толя же просто сиял от счастья – глядя на него, самому хотелось улыбаться. Немедленно, не дав брату опомниться, он повез его знакомиться с семьей невесты.
Дом Коншиных – преуспевающих купцов – казался настоящим дворцом. Хозяева ждали их в просторной светлой зале с высокими окнами в синих портьерах. Двое похожих друг на друга мужчин и привлекательная девушка с тонкими чертами лица и большими темными глазами, поприветствовав Анатолия, с любопытством повернулись к Петру Ильичу.
– Позвольте представить: мой брат – Петр Ильич Чайковский, – Анатолий состроил серьезную официальную мину, не забыв украдкой улыбнуться невесте и получив от нее ответную улыбку. – С Парашей ты уже знаком. А это ее отец – Владимир Дмитриевич и брат – Владимир Владимирович.
– К чему эти церемонии – мы же почти родственники, – добродушно улыбнулся Владимир Дмитриевич, пожимая руку Петру Ильичу.
Тот, обычно стеснявшийся новых людей, как-то сразу почувствовал себя своим. Немедленно завязался непринужденный разговор, будто они сто лет знакомы. Прасковья и в первое знакомство понравилась Петру Ильичу, но теперь он оценил ее еще больше. Простая и естественная, без всякого ломания. Говорила она мало, но немногие произнесенные ею реплики обнаруживали ум и образованность. Она показала себя также нежной и заботливой по отношению к жениху.
– Поздравляю тебя, Толенька, – сказал Петр Ильич, оставшись с братом вдвоем. – Параша – чудесная девочка. Лучшей жены тебе и желать нельзя.
Поскольку он приехал как раз перед Пасхой, то все вместе отправились в Кремль на Пасхальную заутреню, и вместе же потом разговлялись.
На свадьбу в Москву собрались родные: Александра с мужем и старшими девочками, Николай и Ипполит с женами.
Мучимый любопытством, Петр Ильич расспросил Аню про Николая фон Мекк.
– Он очень милый, – ответила она.
Казалось бы, не слишком обнадеживающий ответ, но зная племянницу и ее сдержанность в выражении чувств, Петр Ильич был уверен, что они гораздо глубже, чем она показывает.
– А хотела бы ты, чтобы он стал твоим мужем? – напрямую спросил он.
– Да, очень! – Аня мечтательно улыбнулась, и ее серые глаза засияли. – Даже жаль, что ему так долго учиться, – и поспешно добавила: – Но я готова ждать окончания курса, сколько нужно.
Вот и у второй племянницы судьба, считай, устроена. И как тут не пожалеть о Татьяне – когда младшие сестры одна за другой раньше нее выходят замуж.
Венчание состоялось в церкви во имя царицы Александры, находившейся в здании Александровского военного училища – внушительного белого здания в классическом стиле с колоннами. Простая, можно сказать аскетичная, церковь быстро наполнилась людьми: все многочисленные родственники невесты жили в Москве. В какой-то миг Петр Ильич пожалел, что приехал на свадьбу: окружающая обстановка напоминала собственный катастрофический опыт. Но он постарался не думать об этом.
По окончании церемонии начался торжественный обед, длившийся до позднего вечера и страшно утомивший Петра Ильича. Именно этой праздничной суматохи он и боялся, когда ехал в Москву. Наконец, в полночь молодых посадили на поезд до Варшавы, куда они отправились на медовый месяц. Хоть и грустно было расставаться, но при виде сияющей Толиной физиономии разом забывались и печаль, и усталость. В гостиницу Петр Ильич вернулся вымотанный до предела, но счастливый.
***
Май – единственный месяц, когда бедная каменская природа была по-настоящему хороша. Кругом цвели ландыши, и Вера, приехавшая с мужем к родителям на время своей беременности, каждый день приносила Петру Ильичу любимые цветы и ставила в небольшую вазочку на столе.
Увлекшись сочинением трио, он отложил «Мазепу» и только теперь в Каменке вновь вернулся к опере. Писал он с усилием, по-прежнему скованный холодностью к сюжету. Занимаясь аккуратно каждый день, он не испытывал и двадцатой доли того вдохновения и любви к своему детищу, какие испытывал прежде. Порой хотелось бросить оперу совсем, и только титаническими усилиями воли он заставлял себя продолжать работу.
И все бы хорошо, если бы не Таня. Она была здорова, но вела себя отвратительно: ярко красилась, безобразно и пестро одевалась, флиртовала сверх всякой меры с каждым мужчиной, попадавшимся под руку. Страшно подумать, что станется с этой девочкой.
Теплым прозрачным вечером, когда в саду пели соловьи, а Петр Ильич читал «Холодный дом» Диккенса, в его комнате появился Модест, заглянувший к сестре на неделю перед отъездом в Гранкино. С неудовольствием оторвавшись от книги, Петр Ильич поднял глаза на брата и замер. У того было настолько потерянное выражение лица, что небольшое раздражение мгновенно улетучилось, уступив место тревоге.
– Герман Карлович умер, – словно не веря сам себе, сообщил Модест.
– Как? – пораженно спросил Петр Ильич – ведь Конради был совсем не старым человеком.
– Сердечный приступ. Он умер в дороге – в Купянске Харьковской губернии, – немного помолчав, Модест растерянно добавил: – Не знаю, что делать: ехать ли с Колей в Купянск, или в Гранкино за Верой и там уже сообщить Коле? Или сообщить ему сразу же? Бедный мальчик – только он отправился от предательства матери, теперь вот и отца потерял.
– Как ты поедешь с твоим незажившим нарывом?
– В любом случае придется – Коля же должен попасть на похороны отца.
Петр Ильич задумчиво кивнул:
– Пожалуй, стоит как-нибудь деликатно рассказать ему сейчас, подготовить…
Весь вечер они обсуждали планы дальнейших действий, так ни до чего и не договорившись. Но несколько дней спустя решили, что Модест с Колей поедут в Харьков, куда уже привезли тело Германа Карловича. Как они и ожидали, Коля воспринял новость тяжело, много плакал, но к моменту отъезда начал приходить в себя, хотя по-прежнему был грустен и бледен.
Когда Модест уехал, на Петра Ильича напала отвратительно-томительная скука, заставлявшая с нетерпением ожидать часа отхода ко сну. С утра до вечера он мечтал о том, чтобы вернуться в Италию. А тут еще Лева привез учителя для мальчиков, которого негде было поместить. Хотя ни он, ни Саша не сделали ни единого намека, Петр Ильич остро чувствовал, что стесняет их, занимая лишнюю комнату. Эта мысль тяготила, и в начале июня он уехал в Гранкино к Модесту. Тем более последнему сейчас как никогда нужна была поддержка брата.
***
Гранкино не могло похвастаться особой прелестью: крошечный оазис среди бесконечной степи. Симпатичный, но слишком молодой сад. На сотни верст вокруг – ни малейшего леса. Зато абсолютная тишина – даже днем ни единый звук, кроме шелеста листвы, не нарушал ее. После каменского многолюдства и суеты она служила приятным контрастом.
– Как прошла твоя поездка в Харьков? – первым делом поинтересовался Петр Ильич у брата, когда Колю отправили спать.
– Родственников собралось множество, и все они смотрели на меня с почтением, смешанным с тайной завистью и недоброжелательством. Я там провел один день, а потом провожал тело сюда, где его и похоронили.
– Что завещание?
– Герман Карлович устранил Алину Ивановну от всякой власти над детьми и их имуществом, а меня назначил опекуном. Но приказчики хлопочут, чтобы обойти волю покойного и сделать опекуншей ее.
– Но это же против закона! – возмутился Петр Ильич.
Модест покачала головой:
– К сожалению, закон как раз на стороне Алины. Во всяком случае, Веру ей, скорее всего, отдадут. Насчет Коли еще не уверен, но боюсь, что она и здесь может одержать победу.
– А я думаю, что тут твои страхи напрасны – ничего она не сможет сделать.
– Знал бы ты, сколько мне пришлось выдержать нападок всяческих родственников, пытающихся насильно или хитростью увезти детей! Я даже обращался к местному предводителю дворянства с просьбой защиты. Просто не знаю, что делать!
– Все уладится – вот увидишь, – попытался Петр Ильич подбодрить брата.
Модест покачал головой:
– Несколько дней назад Алина явилась сама – вооруженная разрешениями и всякого рода официальными подтверждениями ее опекунских прав. Держала себя полной хозяйкой и распорядительницей. Веру увезла с собой, а Коле позволила немного погостить. Представляешь? И по первому требованию он обязан явиться к ней в Павловск.
– А что Коля?
– Расстроился, конечно. – Модест печально вздохнул. – Он так любит Гранкино! И к тому же ненавидит отчима. Он не сможет с ними жить!
Петр Ильич сочувственно кивнул. Он тоже в первую очередь жалел детей: что их ждет с такой матерью? Увы, они не могли ничего сделать – оставалось только ждать и надеяться на милость Божию.
Родственники Конради их больше не беспокоили, Алина Ивановна, видимо, удовлетворившись демонстрацией своих прав, тоже не появлялась, и жизнь потекла своим чередом.
А вскоре ситуация разрешилась окончательно. Петр Ильич попросил о помощи своего бывшего сокурсника, ныне адвоката, Герке. Посоветовавшись с ним, Модест предъявил Алине Ивановне свои условия мира, из коих главное то, что он хочет жить отдельно и где угодно. Она сдалась сразу, сделавшись уступчивой и смиренной.
Несмотря на угнетающе действующую жару, Петр Ильич усердно взялся за «Мазепу», только теперь по-настоящему увлекшись работой. Как мать, которая тем более любит ребенка, чем более он причинил ей забот, тревог и волнений, он испытывал отеческую нежность к своему новому музыкальному чаду, столько раз доставлявшему ему тяжелые минуты разочарования в самом себе и доводившему почти отчаяния. К июлю, когда Петр Ильич вернулся в Каменку, две трети оперы были готовы.
***
Александра приехала домой из Карлсбада буквально за два дня до появления Петра Ильича. По дороге она заезжала в Прагу, где давали «Орлеанскую деву».
– Опера шла в летнем, деревянном, балаганоподобном театре, – поделилась она впечатлениями. – Исполнение и обстановка – старательны, но бедноваты. Исполнители все старые и некрасивые, но пели неплохо. И видно, что все очень старались.
– Вот моя опера и перешагнула границу. Надеюсь, за ней и другие последуют, – улыбнулся Петр Ильич. – А что пресса?
– Отзывались о тебе достаточно дружелюбно, но, похоже, они больше любят тебя, как симфониста. Говорят, как музыкальный драматург ты достоин уважения, симпатии, глубокого интереса, но не заслуживаешь титула «художника Божьей милостью».
Петр Ильич пожал плечами:
– Ничего другого я и не ожидал. Это еще вполне доброжелательное мнение.
– Уверена, они переменят его со временем и будут тебя хвалить, – убежденно заявила Саша.
– Спасибо, Санечка, – трогательная вера сестры в его талант всегда много значила для Петра Ильича.
Среди прочих новостей она упомянула и о визите братьев фон Мекк:
– Замечательные мальчики – с чудным характером, веселые, естественные. А больше всего умиляет их горячая любовь к матери. Я так рада за Аню!
– Их помолвка слажена?
– Да, обо всем договорились. Через два года, когда Коля закончит учебу, они поженятся.
Будущий зять и его брат очаровали не только Сашу. Все в Каменке постоянно говорили о них, вспоминая самыми добрыми словами. Несколько дней спустя Петр Ильич и сам смог убедиться в справедливости восторженных отзывов: Николай и Александр снова нанесли визит будущим родственникам. Петр Ильич немного побаивался этой встречи – он чувствовал себя неловко из-за отношений с их матерью. Как лично общаться с ее детьми, когда с ней они остаются незримы друг для друга?
Но страхи его не оправдались. Молодые люди будто ничего странного не видели в сложившейся ситуации, и с первой минуты Петр Ильич почувствовал себя с ними в родственной атмосфере, точно они выросли на его глазах.
***
В августе Анатолий с Прасковьей вернулись из свадебного путешествия, и Петр Ильич поехал в Москву навестить их, а заодно посетить концерт из своих произведений.
Брат выглядел бодрым и довольным жизнью, как никогда. Видя, как благотворно Параша действует на Толю, Петр Ильич полюбил невестку еще больше. Молодая чета порадовала его сообщением о том, что они ждут ребенка. Бесконечно любивший детей Петр Ильич с радостью ожидал появления племянника.
Несмотря на это, все пребывание в Москве он был подавлен и уныл – сам не понимая почему. Хотя и концерт прошел замечательно, и все знакомые были ангельски добры и любезны, он чувствовал себя глубоко несчастным. Возможно, все дело в обычной усталости от суеты московской жизни и невозможности нормально заниматься.
А когда Петр Ильич навестил своего издателя, тот огорошил его новостью:
– Я решил выйти из Музыкального общества.
– Почему? – удивился Петр Ильич.
– Я давно собирался сделать это с окончанием двадцатипятилетия, то есть в восемьдесят шестом году. Но теперь вижу, что ждать не стоит.
– Да что случилось?
Юргенсон казался обиженным и раздраженным, и Петр Ильич никак не мог взять в толк, в чем дело: Петр Иванович редко обижался и обычно не обращал внимания на интриги, неизбежные в деловом мире.
– Давеча Григорович – председатель второй группы – выразил желание предложить меня в эксперты. На что Губерт при Третьякове сказал: «Да он ничего не понимает!» Это не при мне было, но сам же Губерт мне обо всем наивно и рассказал. В любом случае, от моего ухода Музыкальное общество нисколько не потеряет.
– Неправда – потеряет! – горячо возразил Петр Ильич. – Я понимаю, что ты сердит на бестактную выходку Губерта. И есть на что. Просто непостижимо – как он мог так поступить? Но зачем уходить? Тебя многие ценят. Уверен, стоит тебе заикнуться об уходе, как все перепугаются, падут к твоим ногам и упросят остаться.
Петр Иванович отмахнулся:
– Надоело. Все равно уйду – не в этом году, так в следующем.
Петр Ильич печально вздохнул, но уговаривать не стал – ему ли, беглецу, убеждать остаться в кабале. Но грустно смотреть, как распадается Музыкальное общество. Со смертью Рубинштейна словно исчезла связь, державшая всех вместе.
Стоило сесть в поезд, как Петр Ильич почувствовал облегчение от московских мук. Как же усладительно было сознавать, что он не обязан никуда идти, не обязан говорить и слушать, никто не потревожит его свободу!
Он снова остался в семье сестры за главного: Саша с двумя младшими мальчиками уехала в Ялту, Лева – к старшим в Киев. Петра Ильича глубоко поразило то, что Саша уехала в четверг, Лева – в субботу, а в пятницу случилась катастрофа на железной дороге: поезд сошел с рельс. Он не мог не увидеть в этом особой милости Бога, оберегающего его от настоящих горестей. Ведь если он неделю в Москве перенес как великое бедствие, что стало бы с ним, случись настоящее несчастье? Петр Ильич не раз замечал, как опасности лишь мелькают мимо него, оставляя целым и невредимым.
Аня в отсутствие матери приняла на себя обязанности хозяйки дома, прекрасно с ними справляясь. Она была мила с младшими, хорошо обходилась с гувернантками и прислугой, с большой пользой распоряжалась временем. И не было ни минуты, чтобы она вызывала недовольство. А вот Тася, напротив, стала еще более капризной и взбалмошной, чем раньше.
Петр Ильич часто говорил с Аней о Коле и убедился, что она серьезно его любит. Правда, она избегала упоминаний о свадьбе. Возможно, оттого что ее немного страшили два года ожидания. Между прочим Петр Ильич сказал племяннице, что Коля фон Мекк хотел бы войти с ней в переписку. Это желание он высказал матери, а Надежда Филаретовна в свою очередь сообщила Петру Ильичу.
– Я бы тоже этого хотела, – смущенно улыбнулась Аня, – но не решаюсь без маменькиного позволения. Я напишу – спрошу ее.
На том и порешили.
Спокойствие закончилось, когда вернулся Лев Васильевич со старшей дочерью. Тут же началась прежняя история: Таня немедленно отравила все своим присутствием: валялась целыми днями в кровати, а за обедом сидела такая ужасающе бледная, что кусок в горло не лез. Ситуацию ухудшало присутствие учителя музыки Блюменфельда, который явно был влюблен в Таню. Они подолгу оставались наедине, а порой вели себя невероятно вольно и распущено, не стесняясь окружающих. Пасть до того, чтобы позволять себе вещи, которые только публичные женщины делают! Такого Петр Ильич от племянницы не ожидал. Лева же, ослепленный отцовской любовью, ничего не замечал. Чем это кончится? Просто волосы становились дыбом.
Никогда еще ни одно произведение не давалось Петру Ильичу так тяжело, как «Мазепа». Прежде он писал так же естественно, как рыба плавает в воде. А теперь стал подобен человеку, несущему на себе хотя и дорогую, но тяжелую ношу, которую во что бы то ни стало нужно донести до конца. Он начал бояться, что его силы надломлены и поневоле придется остановиться. И все же к середине сентября он закончил оперу с ощущением, что она будет иметь успех. Он как-то сразу успокоился, стал отлично спать, исчезла постоянная раздражительность. Даже к Тане начал относиться гораздо благодушнее. Особенно после того, как уехал Блюменфельд. И все же… не проходило и часа, чтобы он не мечтал о загранице.
В октябре в Каменке вдруг наступила настоящая зима: поля засыпало снегом, дул холодный ветер, мешавший гулять. Однако спустя три недели погода резко поменялась и стала, как в Италии.
Восемнадцатого октября в Москве должны были исполнять Трио памяти Рубинштейна. Петр Ильич с тайным трепетом весь вечер и следующий день ожидал телеграммы от московских друзей. Увы, тщетно! Пришлось сделать неутешительный вывод, что трио в Москве просто не заметили. А несколько дней спустя он прочитал в «Московских ведомостях» потрясающе глупую статью:
«Трио есть ничто иное, как личные воспоминания композитора о великом виртуозе, подобные книге Вас. Немировича-Данченко о Скобелеве. Странное и неуместное сообщение книгою мы все-таки можем понять без особого ключа, а Чайковский в своих музыкальных воспоминаниях должен был бы приобщить и ключ к отгадке разных эпизодов трио, а он его не приложил и тем задал неразрешимую загадку для публики. Хорошо еще, что мне посчастливилось от людей, близко стоявших к покойному Н.Г. Рубинштейну, разузнать кое-что: например, что вариация № 5 составляет воспоминание о каком-то виртуозе-цимбалисте, которого Н.Г. Рубинштейн любил слушать в одном из загородных московских ресторанов, что другая вариация есть воспоминание о пении цыган…»