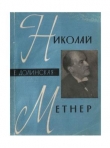Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
– Имейте в виду – здоровые не очень хорошо чувствуют себя в Давосе, – предупредил он.
Петр Ильич вначале не поверил этому заявлению, но пару дней спустя убедился, что так и есть. Ему скоро стало сильно не по себе, даже случилась страшная мигрень с тошнотой и рвотой, какой давно не было. Давос начал наводить уныние и ужас.
Накануне отъезда Петр Ильич побывал у доктора, лечившего Котека, чтобы расспросить подробно о состоянии больного.
– Теперь не столь ужасно положение легкого, как горла. Я опасаюсь больше горловой, чем грудной чахотки, – пояснил врач, но тут же уверенно заявил: – Однакож я убежден, что господин Котек не безнадежен, и надеюсь на его выздоровление. Не слишком скоро, но оно наступит.
Успокоенный этими словами Петр Ильич попрощался с Иосифом и поехал в Париж – проведать Жоржа.
Несмотря на то, что все его бесконечно баловали, Жорж рос кротким, послушным и добрым. Все больше он становился похожим на мать. Черты отца постепенно исчезли, и с одной стороны, это радовало, а с другой – заставляло бояться, что всякий, увидевший ребенка, заподозрит правду.
Несмотря на постоянную занятость – Петр Ильич принялся переделывать «Кузнеца Вакулу», исправляя недостатки, помешавшие опере долго оставаться в репертуаре, написал три новых романса, гармонизировал «Тебе поем», – он постоянно испытывал тоску и страшную хандру. Заграница опротивела, Париж перестал пленять.
***
Петр Ильич сошел с поезда на Витебском вокзале, вдохнув морозный декабрьский воздух. Несмотря на шум, крики и толкотню, всегда царившие на привокзальной площади, на душе было радостно от возвращения на родину. Настроение улучшилось еще больше, когда среди толпы он разглядел встречавшего его Модеста. Обнимая брата, он подумал, что, только побывав в одиночестве за границей, можно в полной мере почувствовать любовь к родине и близким людям.
Модест заметно нервничал: через день предстояла премьера «Лизаветы Николаевны».
– Мне все кажется, будто пьеса провалится, – подавленно сообщил он.
Петр Ильич с сочувствием посмотрел на брата – как ему были знакомы эти страхи и страдания автора, чье произведение ставится в казенном театре!
– Зря так боишься, – попытался он успокоить Модеста. – Твоя пьеса чудесна. Я был заворожен, когда ты читал ее мне.
– Мне бы твою уверенность… – вздохнул тот. – Потехин, от которого все зависит на драматической сцене, решительно настроен против меня и Стрепетовой – едва удалось добиться постановки.
– Главное, чтобы понравилось публике – никто не станет снимать с репертуара пьесу, собирающую полный зал. А публике понравится, потому что «Лизавета Николаевна» – талантливая, симпатичная вещь, обладающая свойством привлекать сердце зрителя.
Петр Ильич оказался прав. Премьера «Лизаветы Николаевны» прошла с блестящим успехом. Вопреки многочисленным недостаткам постановки и не самой лучшей игре актеров, публика заметила и оценила достоинства пьесы. Модест светился от счастья, но уже на следующий день на него посыпались удары. Критика, за немногими исключениями, отнеслась крайне недружелюбно. Потехин устроил так, чтобы пьесу или вовсе не назначали, или назначали неожиданно, без объявления, поэтому публики собиралось мало.
Модест был убит этими неприятностями, и Петр Ильич предложил ему попробовать поставить пьесу в Москве.
– Я уже прощупывал почву, – согласно кивнул тот. – Обращался к Федотовой. И она так увлеклась заочно, что отказалась от «Макбета» и взяла «Лизавету Николаевну». Но потом вдруг объявила, что роль слишком плаксива и не подходит для ее бенефисного спектакля.
– Не обращай внимания на капризы актеров: еще не раз с ними столкнешься, не стоит принимать близко к сердцу, – посоветовал Петр Ильич. – Раз Федотова не оценила сделанной ей чести, можно обратиться к Ермоловой. Как считаешь?
– Думаешь, Ермолова окажется благосклоннее? – судя по тону Модест уже сильно сомневался в достоинствах своего детища.
– Вполне возможно. Я завтра еду в Москву – мог бы с ней поговорить. Хотя лучше будет, если ты сам это сделаешь. А я замолвлю за тебя слово перед Пчельниковым – московским главою театров.
Модест благодарно улыбнулся:
– Спасибо, Петя. Что бы я без тебя делал?
***
В Москве Петр Ильич остановился у племянницы Анны, найдя ее приболевшей и сильно расстроенной тем, что никак не может забеременеть.
Встретили его с радостью, и созерцание их семейного счастья грело сердце. Аня с Колей жили душа в душу, во всем друг с другом согласные. Но… уже на следующий день Петр Ильич подумал, что хорошо, конечно, когда муж и жена составляют как бы две половины одного существа, однако это уже чересчур. За обедом, когда речь зашла о родных, Аня небрежно заявила:
– На самом деле, Юлия – настоящая фурия: так и пышет на всех своей злобой. А Саша Беннигсен – сплетница.
Петр Ильич недовольно поморщился – Аня всегда отличалась склонностью к злоязычию, и, видимо, этот недостаток уже не исправить. Но шоком для него стало то, что Коля – добродушный, любящий всех вокруг, глубоко почитавший свою мать Коля – с энтузиазмом поддержал жену в осуждении родственников.
– Да-да, Сашок – злой, мстительный и бездушный. А мамаша, в сущности, взбалмошная и несносная старуха.
Петр Ильич онемел и не нашелся, что сказать на этот поток огульных обвинений, который оба расточали наперебой. Что же Анна сотворила с мужем, как он мог так измениться? Пребывание в доме племянницы сделалось мучением. Однако и съехать он не мог. Благо накопилось немало работы: приходилось безвылазно сидеть в литографии Юргенсона за сложной и спешной корректурой Третьей сюиты. Ганс фон Бюлов собирался исполнять ее в Петербурге, и к пятому января надо было все закончить. Работа утомляла до крайности, к тому же Петр Ильич всегда ненавидел корректуры. Он сердился, негодовал и на Петра Ивановича, и на его граверов – почему за столько времени, что он был за границей, дело ничуть не продвинулось? – зато не приходилось часто общаться с Аней и Колей.
Помучившись некоторое время, он все-таки собрал волю в кулак и решился откровенно поговорить с племянницей.
– Аня, – осторожно начал он, когда Коли не было дома, – я беспокоюсь за вашу будущность и благополучие. Приятно видеть согласие между вами, но тебе не кажется, что ты меняешь Колю в худшую сторону? К чему это постоянное осуждение и порицание родных? Какие бы ни были у них пороки – и еще не факт, что они действительно существуют, а не придуманы тобой, – это семья. Что бы мы были без поддержки и любви родных? Не пытайся изменить Колю, лучше изменись сама: будь снисходительнее, прощай окружающим недостатки.
К его величайшему удовольствию и облегчению, Аня восприняла выговор благодушно, без малейшей обиды. Задумчиво кивнув, она произнесла:
– Да, ты прав – я слишком много сужу о других. Но я постараюсь стать мягче и уступчивее. Спасибо, дядя Петя.
Столь страшивший его разговор в итоге принес добрые плоды. Оставалось надеяться, что решимости Анны хватит надолго.
Утром в сочельник, просматривая почту, Петр Ильич наткнулся на телеграмму, и сразу бросилось в глаза лаконичное:
«Котек умер 23 декабря».
Это известие поразило его как громом. Иосифу было всего тридцать лет! Такой молодой, такой талантливый – многообещающий музыкант, жизнерадостный человек! Ему бы еще жить и жить… А ведь на Петра Ильича, глубоко опечаленного внезапной смертью ученика, легла тягостная обязанность уведомить несчастных родителей о потере любимейшего старшего сына, который был к тому же главной поддержкой семьи. Целых три дня он не мог решиться на нанесение им страшного удара. И если бы не работа над корректурой, на которую уходило все время, он наверняка заболел бы от переживаний.
Чем дольше жил Петр Ильич в Москве, тем больше все его помыслы устремлялись на то, чтобы устроиться где-нибудь в деревне на постоянное жительство. Кочевание страшно утомляло, хотелось во что бы то ни стало быть хоть где-нибудь у себя. За отсутствием денег на покупку дома, он решил найти хотя бы съемное жилище и опубликовал в «Полицейских ведомостях» объявление:
«Одинокий человек ищет дачу-усадьбу для найма».
***
Пушистый снег засыпал петербуржские улицы и скрипел под ногами на морозном воздухе. Тем приятнее было войти в здание Зала Благородного собрания, из темноты и холода январского вечера попав в светлое и теплое помещение. Спрятавшись от посторонних глаз, Петр Ильич из своего укромного уголка наблюдал за публикой, которой собралось немало. Красивые дамы в блестящих, но легких – совершенно не по погоде европейских – туалетах под руку с сопровождавшими их мужчинами в смокингах занимали места и оживленно переговаривались. Судя по доносившимся отрывкам фраз, публика была настроена доброжелательно.
Но вот на сцену вышел Ганс фон Бюлов, встреченный бурными аплодисментами, несколько раз поклонился и, повернувшись к оркестру, поднял палочку. Вмиг все стихло, и огромный зал замер в ожидании.
Петр Ильич всегда знал Бюлова как тончайшего музыканта, но до сих пор не видел его за дирижерским пультом и был приятно поражен его виртуозностью. Вот тот идеальный исполнитель, которого он искал после смерти Рубинштейна. Бюлов умел передавать оркестру вместе с кружевной отделанностью подробностей подъем и воодушевление своего вдохновения. Под его манерным управлением, изобилующим странными и некрасивыми движениями, оркестр творил чудеса. Внимание слушателей было захвачено с первых же аккордов Третьей сюиты, в которую Бюлов вложил весь пыл своего увлечения. Петр Ильич сам по-новому услышал собственное произведение.
Когда дирижер опустил палочку и затихли последние звуки, публика, слушавшая сюиту не шевелясь и даже, кажется, не дыша, взорвалась бурными аплодисментами и криками «браво». Подобного торжества Петр Ильич никогда не испытывал. Да и ни одно исполнение русской симфонической музыки еще не встречалось столь восторженно.
Потрясенная и восхищенная публика настойчиво требовала автора, и как ни хотел он остаться инкогнито, пришлось выйти на сцену и вытерпеть пытку поклонов и поднесения венков. Ганс фон Бюлов улыбался, подводя его к краю сцены под непрекращающиеся громовые рукоплескания, и Петр Ильич с горячей благодарностью потряс его руку – этим успехом он всецело считал себя обязанным таланту дирижера. Подобные мгновения – лучшие украшения жизни артиста. Ради них стоило жить и трудиться. Но как же они утомительны и изматывающи!
На следующее утро Петр Ильич проснулся совсем больной. Желание куда-нибудь скрыться, жажда свободы, тишины и одиночества брали верх над ощущением удовлетворенного артистического самолюбия. Даже единодушно хвалебные отзывы прессы не пересилили их.
Однако быстро уехать из Петербурга не удалось: Петра Ильича звал на свадьбу с Панаевой двоюродный племянник Жорж Карцов. Отвергшая когда-то ухаживания Анатолия, Александра Валериановна все-таки вошла в их семью.
После венчания, когда все близкие собрались на обед, невесту никак не желали отпускать без того, чтобы она спела несколько романсов Петра Ильича под аккомпанемент автора. Тот страшно возмутился подобной беспардонностью и храбро высказал свое недовольство:
– Оставьте меня в покое хотя бы свадьбе! Я вам не тапер! Да и невесту пожалели бы – мало ей волнений сегодня?
На его возражения никто не обратил внимания – только посмеялись. И под натиском многочисленных родственников пришлось-таки исполнить два романса.
В Москву Петр Ильич вернулся измотанный, но полный планов. Забыв об обещании самому себе больше никогда не браться за оперу, он начал искать новый сюжет. До сих пор ему не встречалось ничего подходящего, но накануне Модест упомянул о драме Шпажинского «Чародейка»:
– Мне кажется, встреча Кумы с Княжичем очень эффектна для оперы.
Впрочем, он не предлагал драму для либретто, а упомянул между делом, делясь впечатлениями. Петр Ильич заинтересовался, в тот же день купил литографированный экземпляр драмы… и пришел в восторг от упомянутой сцены. Всю дорогу до Москвы он читал в поезде «Чародейку», а по приезде немедленно написал Шпажинскому, прося переделать драму в либретто.
Ответ пришел незамедлительно:
«Милостивый Государь Петр Ильич, мне чрезвычайно приятно было получить Ваше письмо. Я давно хотел познакомиться с Вами и ни с кем не стану работать с таким особенным удовольствием, как с Вами».
Со Шпажинским завязались деятельные переговоры, в воображении Петра Ильича начали складываться образы будущей оперы. В главной роли он с первых же минут видел Эмилию Карловну Павловскую, которая выше всяких похвал играла в «Мазепе» и стала наилучшей из всех возможных Марий.
Между тем объявление в «Полицейских ведомостях» дало результаты –начали поступать предложения. Из нескольких домов он выбрал имение под Звенигородом – на берегу Москвы-реки и с садом. Хозяева предлагали купить его с рассрочкой. Цена была вполне подходящая, однако Петр Ильич решил хотя бы год снимать дом, чтобы быть уверенным, что в нем нет никаких неудобств и скрытых недостатков.
В конце января вместе с Толей, Паней и Алешей он поехал смотреть предполагаемое жилище. По полученным рисункам и планам он вообразил этот дом идеалом всего, что только можно желать. Но его ждало горькое разочарование. Ни великолепного вида, ни большого сада, ни близости реки, обещанных хозяевами, не было и в помине. Да и сам дом оказался далеко не так хорош, как представлялось: заброшенная усадьба явно требовала немедленного и капитального ремонта.
Огорченный до глубины души Петр Ильич пришел в совершеннейшее отчаяние. Он-то думал, что все уладит и спокойно отправится за границу, чтобы поработать над переделкой «Кузнеца Вакулы». От разочарования его охватил необъяснимый страх перед предстоящим путешествием, убийственно душила непонятная тоска.
Несколько дней Петр Ильич сомневался и терзался, наконец, приняв героическое решение, не глядя послал Алексея нанять дачу в селе Майданово, в двух верстах от города Клина. Он слышал, что эта дача стоит в красивой местности, снабжена мебелью, посудой и всем, что нужно. Разве что дом со множеством комнат казался слишком роскошным. Но уж будь, что будет.
Глава 16. Майданово – начало оседлой жизни
Большой деревянный дом, окруженный парком, стоял на высоком берегу реки. Широкие липовые аллеи, остатки корзин роз перед фасадом, беседки, пруды и мостики, мраморная ваза в тенистом уголке. И все же первым впечатлением было разочарование. То, что Алеше показалось роскошным и великолепным, Петру Ильичу предстало пестрым, безвкусным, потертым и грязноватым. Когда-то имение было богато – следы былой роскоши еще проглядывали тут и там, – но сейчас оно пришло в совершеннейший упадок.
Петр Ильич сразу же решил, что Майданово не станет его постоянным домом. Однако год прожить можно, а летом окрестности обещали быть даже великолепными. Вдали виднелась березовая роща, еловый лесок и каланча сельской церкви.
У входа его встретила светская дама лет пятидесяти – хозяйка имения разорившаяся помещица Надежда Васильевна Новикова.
– Рада знакомству, Петр Ильич, – с энтузиазмом приветствовала она гостя. – Я покажу вам комнаты.
По дороге Новикова без умолку болтала: рассказала, что была когда-то состоятельна, но теперь живет доходом с Майданова, превратив все пристройки усадьбы в дачи, что не мешало ей вести светскую жизнь. Она знала буквально всех: и Листа, и Рубинштейна, и Жорж Санд, и Александра Дюма-сына, которого называла своим другом. У них обнаружилось множество общих знакомых, что заставляло опасаться появления этих знакомых здесь.
Петр Ильич не вслушивался в пустую болтовню, больше занятый осмотром дома. Он был велик, комнаты – довольно уютны, если не считать холодной гостиной, в которой невозможно будет обитать зимой. Но претензия на роскошь, дешевая пестрота, безвкусие, грязь и непомерная запущенность вызывали отвращение.
– Я дружу со всеми моими гостями, – продолжала Новикова свой монолог. – Уверена, и вы не станете исключением. Приходите ко мне на партию в пикет.
– Мне очень жаль, Надежда Васильевна, но я не играю в пикет.
– О. Вот как? – она заметно огорчилась.
Петру Ильичу тут же стало жаль ее одиночества – зимой дачников не было, хозяйка явно скучала – и он добавил:
– Впрочем, если вы научите меня…
– Конечно-конечно, – тут же оживилась Новикова. – Буду счастлива.
Петр Ильич нашел свои комнаты полностью обустроенными – даже рояль привезли. Вид из окон, тишина, сознание, что он наконец-то у себя, искупали неприятное впечатление от дома. Тот день он провел в самом чудесном расположении духа. Вопреки небольшому разочарованию, он был счастлив, доволен и покоен.
На следующий день Петр Ильич засел за переделку «Кузнеца Вакулы», а после обеда, воспользовавшись чудной погодой, отправился на прогулку по окрестностям. Несмотря на морозный воздух, солнце светило почти по-весеннему. Снег блистал мириадами алмазов и слегка подтаивал. Вдоль живописного берега реки Сестры Петр Ильич поднялся вверх – к городу. Проходя мимо игравших на улице крестьянских ребятишек, он одаривал их двугривенными и пятиалтынными, подумав, что в следующий раз надо запастись для них сладостями. Пораженные столь щедрыми подарками дети восторженно благодарили доброго барина и тут же мчались похвастаться перед другими своей удачей.
До Клина идти оказалось недалеко – поля быстро сменились домами, а на холме налево, возвышаясь над остальными постройками, стояла небольшая белая церковь. Справа – там, где располагался центр города – сверкали на солнце купола более величественного храма, как позже выяснил Петр Ильич, Троицкого собора. Он направился туда и скоро вышел на обширную площадь, заставленную повозками. Маленький провинциальный городок напоминал о родном Воткинске, чем еще больше располагал к себе.
Дома ждала масса писем. Славянское общество покорнейше просило господина Чайковского написать какую-нибудь пьесу к тысячелетию со дня смерти святого равноапостольного Мефодия. С той же просьбой обращался Юргенсон, на что Петр Ильич только фыркнул: заниматься праздничными пьесами ему сейчас совсем не хотелось. Танеев звал в Москву, сообщая, что двадцать второго февраля будет исполнять фортепианную фантазию. Московское отделение Музыкального общества приглашало на заседание директоров.
***
Четыре дня в Москве прошли в ужасной суматохе. Пришлось посетить два заседания Музыкального общества; поспорить с Юргенсоном по поводу пьесы – упрямый Петр Иванович смог-таки уговорить его написать Гимн в честь святых Кирилла и Мефодия; присутствовать на концерте. Фантазию исполнили превосходно. Публика встретила ее бурными рукоплесканиями и неоднократными вызовами автора.
В подобной суете пролетела вся весна: Петр Ильич либо сам ездил в Москву, либо принимал у себя гостей. За это время у него успели побывать все, кто жил в Первопрестольной, включая Анатолия с семьей. Много времени занимали заботы о консерватории: ей необходим был новый директор – Альбрехт с этой должностью очевидно не справлялся. Петр Ильич даже обращался с просьбой к Римскому-Корсакову, считая его подходящей кандидатурой, но тот отказался. Оставался лишь один вариант – Танеев. Единственный минус заключался в молодости Сергея Ивановича.
Не меньше забот доставляли хлопоты о постановке «Черевичек».
Дважды Петр Ильич отмечал свое сорокапятилетие: в Майданове с консерваторскими друзьями и в Москве с братом Анатолием, истратив огромное количество денег и страшно устав от кутежей.
В мае чуть ли не ежедневно приходилось присутствовать на консерваторских экзаменах – скучных и утомительных. Зато порадовал повысившийся уровень талантов. К ним бы еще хорошего директора, который смог бы прекратить дрязги среди профессоров и навести порядок…
После последнего экзамена Петр Ильич отвел в сторону Танеева для конфиденциального разговора.
– Сергей Иванович, как вы смотрите на то, чтобы занять пост директора консерватории?
Тот безгранично изумился:
– Я?
Петр Ильич решительно кивнул:
– В вас – человеке безупречной нравственной чистоты и превосходном музыканте – я вижу якорь спасения для консерватории.
– Но для этой должности требуется ловкий и опытный администратор, коим я не являюсь. И не чувствую себя способным для нее, – возразил Танеев.
– А по мне, так вы очень даже способны, – продолжал Петр Ильич горячо убеждать бывшего ученика. – Да, вы молоды и, возможно, вам недостает опыта, но это с лихвой компенсируется вашей честностью и авторитетом в музыкальном мире.
Сергей Иванович не выглядел убежденным и долго еще сопротивлялся, но в конце концов сдался под напором Петр Ильича. Теперь предстояло всех директоров Музыкального общества настроить в пользу Танеева, подготовить Альбрехта к предстоящей отставке. Были и другие обиженные самолюбия и затронутые амбиции. Всех их приходилось сглаживать, умиротворять, действовать убеждениями, просьбами, даже хитростями. Вложив в это дело огромное количество энергии и сил, Петр Ильич сумел добиться своего: дирекция Русского музыкального общества избрала Танеева директором консерватории.
Абсолютно опустошенный, но с чувством выполненного долга Петр Ильич покинул Первопрестольную.
В июне появилась, наконец, возможность отдохнуть от поездок и гостей и заняться сочинением «Манфреда». Увы, в это время появилась иная напасть: дачники. И красивый парк, и хорошенькие виды, и чудесное купанье – все было отравлено ими. С наступлением теплой погоды Майданово становилось все оживленнее. Даже в парк невозможно стало выйти, ни на кого не наткнувшись. Это ужасно раздражало, заставляя чувствовать себя несвободным. Чтобы не встречаться с дачниками и хозяйкой, Петр Ильич гулял исключительно за пределами усадьбы, благо окрестности здесь были необычайно живописные. Но и тут его поджидала неприятность: привлеченные щедрыми чаевыми деревенские мальчишки буквально не давали проходу, стоило выйти из дома. А ведь он крайне нуждался в уединении во время прогулок: общество убивало всякое вдохновение. Петр Ильич стал ходить другими путями, избегая детей, но они выслеживали его и появлялись в таких уголках леса, где он совершенно не ожидал никого встретить.
В отчаянии он все чаще начал думать о другом пристанище. Во время прогулок он даже присмотрел домик, стоявший в стороне от города. Он, правда, требовал некоторой перестройки и полной отделки, но Петр Ильич решил, что ему доставит удовольствие приводить дом в порядок.
***
И снова гости нарушили уединение. Сначала приехал Анатолий с семьей, потом – Модест. Наконец, соседнюю дачу сняли Кондратьевы. К тому же зачастили дожди, не позволяя гулять, все ходили сумрачные и раздраженные.
Впрочем, Петр Ильич был рад обществу родных, особенно маленькая Танюша умиляла своей непосредственностью. Однажды, вертясь перед зеркалом, она заявила родителям:
– Вот придет дядя Петя, скажет: Тата надушилась, распушилась!
А встречая отца с прогулки спрашивала:
– Папа, откедова ты?
К гордости родителей Таня для своего возраста много и хорошо говорила и росла смышленой девочкой.
Братья, прекрасно знавшие потребности Петра Ильича, не появлялись у него в утренние часы, посвященные работе. Встречались они только за ужином.
Теплым июньским вечером, когда все собрались за столом на веранде, Анатолий сообщил:
– Мне пришло уведомление из Министерства. Меня назначают прокурором Окружного суда в Тифлис.
– Замечательная новость! – обрадовался Петр Ильич. – Уж если ехать в провинцию, то лучше Тифлиса ничего нельзя выдумать.
Вот только Прасковья не казалась счастливой. На вопрос в чем дело, она нерешительно призналась:
– Мне боязно ехать в провинцию. Я всю жизнь провела в Москве. Как-то будет еще на новом месте?
– Твои страхи естественны, но вот увидишь – все образуется, – утешил невестку Петр Ильич. – Знаешь, Саша тоже боялась и печалилась, когда уезжала из Петербурга в Каменку. Да со временем привыкла, устроилась, и теперь ничего другого и не желает.
Паня не выглядела убежденной, но благодарно улыбнулась.
– В любом случае, мое назначение еще должен подтвердить государь, и мы ждем его решения, – заключил Толя.
Депеша о решении задерживалась, заставляя всех волноваться. И вот пришло извещение, что дело улажено: Анатолий должен отбыть на новое место службы в августе.
Петр Ильич не любил торжества и празднества, но на этот раз именины пришлось справить пышно. Исполненный решимости устроить для близких настоящий праздник, он организовал роскошный обед. Даже сам ездил в Москву за провизией, купил пять живых стерлядей, которых вез в корзине со льдом. Но вот беда – в поезде было людно и жарко, лед начал таять, и по вагону потекли потоки воды. Пассажиры изумленно оглядывались в поисках причины неожиданного потопа и возмущались. Петр Ильич сжался в комок на своем месте, ежеминутно ожидая, что кондуктор выбросит дорогое яство в окно. К счастью, все обошлось, он благополучно довез стерлядей до Майданова.
Гостей собралось великое множество: помимо живших у Петра Ильича близнецов, приехал брат Николай с женой, отец Прасковьи, Кондратьевы. Пришла на огонек и хозяйка Майданова, приведя с собой племянницу. Праздник вышел веселый и шумный, но утомительный. Особенно раздражала Новикова с ее манией быть интересной и умной. Впрочем, она искренне стремилась помочь, даже предложила Петру Ильичу другой дом:
– Я понимаю: вам хочется уединения от остальных дачников. Так переезжайте в тот дом, где я сейчас живу: он в стороне от дач, к тому же я могу огородить его забором.
– Спасибо, Надежда Васильевна, наверное, я воспользуюсь вашим щедрым предложением.
На самом деле смена дома мало улыбалась Петру Ильичу: ему хотелось совсем покинуть Майданово. Но за неимением лучших вариантов, можно пока принять этот.
Поздно вечером, когда гости разошлись, Николай позвал прогуляться в сад. Некоторое время назад Петр Ильич рассказал старшему брату о незаконнорожденном сыне племянницы Тани, спрашивая, не хочет ли тот усыновить мальчика.
– Я поговорил с Олей, и она с радостью согласилась. Когда ты собираешься ехать за Жоржем?
– Я хотел забрать его уже сейчас, но Таня недавно написала, умоляя пока ничего не предпринимать. Говорит, у нее появились какие-то новые обстоятельства, что она возьмет сына к себе… Я не слишком в это верю, но согласись, мы не можем игнорировать просьбу матери.
Николай разочарованно кивнул.
– Если ничего не изменится, я поеду в Париж зимой – тогда все и решим. Думаю, вам в любом случае следует готовиться к усыновлению. Все эти Танины планы и надежды… сколько их уже было…
– Хорошо. Значит, ждем до зимы. Я передам Оле.
Уезжая, Николай забыл в Майданове новые ковры, которые купил в Москве и вез домой.
– Вот бы мне такие для нового дома… – мечтательно заметил Петр Ильич, думая, как лучше отправить ковры брату.
– Так оставляй себе, – уверенно заявила Прасковья. – Коле они все равно не нужны. Мы недавно были у них – ковров там хватает, и самых роскошных.
Петр Ильич посомневался, но в итоге решил последовать совету невестки, отправив Николаю шутливое извинение:
«Насчет ковров скажу, что я их ужиливаю от вас. Когда решился вопрос о моем переезде, то оказалось, что ковры эти мне страшно нужны, и Паня сама посоветовала мне без церемонии отнять их от вас, утверждая, что, в сущности, они вам вовсе не нужны. Как бы то ни было, но теперь ковры эти у меня, и отдам я их только если ты придешь с полицией, да и то раскровеню все морды, прежде чем расстанусь с ними. Милому Коке тоже попадется здоровая колотушка. Итак, если хочешь скандала, братоубийственной распри, пролития крови, то действуй. Если же убоишься, то лучше позволь заплатить 30 р. и забудь о коврах. Пожалуйста, милый Кукарекушка, уступи!»
***
Июль выдался необычайно жарким и сухим. Весь горизонт окутала дымчатая мгла от горения торфяных болот. С каждым днем она становилась гуще: казалось, еще немного – и в ней можно будет задохнуться.
Братья почти насильно увезли Петра Ильича в Плещеево – погостить у племянницы Анны. Хоть и приятно было повидать ее и Веру, жившую в то время у сестры, поездка принесла одно раздражение. Он страшно не любил отрываться от работы и в любом случае не мог отдыхать, пока сочинение не закончено.
Едва вернувшись в Майданово, он снова с усердием занялся «Манфредом», теперь полностью увлекшим его. Вот только сложная, трагического характера симфония дурно действовала на настроение. Петр Ильич чувствовал, что и сам превратился в какого-то Манфреда. Модест тоже был занят: закончив повесть, он принялся за комедию.
Тишину знойного летнего дня нарушал доносившийся с веранды звонкий смех Таты да голос Пани, увещевавший дочку вести себя потише, поскольку дяди работают. Толя уехал по делам в Москву и должен был вернуться лишь поздно вечером.
Вдруг со стороны города раздался тревожный набат. Он становился все громче, и Петр Ильич в беспокойстве выбежал из дома. Вдали над Клином поднимался густой черный дым.
– Пожар! – выдохнул незаметно появившийся рядом Модест.
Пожар в полностью деревянном городе грозил обернуться настоящей катастрофой. Переглянувшись, братья кивнули друг другу и поспешили в Клин в надежде помочь.
Когда они добрались до города, он представлял собой страшное зрелище: торговые ряды на центральной площади полыхали так, что люди, подносившие воду для тушения, едва могли приблизиться. Огонь уже перекинулся на ближайшие дома. Если так пойдет дальше, Клин выгорит до основания. Пылающее дерево трещало, раскидывая вокруг искры, жар огня опалял кожу, в воздухе стоял столь густой дым, что было тяжело дышать, кругом слышались испуганные крики, ржание лошадей и лай собак.
Быстро сориентировавшись, Петр Ильич с Модестом принялись помогать подносить воду с реки и вытаскивать из загоревшихся домов имущество жильцов.
К тому времени как с огнем удалось справиться, пострадало около трети города. Черные обуглившиеся стены дымились, хмурые, покрытые сажей мужики разгребали пожарище, пытаясь спасти то, что еще можно было спасти, бабы истерически причитали, плакали перепуганные дети. Множество людей осталось без крова. Сердце разрывалось от жалости при виде этой картины. И Петр Ильич пригласил пострадавших к себе в Майданово – пожить какое-то время, пока не отстроят новые дома. Помог он и деньгами – многие из погорельцев не имели достаточно средств для стройки.
В результате дом Петра Ильича оказался битком набит народом – невозможно было шагу ступить. Конечно, это причиняло немалые неудобства и вызывало неудовольствие хозяйки, но не мог же он бросить людей в беде. Зато позже, покидая Майданово, люди кланялись ему в ноги и от всего сердца благодарили:
– Да благословит вас Господь, барин!