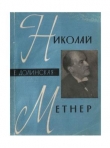Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)
***
В первых числах марта Петр Ильич был в Петербурге. Вернуться на родину его подвигло известие о скорой постановке «Евгения Онегина». Очень уж хотелось послушать оперу – но инкогнито, чтобы никто кроме самого тесного консерваторского кружка не знал об этом.
Свидание с родными принесло и радость, и огорчение. Отец, хотя был вполне здоров, сильно сдал, совсем ослаб. В его возрасте это и не удивительно, но каждое такое свидание напоминало, что, вероятно, ему уже недолго осталось. Испытывавший к отцу нежную привязанность и глубокое почтение Петр Ильич с грустью думал об этой перспективе.
Близнецы порадовали хорошим состоянием духа. Анатолий даже находил в столичной жизни удовольствие, будучи увлечен своими великосветскими успехами: все вечера он проводил в кругу знати – княгини Белосельской, графини Адлберг… А вот Петр Ильич, не успев приехать, начал тяготиться Петербургом – сразу испортилось настроение и захотелось скрыться, как можно дальше.
Получив телеграмму от Юргенсона о том, что ему непременно надо присутствовать на репетиции, он с облегчением уехал в Москву на два дня раньше, чем собирался. Тем охотнее, что уже предвидел, как будет нервничать на премьере.
Едва Петр Ильич появился у Рубинштейна, как тот потащил его в консерваторию:
– Очень удачно ты прибыл: пойдем, посмотришь репетицию.
Робкие попытки отказаться от публичного появления, конечно же, не остановили Николая Григорьевича. Когда они вошли, все были уже в сборе. При виде Петра Ильича по залу пролетел шепоток, и он обреченно вздохнул. Вот и закончились его мечты об инкогнито.
Рубинштейн, ни на кого не обращая внимания, сел за рояль аккомпанировать и приказал:
– Левицкая, на сцену!
Петру Ильичу стало жаль бедную девушку, которая страшно волновалась то ли от присутствия автора, то ли от тона Николая Григорьевича. Арию Ольги она начала довольно уверенно, но едва успела пропеть: «Я не способна к грусти томной…» – как Николай Григорьевич изо всей силы ударил по клавишам, затопал ногами и закричал:
– Почему вы не играете?!
– Иван Васильевич с нами игры еще не проходил, – робко ответила несчастная, совершенно теряясь.
– В жизни вы настоящая enfant terrible[24]24
Трудный ребенок (фр.)
[Закрыть], – еще раздраженнее заявил Рубинштейн, – а тут стоите, как чурбан!
От этих слов Левицкая ударилась в слезы и, конечно, больше ничего не могла спеть.
– Ну, полно тебе, Николай Григорьевич, – увещевал друга Петр Ильич. – Отпусти ее, пусть успокоится. Разволновалась – бывает.
Вспыльчивый как порох Рубинштейн был все-таки добрым человеком, и слезы распекаемых им учеников тут же смягчали его.
– Хорошо-хорошо, ступайте домой, – согласился он и позвал исполнительницу главной роли: – Климентова!
В Климентовой, несмотря на неумелость, чувствовалась теплота и искренность, и Татьяна из нее получилась очень даже неплохая. Онегин – Гилев – разочаровал: пел он старательно, но его голос был так ничтожен, так сух и лишен прелести! Зато постановка и костюмы оказались хороши, хор и оркестр исполняли свое дело прекрасно.
После репетиции товарищи принялись хвалить и поздравлять Петра Ильича. Он с удовольствием отметил, что все они полюбили музыку «Евгения Онегина». А скупой на похвалы Николай Григорьевич поразил решительным заявлением:
– Я просто влюблен в эту музыку!
Танеев, собиравшийся тоже сказать что-то сочувственное, так и не смог подобрать слов и просто разрыдался.
В день премьеры Петр Ильич страшно волновался. Перед началом Николай Григорьевич позвал его на сцену, где собралась вся профессура консерватории, поднесшая ему венок при всеобщих громких рукоплесканиях. Пришлось ответить на речь Рубинштейна, с трудом подбирая слова, запинаясь, ценой ужасного напряжения нервов.
Во время представления беспокойство достигло крайних размеров и дошло до степени мучительных терзаний. К сожалению, страхи оправдались. Репетиция и то прошла лучше. В квартете первого акта Ольга сбилась, остальные спутались, замолчали, и, наконец, заиграл один оркестр, причем певцы выглядели смущенными и запели, наконец, в разных тонах.
Хотя автора вызывали на сцену, овации, встречавшие его появление, скорее выражали сочувствие к прежним заслугам и радость видеть его после слухов о болезни сияющим, здоровым и полным сил для дальнейшей деятельности. Бурю восторга произвели только народный хор с танцами и куплеты Трике – далеко не главные и не лучшие моменты оперы. Конечно, можно утешаться тем, что впечатление испортило не самое лучшее исполнение: все-таки играли неопытные студенты, а не профессиональные артисты.
Во время антракта в уголок, где прятался Петр Ильич, заглянул Антон Григорьевич, приехавший специально на премьеру. Едва поздоровавшись, он потащил за собой бывшего ученика:
– Пойдемте-пойдемте, я нашел отличную ложу, совершенно пустую.
Зачем надо было идти в ложу, Петр Ильич так и не понял, но подчинился: спорить с Рубинштейнами, что со страшим, что с младшим – гиблое дело.
Уже шагнув в упомянутую ложу, он заметил там красивую девушку в роскошном туалете, в которой узнал известную певицу-любительницу Александру Панаеву – бывшую безнадежную Толину любовь. Испугавшись, он попятился, но Рубинштейн безжалостно подтолкнул его сзади в спину, и, споткнувшись о порог, он упал в ложу.
– Вот это ваше место, у ее ног. Просите прощения, – расхохотался Антон Григорьевич.
Петр Ильич знал, что Александра Валериановна давно искала случая познакомиться с ним, но до сих пор он под разными предлогами увиливал, до дрожи боясь новых знакомств.
Он покраснел до корней волос, поднялся, чувствуя себя невероятно неловко, и сел на кончик стула, мечтая только о том, чтобы как можно скорее сбежать отсюда. Мало того, что его смущало общество незнакомой женщины, так еще и первое появление перед ней получилось комичным. Александра Валериановна пыталась завязать разговор, что-то спрашивала, но весь ее энтузиазм разбивался об ужас Петра Ильича – он упорно молчал, в немом страдании оглядываясь на дверь. Наконец, чувствуя, что больше не выдержит, вскочил и, простившись с Рубинштейном, стремглав вылетел из ложи. Хотелось убить Антона Григорьевича – надо же было поставить его в столь неловкое положение! Страшно вообразить, что подумала о нем Панаева!
По окончании спектакля все поехали в «Эрмитаж»[25]25
Известный ресторан в Москве.
[Закрыть] отмечать премьеру. Первая половина празднества получилась тягостной и мрачной из-за присутствия Антона Григорьевича, которому опера не понравилась. Не умея притворяться, абсолютно лишенный способности смягчать неприятную правду, он предпочел молчать. Его молчание удручающе действовало на всех присутствующих, а особенно на Петра Ильича, жаждавшего одобрения учителя, и Николая Григорьевича, ценившего мнение брата.
Но вот Антон Григорьевич раскланялся и покинул собрание, после чего все оживились, стало весело и шумно.
– «Евгений Онегин» – столь крупное достижение русского искусства, – с жаром доказывал Николай Григорьевич, – что его необходимо вынести на суд широкой публики. Опера непременно должна быть поставлена на большой сцене.
– Не думаю, что стоит это делать, – возражал Петр Ильич, – в ней есть множество недостатков, да и интимность музыкального замысла не понравится публике. Сам видел, как холодно ее сегодня приняли.
– Все это глупости и пустяки! Публику смутила близость изображаемой эпохи: они привыкли видеть в операх фараонов, эфиопских принцесс, царей и народные бунты. Но они быстро оценят гениальность твоей музыки, поверь. «Онегин» должен идти в Большом театре – я ручаюсь за успех!
Мало-помалу Петр Ильич сдался под напором Рубинштейна, и они принялись увлеченно обсуждать, что кое-где надо усилить оркестровку, а на балу шестой картины приписать танцы, поправить кое-какие мелочи…
Время показало правоту Николая Григорьевича: публика не слишком бурно аплодировала, зато колоссальный, небывалый в летописях русской музыки успех оперы выразился в бесконечном ряде полных сборов.
После дружеских посиделок Петр Ильич пошел к Юргенсону: обсудить накопившиеся дела, да и просто повидаться с другом и его семьей.
– У нас проблемы с литургией, – озабоченно сообщил Петр Иванович, когда они устроились в кабинете. – Певческая капелла конфисковала ее и запретила мне печатать.
– Почему? – Петр Ильич недоуменно приподнял брови.
– Потому что есть закон, по которому печатать и петь разрешается только те духовные сочинения, которые предварительно одобрены директором Придворной капеллы, то есть Бехметьевым, – сердито ответил Юргенсон. – А я, понимаешь, осмелился что-то издавать, не спросив у него разрешения. Бехметьев устроил дознание, на каком основании разрешена к печати твоя литургия. И хотя у нас есть разрешение Московского комитета цензуры духовных книг, обер-полицмейстер Козлов конфисковал все сто сорок три экземпляра.
– И что теперь делать?
Петр Ильич был огорчен и растерян. Ну, почему из-за никому ненужных формальностей рушится то, во что он вложил столько души?
– Начнем дело в суде, – решительно заявил Петр Иванович и, заметив, как друг при слове «суд» нервно поежился, добавил: – Не беспокойся. Правда на нашей стороне. Обещаю, мы выиграем это дело и Бехметьев еще заплатит убытки.
Он излучал столько уверенности и решительности, что Петр Ильич невольно улыбнулся. Когда Юргенсон говорил таким тоном, верилось, что все получится.
По просьбе Анатолия Петр Ильич вернулся в Петербург, где брат потащил его знакомиться с Панаевой.
– Она замечательная женщина и твоя большая почитательница, – убеждал Толя.
Петр Ильич сдался, оговорив в качестве условия, что он пойдет в гости в сопровождении обоих близнецов и сидеть за столом будет между ними, дабы никто не надоедал ему разговорами и вообще поменьше обращали на него внимание.
За обедом, все еще чувствуя себя неловко, Петр Ильич едва участвовал в натянутой беседе, сидел с опущенными глазами, боясь, что если станет смотреть на окружающих, смутится еще больше. К счастью, здесь присутствовали давние знакомые – Жедринский и Леля Апухтин, благодаря остроумию которых обед прошел непринужденно.
Но надо же все-таки знакомиться с хозяйкой. И, решив, что лучший способ сблизиться с певицей – попросить ее спеть, Петр Ильич, сам не решаясь заговорить с Александрой Валериановной, передал свою просьбу через Анатолия. Та с радостью согласилась, и он сел за рояль. Братья, все это время не сводившие с него глаз, устроились, точно стража, по обеим сторонам от рояля. Если Панаева и удивилась, то виду не подала и встала чуть поодаль.
– Анатолий, попроси спеть что-нибудь из Моцарта, – тихо обратился Петр Ильич к брату.
– Петр Ильич просит Моцарта, – объявил тот весело.
Александра Валериановна запела арию Памины из «Волшебной флейты». У нее был чудесный голос, которым она в совершенстве владела. Петр Ильич был покорен. Когда ария закончилась, он опустил руки на колени и восхищено вздохнул:
– Как хорошо! – и обратился к другому брату: – Модест, попроси спеть что-нибудь еще.
Оба близнеца с сияющими лицами, явно наслаждаясь происходящим, хором обратились к хозяйке:
– Ему нравится, и он просит спеть еще что-нибудь.
Польщенная похвалой Панаева спела арию из «Дон Жуана», а потом – арию из «Сомнамбулы», которую Петр Ильич любил в ранней молодости, и несколько его романсов. Все больше очаровываясь ее талантом, он постепенно забыл про свое смущение, оживился, повеселел и, наконец, смог нормально общаться с хозяйкой. Она, в свою очередь, заулыбалась и облегченно вздохнула. Александра Валериановна оказалась милой интересной девушкой – умной, тактичной, с прекрасным вкусом. И почему он не может никогда нормально знакомиться с людьми без таких вот долгих привыканий? Он частенько сожалел об этой своей особенности, пытался бороться с ней, но безуспешно.
***
Петр Ильич разбирал свою корреспонденцию, когда вошел швейцар – дела Анатолия, у которого он остановился в Петербурге, шли в гору и он устроился как зажиточный барин.
– Вас просит какая-то дама, Петр Ильич. Называться отказывается, но приходила еще вчера и бродила, поджидая вас, около подъезда.
Сразу возникло подозрение, что это Антонина, и захотелось немедленно сбежать. Но Петр Ильич подавил малодушный порыв – лучше уж выяснить все сразу до конца – и вошел в кабинет брата, где ждала посетительница.
Предчувствие не подвело. Едва он появился в кабинете, Антонина, выглядевшая вполне цветуще, бросилась ему на шею и затараторила:
– Петичка, как я по тебе соскучилась! Я так тебя люблю… жить без тебя не могу… На любые условия согласна, лишь бы быть вместе…
И так далее, и так далее, не замолкая ни на секунду. На что бы она ни рассчитывала подобным поведением, Петр Ильич почувствовал только досаду, раздражение и отвращение. Он отцепил ее от себя и, заставив сесть в кресло, попытался воззвать к здравому смыслу:
– Я знаю, что очень виноват перед тобой. Я желаю тебе всяческого благополучия, но никакой совместной жизни быть не может. Пойми это, наконец!
Она тут же ударилась в слезы:
– Это все родственники твои, я знаю! Они меня ненавидят и настроили тебя против меня!
– Нина… – устало попытался возразить Петр Ильич, но она уже перескочила на другую тему:
– Я ходила смотреть твоего «Евгения Онегина». Он чудесен, Петичка, твоя музыка гениальна!
Петр Ильич растерялся от столь резкого перехода, а Антонина уже опять перешла к слезам и уверениям в любви. Он просто не знал, что делать и как прекратить эту невыносимую сцену. Пытался убедить, что никакие просьбы не заставят его жить с ней вместе – пусть она просит о чем угодно, но не об этом. И даже вручил ей сто рублей на обратную поездку в Москву.
После этого Антонина вдруг прекратила истерику, повеселела и принялась рассказывать о мужчинах, которые были влюблены в нее, в заключение высказав желание повидаться с Модестом и Анатолием. Когда близнецы явились – причем у Толи было выражение лица, будто он серьезно обдумывает, а не задушить ли ее голыми руками – Антонина немедленно поспешила навстречу, осыпала нежностями и уверениями в любви, будто не она несколько минут назад обвиняла их во всех смертных грехах. Близнецы переглянулись с недоумением, не зная как реагировать, но Антонина точно и не замечала всеобщей растерянности. На напоминание о разводе она рассмеялась:
– Какой развод? Я не хочу с тобой расставаться. Признай, ты ведь любишь меня в глубине души и рано или поздно вернешься ко мне. Я дождусь.
– В самом деле? – Анатолий скептически приподнял брови. – Зачем же подсылали к нам зимой господина предлагать условия развода?
– Какого господина? – Антонина недоуменно нахмурилась, а на подробное описание внешности беспечно отмахнулась: – Ах, этот! Да он просто подлый интриган. Я и не думала никуда его посылать. Просто он влюблен в меня и решил все устроить за моей спиной.
Наконец, ко всеобщему облегчению, Антонина распрощалась и ушла. Петр Ильич в отчаянии провел рукой по лицу и без сил опустился в кресло. Нет, развода тут явно ждать не приходится. Как же убедить ее, чтобы она оставила свои наивные надежды и перестала докучать ему?
Несколько дней спустя Петр Ильич столкнулся с Антониной, прогуливавшейся возле его дома.
– Что ты здесь делаешь опять? – воскликнул он возмущенно, не потрудившись поздороваться.
– Не беспокойся, Петичка, я просто гуляю, – невинно ответила она. – Я живу в этом доме.
Петр Ильич на мгновение остолбенел от подобной новости. Неужели она никогда от него не отстанет?
– Прошу тебя, Антонина, уезжай в Москву. И напрасно ты ищешь здесь свиданий со мной – у меня нет на это времени.
– Я не могу жить вдали от тебя и в Москву уеду только вместе с тобой.
Петр Ильич едва не застонал от отчаяния и бессилия. И поспешил побыстрее скрыться. А вечером получил от Антонины длинное, бестолковое письмо с новыми уверениями в вечной любви. Жизнь в Петербурге была окончательно отравлена: теперь приходилось все время прятаться от преследовавшей его Антонины. И он уехал в Москву раньше, чем собирался. В результате резко ухудшилось самочувствие, появилась слабость и нервная боль в ногах.
Эпопея на этом не закончилась. В последний день его пребывания в Москве, Антонина вдруг появилась в его квартире – да не одна, а со своей сестрой. Начала она опять с любовных излияний, но Петр Ильич, на этот раз сразу начавший злиться и горячиться, пресек их:
– Пойми же, наконец, никогда, ни за что, ни при каких условиях я не буду жить с тобой. Ни за что на свете!
Антонина на мгновение замолчала – то ли ошеломленная страстностью и убежденностью его тона, то ли еще почему – а потом вдруг резко приняла деловой тон:
– Хорошо. В таком случае я хочу капитализировать свою пенсию. У тебя же есть друг богатый. Точнее подруга, – она многозначительно прищурилась.
Петру Ильичу стоило громадных усилий остаться спокойным при этом намеке на Надежду Филаретовну. И он сквозь зубы процедил:
– Сколько ты хочешь?
– Пятнадцать тысяч, – спокойно заявила Антонина прежним деловым тоном, а на его невольную гримасу пояснила: – Мне нужны эти деньги, чтобы навсегда покинуть Россию. Здесь на меня все странно смотрят, и я не могу устроиться на работу. Я хочу уехать за границу и посвятить свою жизнь музыке.
– У меня нет таких денег, – возразил Петр Ильич, – но я рад наконец узнать, что тебе нужно.
– Ты ужасный человек, – в голосе Антонины опять зазвенели слезы. – Только камень мог остаться равнодушным тогда в Петербурге!
– Пусть так, – Петр Ильич решительно оборвал ее дальнейшие упреки. – Но кроме установленной пенсии, я могу только иногда выдавать тебе экстраординарные субсидии. Можешь обращаться, если нужна будет помощь. Крупную сумму могу обещать только в случае развода.
– Никакого развода быть не может!
– Значит, и говорить больше не о чем!
Наконец, Антонина, поняв, что ничего не добьется, распрощалась – на этот раз без душещипательных сцен – и ушла в сопровождении все это время молчавшей сестры.
Когда же это закончится? Неужели всю жизнь теперь он будет расплачиваться за свой необдуманный поступок?
***
Семейство сестры Петр Ильич нашел недавно оправившимся после болезни: дети все еще были худы и бледны. Саша выглядела изможденной, что, впрочем, неудивительно – наверняка сбилась с ног, заботясь о них. Да и в обычное время она так приучила всех домашних, что и гвоздя нельзя было вколотить без ее вмешательства. Зиму Александра провела в Петербурге, чтобы повеселить учившихся там старших дочерей. Ее здоровье с каждым годом ухудшалось, и вся семья желала, чтобы она отправилась на серьезное лечение в Карлсбад. Но Саша не могла со спокойным сердцем надолго оставить дом без присмотра. Леченье не принесло бы никакой пользы, если бы она ежеминутно терзалась тревогой об оставленных детях.
Если не считать этого, в Каменке все обстояло благополучно. Старшая племянница Таня, в последнее время беспокоившая Петра Ильича своими капризными выходками, на этот раз вела себя безупречно. Юрий, или как его звали в семье Ука, рос необыкновенно кротким и покорным мальчиком, всегда веселым, ласковым и милым. Он обладал необычайно живым воображением и постоянно рассказывал о каких-то невероятных приключениях и подвигах, искренне веря в то, что это действительно было. А когда над его рассказами смеялись, сохранял серьезный невозмутимый вид. Боб делал успехи в музыке, из-за чего и выделял его Петр Ильич среди остальных детей, а кроме того, обнаружил замечательные способности к рисованию. Он не любил обычных мальчишеских игр и все свободное время посвящал рисованию, музыке и цветам.
Каменка радовала чудесной погодой, лунными ночами, поющими соловьями и цветущими ландышами. Здесь Петр Ильич по-настоящему отдыхал душой. Для него сделали радикальную перестройку флигеля, снабдили всем необходимым, и ни за что не хотели брать с него денег.
Воспользовавшись возможностью, он отправил Алешу заниматься в местную школу. На следующий год ему предстояло проходить воинскую службу, срок которой сокращался для тех, кто выдержит экзамен. Сама мысль о том, чтобы надолго остаться без слуги, который знал все его привычки, нужды и вкусы, к которому Петр Ильич привязался как к сыну, ужасала. Но воинскую повинность не отменишь, и он исполнился решимости хотя бы сократить ее, насколько возможно.
В конце мая приехал Ипполит. Вместе с дядей своей жены Кривошеиным они пустились в какую-то аферу, увенчавшуюся успехом. На долю Ипполита досталось пятьдесят тысяч, что было весьма удачно, поскольку служба в Обществе пароходства не слишком хорошо оплачивалась. А он как раз недавно, отчаявшись дождаться собственных детей, удочерил девочку из Воспитательного дома, что добавляло расходов семье. В общем, все сложилось в высшей степени счастливо, вот только неопытный в денежных делах Ипполит не представлял, что делать с такой суммой, и приехал посоветоваться с Левой. В итоге решили, что их возьмет себе Николай Васильевич и купит имение. Таким образом, Ипполит будет получать более четырех тысяч дохода.
Уладив дела, он остался погостить и отдохнуть у сестры, на следующей день напросившись с Петром Ильичом на прогулку в Тарапун. Брать его с собой не хотелось, ведь на природе так хорошо обдумывать музыкальные темы, а для этого необходимо одиночество. Но и отказать брату Петр Ильич не мог. Пришлось пожертвовать удовольствием от прогулки, чтобы не обижать его. Поначалу Ипполит был весел, много болтал и восхищался природой. Но вскоре он, не привыкший к длительной ходьбе, устал, а когда они пришли в Тарапун, слег с лихорадкой. У него начался озноб, болело горло и голова. Впрочем, ничего серьезного, но мнительный Ипполит испугался и спросил суетившуюся вокруг него сестру:
– Санечка, не послать ли за Соней? Неравно что-нибудь случится?
Чем расстроил Сашу и немного рассердил Петра Ильича. Ну, взрослый ведь человек, а ведет себя как дите малое. Вот Вера, у которой сильно болело ухо, и то проявила больше терпения и самообладания.
Вечером Петр Ильич прогуливался по садику перед сном. Уже совсем стемнело, и колышущиеся на ветру ветви создавали таинственные тени в лунном свете. Тишина и покой. Как вдруг сзади раздались легкие шаги. Живо повернувшись, Петр Ильич обнаружил идущую к нему Таню. На ней было простое домашнее платье, а выражение лица такое, словно она и хочет, и боится что-то сделать.
– Что-то случилось? – сразу встревожился Петр Ильич – неужели Саше опять стало хуже?
Таня помотала головой и тихо ответила:
– Нет. Я просто хотела поговорить.
Петр Ильич удивленно вскинул брови и кивнул: слушаю. Танино хорошее поведение, порадовавшее его по приезде в Каменку, продлилось недолго. Она вновь стала капризной и неуравновешенной: то фонтанировала буйным весельем, то впадала в черную меланхолию. Могла целый день проваляться в постели, жалуясь, что у нее ни на что нет сил. Или изводила мать жалобами на плохое самочувствие. Вольно вела себя с молодыми людьми – ее заигрывания выходили за все возможные рамки приличий. И вот теперь приходит поговорить – такая печальная и серьезная.
Таня начала издалека – болтала о чем-то неважном и не имеющем смысла, пока с надрывом в голосе не заявила:
– Меня все ненавидят… все дяди… а дядя Толя особенно! Может, я и заслуживаю порой порицания, но разве я виновата в том, что такой родилась? Я бы и хотела быть другой, но не могу! Правда не могу!
Сначала просто всхлипывавшая, под конец своей речи Таня разразилась горьким плачем. Петру Ильичу стало невыносимо жаль ее. Бедная девочка, будучи умна, прекрасно сознавала, чем вызывает неудовольствие окружающих. Но ей не хватало ни воли, ни понимания, как взяться за дело.
– Ну, что ты, Танюша, – Петр Ильич ласково обнял племянницу, и она доверчиво прижалась к его груди, продолжая всхлипывать. – Никто тебя не ненавидит. Ты красивая, умная, добрая девочка. Бывает, что ведешь себя не очень хорошо и родные сердятся на тебя, но это не значит, что они тебя не любят. Стоит приложить чуть-чуть усилий, и ты избавишься от этих недостатков.
Таня молча кивала, соглашаясь. Наконец, она отстранилась, вытерла глаза и улыбнулась:
– Спасибо, дядя Петя. Я тебя очень-очень люблю.
С этими словами Таня быстро поцеловала его в щеку и упорхнула совершенно счастливая. Петр Ильич вздохнул. Надолго ли хватит ее решимости исправиться? И какая судьба ее ждет? В сущности, Саша с Левой сами виноваты – они до невозможности избаловали старшую дочь, и вот – плоды.
***
Сражение за литургию увенчалось победой Юргенсона, о чем издатель немедленно с гордостью сообщил Петру Ильичу. А вскоре тот прочитал в «Киевлянине», что его многострадальное произведение несколько раз пели в Киеве в Университетской церкви. Некий Вирибус Унитис писал: «Литургия написана в выдержанном церковном стиле, не отзывается итальянщиной и является вещью весьма незаурядной». Статья невыразимо порадовала Петра Ильича – он-то уж начал бояться, что его литургия никогда не попадет в церковь. А вот проникла и даже весьма понравилась!
Летом у Давыдовых появилась новая гувернантка – на этот раз француженка – мадемуазель Готье. Ее пригласили специально для младшей дочери Натальи, но, увы – ученица с первой же секунды свою наставницу возненавидела. Эта антипатия росла с каждым днем, и, пока ситуация не изменится, Саша никак не могла уехать. А ведь гувернантку пригласили именно для того, чтобы освободить ее и дать возможность отправится в Карлсбад.
Из Петербурга сообщали о серьезной болезни отца, что в его возрасте – Илье Петровичу исполнилось восемьдесят четыре года – вызывало большую тревогу. Хотя кризис прошел, вряд ли стоило рассчитывать на прочное улучшение. Саша, конечно же, захотела навестить его, а заодно отвезти Анну в институт. В итоге решили и Тасю отдать в институт вместе со старшей сестрой, поскольку этот ребенок не уживался ни с какими гувернантками, а учиться все-таки надо.
Дождавшись их отъезда и закончив третье действие «Орлеанской девы», Петр Ильич уехал в Симаки – имение Надежды Филаретовны поблизости от Браилова, куда она давно его звала.