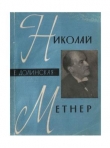Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
Глава 13. Каменка
Первым, что увидел Петр Ильич в Симаках, был старый-престарый, но милый и уютный домик. Вокруг раскинулся густой сад с вековыми дубами и липами, страшно запущенный, но именно потому и восхитительный. В конце сада протекала речка. Кругом тишина и чистый воздух. Дом состоял из залы, огромного кабинета, столовой, спальни и комнаты прислуги – все как нельзя более подходило для работы.
Чем дальше «Орлеанская дева» продвигалась к концу, тем нетерпеливее становился Петр Ильич – непреодолимо хотелось, наконец, отдохнуть. Но вот парадокс: стоило закончить оперу, тысяча разных мыслей и тревог, будто обрадовавшись, что он теперь свободен, одолела его. И пошатнувшееся здоровье сестры, и частые головные боли, на которые жаловалась Надежда Филаретовна, и служебные обстоятельства Анатолия, и некоторые неудобства в положении Модеста в доме Конради, и Тася, которая никак не могла привыкнуть к жизни в институте, и судьба оперы, которая Бог знает когда и как состоится – все нахлынуло разом.
В попытке успокоить расшалившиеся нервы Петр Ильич совершил пешую прогулку в далекий лес, где еще ни разу не был. Когда он уже приближался к нему, навстречу выехал экипаж, в котором сидела фон Мекк с младшей дочерью Милочкой, а следом – еще два экипажа со всем семейством. Надежда Филаретовна жила в это время в соседнем Браилове. Обычно Петр Ильич гулял в лесу, когда она обедала. Но в тот раз случилось так, что он вышел раньше, а она задержалась на прогулке. Петр Ильич растерянно застыл, чувствуя себя страшно неловко. Он едва нашел в себе силы учтиво снять шляпу и поклониться. Надежда Филаретовна, казалось, совсем растерялась и не знала, что делать. Они тут же разошлись, но смущение и непонятный стыд долго еще терзали Петра Ильича. Он вдруг задался вопросом, а что думают об их странных отношениях дети Надежды Филаретовны?
На обратном пути Петр Ильич зашел в свой любимый уголок. Симаки могли похвастаться множеством очаровательных мест. Одно из них располагалось на дороге, идущей вдоль заросшего тростником болота параллельно с деревней. Усевшись повыше дороги – около крошечной березовой рощицы у канавы, отделяющей усадьбу от поля, он любовался прелестным пейзажем. Внизу вперемешку с тополями расстилалось село со скромной церковью, а за ним лес. Петр Ильич просидел там около часа, испытывая одно из тех чудных состояний, когда всякие заботы и треволнения куда-то скрываются. Вместо них появлялись самые разнообразные мысли и фантазии. Над головой кружились тучи ласточек, и он задумался: зачем они собираются, не хотят ли уже лететь, куда полетят? Глядя на вековые деревья, пытался определить их возраст.
На следующий день, когда он завтракал на веранде, наслаждаясь свежей прозрачностью утреннего воздуха, Алеша принес телеграмму от Анатолия. Петр Ильич взял ее с нехорошим предчувствием, и оно не обмануло.
«Вследствие неприятностей по службе, выхожу в отставку: очень желал бы поскорее тебя увидеть; здоров».
Что ж такое происходит с Анатолием, что он нигде не может нормально устроиться? И что за глупости – выходить в отставку! Петр Ильич страшно расстроился, отменил свою поездку к Модесту и решил отправиться прямо в Петербург. Как часто случалось в последнее время, он задумался о невидимой руке провидения, столь явно оберегающей его от ударов судьбы. Ведь что с ним было бы, если бы он получил это известие во время работы!
Всю дорогу до Петербурга Петра Ильича терзали беспокойство о брате и неописуемая тоска по покинутым Симакам – поистине блаженному уголку. В ужасном волнении выйдя из поезда, он принялся искать Анатолия или его слугу, но люди проходили, толпа постепенно редела, а он так никого и не увидел. Он растерянно постоял, не зная, что и думать. Ведь он телеграфировал брату о приезде. Что же случилось? Толя заболел? Или его уже арестовали за какое-нибудь политическое дело? Кто знает, что за неприятности у него на службе. В мучительнейшем беспокойстве Петр Ильич ехал на квартиру к брату – воображение уже рисовало самые страшные картины.
Дверь открыл Толин слуга и с недоумением воззрился на гостя:
– Петр Ильич! А мы вас во вторник ждали!
Оказалось, что он просто-напросто напутал даты в своей телеграмме.
Появился удивленный и обрадованный Анатолий, после приветственных объятий потащивший брата в приготовленную для него комнату – отдохнуть с дороги. Но Петр Ильич воспротивился, заявив, что сначала хочет узнать, что стряслось. Они устроились в гостиной, слуга принес чаю, и Анатолий принялся рассказывать:
– Мой прямой начальник Плеве недавно призвал меня к себе и начал кричать в самых резких выражениях. Говорил, что я работаю как гимназист первого класса, что совестно читать мои обвинительные акты… Ужасно грубо все это он высказывал, я уж не говорю о том, что несправедливо. Я не стал ему отвечать, но оставить так просто не мог. И потому решил подать в отставку.
– Твой Плеве, конечно, негодяй, но стоит ли из-за одного негодяя рушить свою карьеру? Может, просто переведешься в другой департамент?
– Не беспокойся, – Анатолий беспечно махнул рукой. – Плеве уже извинился – понял, видно, что нельзя так с людьми обращаться. Да и весь судебный мир Петербурга заступился за меня. Меня здесь все-таки любят, – с забавным выражением самодовольства заявил Анатолий. – Плеве даже поручил мне дело первостепенной важности и сказал, что не сомневается в превосходном исполнении. Так что проблему можно считать улаженной. Извини, если оторвал тебя от дела – но в тот момент мне очень нужно было тебя видеть.
– Ничего страшного – работу я уже закончил. Модю вот только надул: обещал к нему приехать, да не вышло.
– О. Он мне это еще припомнит. Наверняка.
Хотя произнесено это было недовольным тоном, веселое выражение лица не позволяло принять слова всерьез. Петр Ильич усмехнулся – близнецы до сих пор в шутку делили его между собой: кого Петя больше любит, у кого чаще гостит…
Успокоившись за судьбу брата, Петр Ильич зашел к отцу и нашел его здоровым и веселым, но крайне слабым. Он едва мог сделать несколько шагов и с трудом понимал, что ему говорят. Ничего удивительного для его возраста, но все равно грустно.
Воспользовавшись своим пребыванием в Петербурге, Петр Ильич повидался с сестрой и племянницей Натальей, которую привезли учиться в Annen-schule. Однако вместо радости от этого свидания он получил одно беспокойство. Тася, когда ее отвозили в школу, выглядела бесконечно унылой. В первый раз пришлось вернуться обратно, поскольку бедная девочка, хоть и не плакала, но так тряслась, что Александра не смогла ее там оставить. Только к вечеру Тася успокоилась, и на следующий день поехали снова. Петру Ильичу до слез было жаль бедную племянницу: он прекрасно помнил, как сам тосковал, очутившись в Училище правоведения, и как никто понимал ее чувства.
Но вот настал самый страшный момент – Саша покинула Петербург, возвращаясь в Каменку. Тася так плакала и тосковала при расставании с матерью, что сердце разрывалось. Да и Саша вся измучилась, уехала усталая и истерзанная: каково ей было наблюдать за тем, как убивается ее дочь!
Позже, прощаясь с братом, Александра попросила:
– Петруша, ты ведь остаешься пока в Петербурге. Навещай Тасю, поддержи ее. Ей легче будет привыкнуть, если кто из родных будет рядом.
Конечно, Петр Ильич обещал сделать все, что в его силах.
Он навещал племянницу ежедневно, стараясь развлечь ее. Скоро она ободрилась, начала свыкаться с новым положением и даже повеселела. И школа, и начальница Петру Ильичу понравились, и это тоже утешало. Однако, когда он собрался в Москву, выяснилось, что после отъезда матери Тася была только потому относительно весела, что он часто с ней виделся. При прощании с дядей она так рыдала, что тот решился уговаривать Александру забрать дочь домой или хотя бы сделать ее приходящей.
Москва принесла только скуку и разочарование. Нет, поначалу Петр Ильич с радостью встретился с друзьями из музыкального мира. Но скоро понял, как сильно отдалился от них за это время: их образ жизни, их личные интересы и отношения, их пререкания и недоразумения – все это стало так для него чуждо! С одним только Юргенсоном общение по-прежнему радовало. Друг в свойственной ему иронической манере поделился последними новостями:
– Был у меня намедни Римский-Корсаков. Пришел узнать, можно ли на меня рассчитывать или надо отложить попечение временно или совсем. Я ему и рассказал, как я понимаю: что я-де согласен саночки возить, но с условием, чтобы иногда и кататься, ибо смешно будет, если я буду издавать тяжеловесные квартеты с убытком в нескольких сот рублей, а вещи, на которые есть сбыт, достанутся Бесселю. Он согласился с верностью моих доводов, но свалил тогдашнюю неудачу на тебя! Надо же было souffre-douleur[26]26
Козел отпущения (фр.)
[Закрыть] найти! Словом, он припер меня к стене и вколотил в мой на минуту разинутый рот четыре фортепианных пьесы и, покуда я ими давился, втиснул туда же пятую. Гонорар он пожелал иметь твой! Я отклонил это тем, что сказал: «У нас особые условия с Чайковским, у нас назначение гонорара идет как по маслу». Он нашел, наконец, мерилу: «По примеру прежних лет, как за шесть романсов, кажется, сто тридцать рублей?» Когда я напомнил, что всего сто, то он поспешно согласился. «Итак, – говорю, – там за шесть – сто рублей, стало быть, тут за четыре – шестьдесят рублей». – «Маловато! – говорит Римский. – Я полагал бы восемьдесят рублей». – «Извольте», – говорю. «И знаете, – говорит ласково Корсаков, – я поищу у себя пятую пьеску, чтобы было сто рублей, с одной стороны, для округления цифры, а с другой – все одной пьесой больше в печати»!!!
– Тяжела у тебя жизнь, братец, как посмотрю! – смеялся Петр Ильич.
Юргенсон усмехнулся:
– А давеча приходил Ланин в контору. Сидел от семи вечера до десяти, я все время писал в книгах своих, он болтал решительно обо всем. Кончил он займом. Я ему сказал в мягкой форме, что я, как человек со скромными средствами и большим семейством, не в состоянии дать взаймы на совершенно неопределенные сроки. А он: «Ну так – так дай». И я дал! – с некоторым недоумением собственным поступком заключил Юргенсон.
Петр Ильич хохотал уже в голос.
– Тебе смешно, – с деланной обидой заметил Петр Иванович, хотя видно было, что ему и самому весело. – А мне что делать? Я ж так разорюсь в конец!
– Что бы мы все без тебя делали, друг мой! И я в первую очередь! – с улыбкой, но и искренней благодарностью заметил Петр Ильич.
Он действительно считал, что ему невероятно повезло с издателем. Петр Иванович не просто издавал все его произведения – зачастую в убыток себе – но и заботился о нем, как о ребенке. Вел все его юридические и финансовые дела: получал и высылал поспектакльную плату, оформлял счета, пересылал гонорары и корреспонденцию, в случае нужды одалживал деньги, выписывал газеты, собирал и передавал появлявшиеся в периодической печати рецензии на произведения Петра Ильича. И его шутливая фраза Римскому-Корсакову насчет того, что «у нас с Чайковским особые условия» была совершеннейшей правдой – больше ни одному композитору Юргенсон не платил таких крупных гонораров.
– Вот уж тебе-то не стоит чувствовать себя обязанным, – отмахнулся Петр Иванович. – Ты – солнце, освещающее мою фирму.
Петр Ильич даже немножко опешил от такого заявления.
Они долго еще проговорили, делясь последними новостями, обсуждая деловые вопросы. Петр Ильич остался на ужин, с удовольствием пообщавшись с детьми своего друга, которые приветствовали дорогого гостя восторженными криками.
***
Гранкино – имение Конради, где жил Модест со своим воспитанником – располагалось посреди бесконечной степи. Но осенью и степь имеет много прелести. Модест и Коля не ждали приезда Петра Ильича: когда он вошел, они занимались в кабинете, сидя за овальным столом. Повернувшись на шаги и увидев брата, Модест вскрикнул от удивления и в следующее мгновение бросился его обнимать. Его сразу же сменил Коля, со счастливой мордашкой повисший у Петра Ильича на шее.
– Ты как здесь оказался? – принялся расспрашивать Модест. – Я думал, ты телеграмму пришлешь. И все удивлялся – куда ты пропал?
– Извини, Модинька, – покаялся Петр Ильич, – замотался в столичной суматохе.
В Гранкине он чувствовал себя странно. Сначала преследовало какое-то недовольство собою, постоянная сонливость, пустота и скука. Потом он понял, что не хватает работы. Но, взявшись писать Второй концерт для фортепиано, Петр Ильич обнаружил, что и работа идет с напряжением, без большого расположения. Оставалось только много читать, дабы занять голову.
Заехав в Москву, чтобы закончить с корректурами, Петр Ильич отправился в Петербург. Столица встретила осенней серостью, промозглостью и пробирающими до костей ветрами. Зато проблемы со службой у Анатолия закончились, и он вернулся к своим обычным обязанностям. А здоровье отца значительно поправилось.
Петр Ильич навестил Тасю и обнаружил, что она вполне весела и довольна жизнью: к разлуке с домом она привыкла, ее баловали и развлекали по праздникам многочисленные дяди и тетки. К тому же она ожидала в скором времени приезда в столицу матери и сестры Тани. Училась Тася хорошо. Вот только все больше обнаруживала неровный, до странности обидчивый характер, из-за которого совершенно рассорилась с подругой матери, на попечении которой находилась. Да так рассорилась, что стала ненавидеть ее – пришлось перевести ее к одной из двоюродных теток. Узнав об этой истории, Петр Ильич пытался вразумить племянницу:
– Как же так, Тася? Это ведь вероломство по отношению к Норовым. Еще в сентябре ты так горячо ее любила! И вдруг из-за сущего пустяка устраиваешь сцены.
Тася неожиданно расплакалась и начала горячо защищаться:
– Ты не знаешь, дядя Петя, этой женщины! Она такая злая – уверяю тебя! Я не могла там оставаться.
Петр Ильич опешил от подобного взрыва ненависти к когда-то любимому другу. Странный ребенок Тася – хорошие качества у нее так перемешались с капризностью и даже злобой, что просто встаешь в тупик.
***
Зима в Париже выдалась необычайно снежная, так что он стал похож на Петербург. С той лишь разницей, что в России умели снег убирать, а здесь целые пирамиды торчали по улицам, едва-едва можно было проехать – и то шагом. Петр Ильич вел праздный образ жизни: бродил по улицам, ходил в музеи, театры и на концерты. В общем, жил сибаритом.
На следующий день по прибытии в Париж он завтракал в небольшом уютном ресторанчике на берегу Сены, откуда открывался чудесный вид на Нотр-Дам. Попивая кофе, он листал «Gaulois», как вдруг наткнулся на заметку о покушении на жизнь царя в Москве. Новость заставила забыть и про еду, и про наслаждение пейзажем. Газета сообщала, что заговорщики устроили на железной дороге взрыв. К счастью, первым шел свитский поезд, и государь остался жив. Петр Ильич был возмущен до глубины души. В ужас приводила мысль, что бессмысленное революционерство уже не первый год подтачивает силы России. Французские журналисты замечали, что обращение государя к родителям, которое он сделал в своей речи, не есть средство искоренить зло. И Петр Ильич был с ними абсолютно согласен. Лучше было бы собрать выборных со всей России и вместе с представителями народа обсудить меры к пресечению. Неужели не понимают эти люди, что подобные революционные выступления отдаляют реформы и возбуждают реакцию? Кучка убийц воображала, что ведет за собой Россию. Как же все это отвратительно!
Гуляя после завтрака по знакомым и любимым парижским улицам, Петр Ильич неожиданно нос к носу столкнулся с Николаем Дмитриевичем Кондратьевым. Сразу бросилась в глаза его невероятная худоба – он давно был тяжело болен. Однако его неистребимая жизнерадостность никуда не делась. Завидев друга, Николай Дмитриевич весело воскликнул:
– Петр Ильич! Какая встреча! Давно ли в Париже?
– Только вчера приехал.
– А я так уж целый месяц здесь. Не хочешь ли поселиться со мной? Я нашел чудесный отель – тихий, уютный, недорогой к тому же.
– Благодарю за предложение, но меня вполне устраивает мой.
Петр Ильич не стал говорить, что как бы ни был рад видеть друга, жить он хотел отдельно. С годами он все больше сторонился людей – даже близко знакомых. Одна мысль о том, что кто-то будет вторгаться в установленный порядок дня, вызывала отторжение.
Закончив вчерне концерт, он уехал в Рим, где его ждал Модест со своим воспитанником. Петр Ильич уже начинал проклинать свою скитальческую жизнь и жалеть, что нигде не устраивается надолго. Путешествия все больше утомляли, хотелось найти хоть какой-нибудь постоянный уголок.
Однако тоска и плохое настроение исчезли без следа, стоило прибыть в Рим. Что за солнце! Что за небо! Что за теплота! Модест с Колей были очарованы Вечным городом, и Петр Ильич отказался от первоначальной идеи уговорить их переехать.
Из окон квартиры, приготовленной братом, открывался великолепный вид – весь Рим как на ладони. Поселившись сначала в северной комнате, Петр Ильич сразу понял, что жить там невозможно. Она выходила на двор казармы, где целыми днями проводились упражнения солдат: пальба, сигналы и прочий шум. Так что он перебрался поближе к Модесту – в комнату с камином.
На католическое Рождество братья слушали торжественную мессу в соборе святого Петра. Колоссальное величие собора потрясло Петра Ильича. Народу собралось много, но в сравнении с размерами храма громадная толпа казалась ничтожной кучкой. В бесчисленных приделах служились глухие мессы, священники с дарами, сопровождаемые небольшой процессией, беспрестанно переходили по разным направлениям. Все это было полно движения и живописно. И все-таки в тысячу раз больше любил Петр Ильич православную литургию, где все присутствующие в храме видят и слышат одно и то же, где весь приход предстоит, а не снует из угла в угол. Она менее живописна, но гораздо трогательнее и торжественнее.
Шум и суета Рима мешала усидчиво заниматься – Петр Ильич больше гулял по улицам, чем сидел за столом. Зато в Италии всегда можно услышать прелестные народные песни. Он не уставал восхищаться красотой итальянских голосов. Уличные певцы давали бездну пищи для вдохновения, и, собрав слышанные от них народные мелодии, он написал «Итальянское каприччио».
Модест, успевший неплохо изучить Рим, каждый день водил брата осматривать те или иные достопримечательности. Однажды они поехали на Via Appia – древнюю дорогу в Неаполь. По обеим сторонам возвышались саркофаги, мавзолеи, надгробные плиты всевозможных форм. Когда-то здесь кипела жизнь, двигались толпы людей, богатые колесницы с римскими патрициями, носилки, пешеходы… А теперь дорога пустынна и безмолвна, как те могилы, что стоят вдоль ее. Братья прошли две версты, не встретив ни единого живого существа – туристов, и тех не было. В подобные моменты с особой остротой ощущаешь бренность и краткость человеческой жизни и невольно задумываешься о Вечности.
Они побывали в музеях Капитолия, Палатинском саду и на развалинах дворца Цезарей, заинтересовавшего Петра Ильича своей историей. Посетили Ватикан, где осмотрели за раз Пинакотеку, Ложи, Станцы и Сикстинскую капеллу. Не особенно увлекавшийся живописью и не разделявший энтузиазма Модеста, в этот раз Петр Ильич понял, сколь важно долго и пристально всматриваться в картину. Он сидел перед «Преображением» Рафаэля и поначалу не видел в картине ничего особенного. Но постепенно он начал понимать выражения лиц каждого из Апостолов и чем пристальнее вглядывался, тем больше проникался прелестью общего и деталей.
Сильное впечатление произвел на него Микеланджело. Долго Петр Ильич созерцал его скульптуру «Моисей». Пророк был изображен встающим и обратившим голову в ту сторону, где приносится жертва Ваалу. Лицо его было гневно и грозно, фигура – величественна и повелительна. Чувствовалось, что стоит ему встать и произнести слово – и заблуждающаяся толпа встанет перед ним на колени. Грандиозная статуя.
Но только он начал действительно наслаждаться, как появился Модест и напомнил:
– Пошли: скоро три часа, а надо еще в Сикстинскую капеллу зайти.
Оглушенный обилием разнообразных впечатлений Петр Ильич решил, что не смог бы долго жить в Риме. В нем слишком много интереса. Некогда помечтать, некогда углубиться в себя, и в итоге чувствуешь себя вечно усталым.
Беспечальное существование отравили тревожные вести с родины. Анатолий писал, что отец тяжело заболел тифом. В течение трех дней он был безнадежен, лежал в сильнейшем жару, метался, никого не узнавал, не мог говорить. Его считали столь близким к концу, что не стали телеграфировать Петру Ильичу с Модестом о болезни, считая, что они все равно в живых его не застанут. Однако удивительно сильная натура Ильи Петровича взяла свое – ему стало лучше. Поскольку с тех пор никакой телеграммы не последовало, Петр Ильич решил, что отец выздоравливает. Но страшно подумать, какие следы оставит эта болезнь в его-то годы! Жаль было и бедняжку Александру, оказавшуюся с больной катаром желудка Таней у постели умирающего отца. Да и сама она страдала от камней в почках. Боли были так сильны, что для обеих созвали консилиум из трех докторов, которые посоветовали отправиться на юг, как только позволит состояние здоровья.
Петр Ильич совсем было успокоился насчет отца, как вдруг пришла телеграмма от Левы, сообщавшая, что ему стало гораздо хуже. Посовещавшись, они с Модестом решили вернуться на родину проводить отца в последний путь. Но уже на следующий день получили еще одну телеграмму, на этот раз от Анатолия:
«Папа умер. Спокойно, без больших страданий. Можешь не приезжать. Александра и Таня чувствуют себя хорошо».
А еще несколько дней спустя от Толи пришло уже подробное письмо с описанием болезни и смерти отца:
«Папаше стало лучше, и мы было подумали, что самое страшное позади, но вскоре он впал в тихий бред. Доктора говорили, что это результат разжижения мозга. Мы все были рядом. Девятого января, причастившись Святых Таин, в семь часов вечера, на руках у Саши и Лизаветы Михайловны он тихо скончался. Во время агонии в его глазах появилось сознание. Когда Саша, читавшая ему отходные молитвы, водила его рукой, чтобы он сам перекрестил себя, папаша помогал этому движению остатком своих сил. У него было сознание смерти, но покойное и светлое».
Прочитав этот отчет, Петр Ильич горько заплакал. Слезы, пролитые по поводу исчезновения из этого мира чистого и одаренного ангельской душой человека, имели на него благотворное влияние: он почувствовал просветление и успокоение. Мирное отшествие к вечному покою восьмидесятипятилетнего старца не произвело в душе нежного любившего его сына глубокого потрясения. Лишь горько было сознавать, что уж больше никогда он не увидит его.
***
В конце января Юргенсон написал, что сюита игралась в Москве с большим успехом. Петр Ильич обрадовался бы этому, если бы следом друг не передал слова Рубинштейна, будто ничего труднее этой сюиты нет. А ведь он старался писать легко и просто, и тут вдруг оказывается, что чем больше он старается, тем хуже становится. В ответ на его сетования Петр Иванович заявил, что он неправильно понял – сюита Рубинтшейну понравилась, недоволен он был скорее оркестром.
Колонн сообщал об успехе Четвертой симфонии в Шатле. Жаль, не удалось послушать ее. Петр Ильич уже предвкушал наслаждение, которое мог бы получить, присутствуя при исполнении никем не узнанный. Но ничего не поделаешь.
Его произведения определенно начали завоевывать признание за границей. Кроме Четвертой симфонии в Париже исполняли Третий квартет и Серенаду для скрипки и фортепиано, в Нью-Йорке – Первую сюиту, в Берлине – Первый концерт для фортепиано. И повсюду с выдающимся успехом. Петр Ильич мог поздравить себя с тем, что русская музыка все-таки пробилась на европейские – и даже американские – сцены.
А тем временем в Риме наступило время карнавала. Первые несколько дней по улицам двигались несметные толпы людей, вооруженных мучнистыми шариками, которыми закидывали друг друга. С балконов тоже шел обстрел проходивших мимо. Едва выйдя из дома, Петр Ильич оказался осыпан мукой с ног до головы. Некоторые шарики били ужасно больно, и приходилось надевать специальную маску, чтобы защитить хотя бы лицо. При этом стоял неописуемый крик, хохот, шум.
Когда пробило пять часов, раздались пушечные выстрелы и публика распределилась по обеим сторонам улицы. Послышался топот – по дороге понеслись нарочно взбешенные лошади. Что за удовольствие итальянцы находили в этом, Петр Ильич не мог понять. Вдруг одна из лошадей сбила с ног полицейского, едва не растоптав его – он чудом остался жив. Испытанного в этот момент ужаса Петру Ильичу с лихвой хватило, чтобы невзлюбить подобные празднества.
Наконец, к концу недели беснования с мучными шариками и лошадьми прекратились. По городу ходили маски, стараясь получить звание лучшей – таковым полагались премии. По вечерам устраивались красивые иллюминации. Только теперь Петр Ильич начал получать от праздника удовольствие.
В феврале братья расстались – Петр Ильич вернулся на родину, а Модест с Колей уехали в Неаполь. В день отъезда все чувствовали себя подавленными. Коля суетливо бегал от одного к другому, Алеша сердился на него, Модест был молчалив и серьезен, Петр Ильич сел писать Анатолию, чтобы отвлечься и утешить себя мыслью, что скоро свидится с другим братом. Покидать Италию не хотелось, хотя он так и не смог по-настоящему полюбить Рим. Возвращение на родину страшило из-за обострившейся политической обстановки. Удручало второе покушение на государя. Что-то будет дальше?
***
Выйдя из вагона, Петр Ильич зябко поежился, кутаясь в пальто. В Петербурге царила совершенная зима, резко контрастирующая с Римом. В толпе приезжающих и встречающих он с трудом нашел Анатолия, поразившего мрачной физиономией.
– Что опять случилось? – обреченно спросил Петр Ильич.
– Мне не нравится, как ко мне здесь относятся, – заявил Толя. – И я перевожусь в Москву.
Петр Ильич сокрушенно покачал головой. Он бы порадовался этой перемене, да с Толиным характером невозможно поручиться, что он в любом другом месте не найдет себе недоброжелателей.
В фиакре Анатолий принялся рассказывать последние новости:
– Саша с Верой и Тасей уехали в Каменку.
– Почему с Тасей? – удивился Петр Ильич. – Разве она не остается в институте?
– Она оказалась столь способной, что перегнала всех подруг, – усмехнулся Анатолий, – и ей совершенно нечего делать в классе. Так что вернется в институт только осенью. Таня зато осталась здесь – лечиться.
– Как их здоровье? – встревоженно спросил Петр Ильич.
Анатолий грустно покачал головой:
– Саша худа и бледна, очень слаба – ее едва можно узнать. Тут, конечно, добавились ее бдения у постели папочки. Надеюсь, дома она поправится. Таня немного лучше себя чувствует – ну, да сам увидишь. Саша просила, чтобы ты к началу апреля отвез ее в Каменку.
Петр Ильич задумчиво кивнул – конечно, он позаботится о Тане. Да и хотелось оказаться, наконец, в Каменке. Петр Ильич страшно соскучился по ним всем. Но здоровье сестры и племянницы беспокоило с каждым днем все больше. Саше необходимо полечиться на водах. Вот только как оторвать ее от семьи?
– У Тани новый жених появился, – отвлек его Анатолий от мрачных размышлений. – Некий Кашкаров. Правда, он староват, некрасив, но зато как ее любит! Она вроде бы тоже с симпатией к нему относится.
– А что Саша с Левой? – заинтересовался Петр Ильич.
– Они считают его не слишком подходящим – из-за возраста. Но окончательное решение отложили на год. Хотят узнать его, узнать прочно ли чувство симпатии, которое Таня питает к нему. Да и понять его характер и степень любви к Тане.
Петр Ильич согласно покивал – разумное решение. Сам он почему-то почувствовал предубеждение против этого кандидата. Не хотелось, чтобы красавица и умница Танюша выходила замуж за старика. Она легко может найти более подходящего по возрасту жениха.
В тот же день Петр Ильич навестил мачеху. Невыразимо грустно было видеть столь знакомую квартиру без хозяина. Лизавету Михайловну он нашел погруженной в глубокое горе. А ведь ее жизнь – нестарой еще женщины – с восьмидесятичетырехлетним стариком была тяжела и утомительна. Она должна была бы чувствовать облегчение, а она искренне оплакивала свою потерю. Только женщины умеют так любить!
От мачехи Петр Ильич поехал на могилу отца. Погода стояла светлая и солнечная, но холодная. На могиле пока возвышался только деревянный крест, но в скором времени братья собирались поставить уже заказанный памятник. Горько было от того, что не был с отцом в последние минуты его жизни, не смог попрощаться. Грустно от мысли, что больше никогда не увидит его. И все же Илья Петрович прожил долгую и счастливую жизнь, хоть и сопряженную с трудностями, и мирно отошел в мир иной в окружении семьи – жены, детей и внуков.
Следующий день неожиданно оказался заполнен суматошной беготней. Сначала пришлось бежать к брату Николаю, чтобы сообщить, что Петр Ильич ошибся, обещав быть у него – на тот день была назначена встреча с Конради. Его встретили упреками за то, что давно не являлся. Оттуда – к кузине Амалии, которая страшно обижалась и со слезами на глазах упрекала в нежелании ее знать. Потом Петр Ильич долго колебался идти ли к Направнику. Сам не зная почему, он боялся этого визита. В конце концов, решил не идти – остался дома поработать. Как вдруг Эдуард Францевич написал, что великий князь Константин Николаевич приглашает его на обед. Причем прямо сказал, что это необходимо для оперы. Между тем у Петра Ильича болело горло, не было фрака, да и обещал он Конради и Апухтину есть устриц в ресторане. После мучительных колебаний он решился написать, что никак не может сегодня и просит перенести встречу на будущую пятницу. Вот за эту суматоху, вечное разрывание на части Петр Ильич не любил Петербург.
Идя на обед с Конради, он заглянул в церковь на набережной Невы и застал там молебен. Молящиеся прихожане, запах ладана, чтение Евангелия – все это оказало на душу умиротворяющее действие. Заботы и тревоги отступили, и Петр Ильич усердно молился, забыв обо всем. С каждым прожитым днем его все больше тянуло в Церковь, к Богу. Былой холодный рационализм постепенно исчезал, уступая место вере.
Разговор с Конради получился тяжелым. В семье воспитанника Модеста произошли тревожные перемены. Колина мать Алина Ивановна – женщина пустая и лишенная материнских инстинктов – завела в Петербурге любовную связь, что стало известно мужу. Разразился страшный скандал, Герман Карлович, естественно, потребовал развода.
Он практически исповедовался Петру Ильичу: рассказал не только историю своей брачной жизни, но и подробности событий, приведших к разводу.