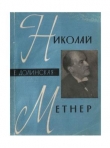Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 36 страниц)
Глава 14. Пора испытаний
Полупустой поезд остановился на темной наружной платформе. Утро выдалось морозным и ветреным, и Петр Ильич поднял воротник пальто, пробираясь среди галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров. Модест с Анатолием уже поджидали его, и сразу же завязался спор, у кого Петр Ильич должен остановиться. Он высказался за «Славянский базар», где поселился Модест. Толя обиженно надулся. Впрочем, он быстро повеселел, добившись от брата обещания непременно быть у него.
Странное ощущение Петр Ильич испытал в Москве. Его любовь к этому старому, милому, несмотря на все недостатки, городу, нисколько не уменьшилась, напротив – сделалась острее и сильнее, но приняла какой-то болезненный характер. Ему казалось, будто он давно умер и все то, что было прежде, кануло в бездну забвения, а он совсем другой человек, из другого мира и другого времени. Крайне мучительное ощущение.
Петр Ильич провел у Анатолия несколько часов, выслушивая сетования брата по поводу его последней влюбленности. Мазурина окончательно завоевала его сердце, и он даже сделал ей на днях предложение. Но…
– Она отказала, – убито сообщил Анатолий. – Говорит, что испытывает ко мне только дружеское расположение. Я самый несчастный человек на свете!
Хотя Петр Ильич по опыту знал, что эта страсть не так глубока, как кажется на первый взгляд, и пару месяцев спустя пройдет, смотреть теперь на огорченного Толю и слушать его жалобы на судьбу было невыносимо.
– Но я не сдамся, и когда-нибудь она изменит свое отношение! – упрямо заявил Анатолий и неожиданно заключил: – Я познакомлю тебя с ней.
Те несколько дней, что Петр Ильич провел в Москве, роман бурно развивался. Девушка начала постепенно уступать настойчивому воздыхателю. Петр Ильич нашел ее довольно симпатичной, но не был уверен, что она – та, кто подходит его брату.
А вскоре завертелась суматоха визитов к многочисленным приятелям, утомительная корректурная работа. Начались репетиции «Евгения Онегина» в Большом театре, и Петр Ильич обещал на них присутствовать.
На несколько дней он вырвался из этой суеты в Петербург, чтобы попасть в суету гораздо худшую. Там готовилась постановка «Орлеанской девы», вокруг которой кипели поистине шекспировские страсти. Споры и интриги примадонн из-за главной партии, неприятные сцены, которые пришлось по этому поводу выдержать, пренебрежительное отношение и к опере, и к ее автору высшего театрального начальства, недовольство некоторыми певцами и певицами – все вместе просто сводило с ума.
Направник на первой же репетиции резким тоном потребовал немало переделок, купюр, транспортировок...
– Поймите, мною руководит исключительно желание успеха оперы, – уверял он.
Петр Ильич в этом и не сомневался – он вполне доверял Эдуарду Францевичу и был согласен на все исправления, вот только... в водовороте петербургской жизни, при расстроенных нервах невыносимо тяжело было сосредоточиться на работе. Единственное, что помогало выдержать испытания – уверенность в успехе «Орлеанской девы», которую поддерживали и артисты, и все, кто присутствовал на репетициях. Каменская, исполнявшая главную роль, привела Петра Ильича в восторг. А ведь в свое время он боялся соглашаться на ее кандидатуру: чудное сильное меццо-сопрано, она не обладала ни малейшим актерским талантом и совершенно не умела распоряжаться своей статной фигурой на сцене. Каково же было его изумление, когда на первой же репетиции Мария Даниловна показала себя если не первоклассной драматической актрисой, то во всяком случае певицей с красивым жестом, грацией и пластичностью движений.
Восхищению Петра Ильича не было предела – с такой примадонной опера непременно произведет на публику сильное впечатление.
– Чудесно, просто чудесно! – воскликнул он. – Вы сделали большие успехи!
Каменская смутилась и, слегка покраснев, скромно ответила:
– Все благодаря Прянишникову: он много со мной работал.
К сожалению, интриги обиженных Рааб и Макаровой, успевших настроить против Каменской театральное начальство, привели к тому, что ее допустили до исполнения роли Иоанны только с условием, чтобы она не пела на первом представлении. Но даже эти грязные интриги внушали надежду: все примадонны считали партию необыкновенно благодарной и эффектной, и сам их спор был уже доказательством интереса к опере.
Измотанный до предела, но воодушевленный будущностью своего детища Петр Ильич вернулся в Москву, где его поджидали репетиции «Евгения Онегина».
Из-за того, что разом в Петербурге и Москве ставились две его оперы, он постоянно находился на виду: о нем много говорили и писали. Газеты заранее побранивали. А в одной из них он даже прочел обвинение в том, что посвятил «Орлеанскую деву» Направнику – мол, это неблаговидный способ заманивания на свою сторону дирижера. Направнику – единственному безусловно честному человеку в петербургском театральном мире – тоже порядком доставалось. Глупые выдумки журналистов не столько оскорбляли, сколько огорчали и тяготили.
Анатолий встретил вернувшегося брата печальными новостями – его роман развивался неблагополучно.
– Оказывается, Мазурина серьезно больна, – чуть не плача, поделился он. – Поэтому и отвергала меня – не хотела привязывать к себе. Говорят, у нее чахотка и ей осталось совсем немного.
Петр Ильич мог только посочувствовать брату – красивую, умную и веселую девушку было действительно жаль. Но он мог поклясться, что пару месяцев спустя Анатолий забудет о своем неутешном горе и влюбится в кого-нибудь еще. И оказался прав – скоро Толя завел интрижку с какой-то девицей, судившейся на Мировом съезде и влюбившейся в него. Оскорбленная в лучших чувствах Мазурина разорвала с ним всякие отношения. И это вызывало новый взрыв любви со стороны Анатолия, который теперь все мыслимые и немыслимые силы прилагал к возвращению возлюбленной. Петр Ильич просто терялся в этих ежедневных переменах декораций и не представлял, какой исход будет лучшим для брата.
Если одного близнеца волновали исключительно амурные проблемы, то второго терзали творческие муки. Модест закончил свою пьесу и теперь боялся, что ее не примут на сцену. Петр Ильич взялся показать «Благодетеля» драматургу и преподавателю драматических классов в консерватории – Самарину. Тот, ознакомившись с пьесой, высказал свои замечания:
– Соня, Настя и барон Шорф – превосходны. Миллер – непонятен, ибо зрителю неизвестно, аристократ он или демократ. Язык отличный. В отношении сценичности много неопытности и мало движения. Первый акт – это повесть, а не комедия. Невозможно поставить так, как есть: столь тонко задуманные подробности не для театра. Однако я покажу пьесу Бегичеву.
Иван Васильевич говорил еще много и большей частью непонятно, из его слов Петр Ильич не вынес ничего ясного и определенного. Но то, что «Благодетель» попадет к Бегичеву – управляющему московскими театрами – воодушевляло.
К сожалению, театрально-литературный комитет пьесу не пропустил, и эта неудача страшно огорчила бедного Модеста. Как вдруг за него взялась хлопотать известная актриса Савина. И хлопотала так энергически, что дело сладилось: «Благодетеля» взяли для постановки в ее бенефис. Модест приободрился и повеселел. Петр Ильич со смешанным чувством подмечал в брате собственные черты: та же склонность впадать в депрессию от первой неудачи и столь же быстро переходить к восторгу, когда дела налаживались. Наверное, такие перепады настроения неизбежны для творческой личности.
***
Ветер трепал висевшую рядом с консерваторией афишу:
«14 декабря, в 10.00 состоится исполнение одиннадцати номеров из литургических песнопений, сочинения П. Чайковского».
По хрустящему снегу, выдыхая облачка пара на морозный воздух, толпы народа собирались на концерт. Обширный зал оказался переполнен, но в нем царила абсолютная тишина: в духовных концертах рукоплескания были запрещены. И определить, которое из песнопений произвело наибольшее впечатление на слушателей, было невозможно. Только по окончании дружные аплодисменты всего зала и несколько шумных вызовов автора показали, что публика осталась довольна.
Однако в толпе расходившихся слушателей Петр Ильич слышал возмущение «нецерковностью» музыки, под которой подразумевалась непохожесть на сочинения Бортнянского, Львова, Сарти, Березовского. С этим можно было себя поздравить – ведь именно к этому Петр Ильич и стремился. Но другая часть публики высказывала совершенно противоположное мнение и под «нецерковностью» подразумевала отсутствие древнецерковного стиля и сходство с произведениями Бортнянского и прочих. Третьи остались недовольны бедностью пикантных и интересных музыкальных сочетаний. Четвертые, напротив, и те немногие контрапунктические подробности, которые изредка встречались в музыке песнопений, находили лишними и взывали к строгости Палестрины. Наконец, пятые негодовали на дерзкую попытку светского композитора. От столь противоположных порицаний просто опускались руки.
Но чувствительнее всего Петра Ильича обидела статья Московского архиепископа Амвросия в газете «Русь», которую он прочитал на следующее утро за завтраком:
«Литургия есть священнодействие, совершаемое служителями церкви при живом, деятельном духовном участии поющих, молящихся и тем паче причащающихся. Она есть живое тело, неразрывное целое, действенное и высшее проявление и движение духовной жизни верующих. Но вот для наслаждения «музыкальной игрой звуков», без всякого внимания к великому значению песнопений Божественной литургии, забыв ее истинную цель, вынув, так сказать, существо ее – святое Таинство и все слова священнодействующих, всю ее с обращаемой к молящимся стороны переносят в публичный зал и перед любителями музыки, за деньги, исполняют ее Божественные песнопения. Очевидно, что песнопения Божественной литургии были взяты г. Чайковским только в виде материала для его музыкального вдохновения (так как он не назначал их для церковного употребления), как берутся исторические события и народные песни и легенды. Высокое достоинство песнопений и уважение к ним нашего народа были для него только поводом приложить к ним свой талант. Это было либретто для его духовной оперы, которая и была исполнена певцами».
И если с первой частью Петр Ильич был полностью согласен, то никак не мог понять, с чего же владыка Амвросий взял, что он не назначал эти песнопения для церковного употребления? Откуда такие выводы? Ведь как раз наоборот – всею душою он желал, чтобы его литургия пелась в церкви. Может, его стремление исправить испорченную западным влиянием церковную музыку и вернуть ее к истокам было излишне самонадеянным, но никакого оскорбления в нем не было и быть не могло. И почему его вечно столь превратно толкуют?
Измученный волнениями Петр Ильич сбежал из Москвы обратно в тишину и спокойствие Каменки, намереваясь встретить там Рождество и новый год. Толя собирался уехать вместе с ним, но Петр Ильич не без труда отговорил брата от этого непоследовательного и странного поступка, который доказывал, что не очень-то он и влюблен. А значит, окончательный разрыв, если таковой случится, переживет без потрясения.
Каменка хорошего настроения не принесла: весь дом превратился в лазарет. Главная же беда заключалась в Тане: казалось, будто она разливает вокруг себя яд, отравляющий всех. И жалко ее, но порой Петр Ильич почти ненавидел племянницу – хорошую, в сущности, девочку. Было в ней нечто болезненное, заставляющее страдать всех в доме, а особенно мать, и так-то здоровьем не отличавшуюся. Поскорее бы Таня вышла замуж и уехала отсюда. Увы, со свадьбой дело не ладилось. Князь Трубецкой по протекции тетки, княгини Воронцовой, получил хорошее место, и материальные препятствия были устранены. Но здоровье Тани было так плохо, что о свадьбе теперь еще и не думали. В глубине души Петр Ильич был уверен, что в большей степени болезнь племянницы происходит от безделья и чрезмерной опеки со стороны матери. Но Александра и слышать ничего не желала, жалея свою любимицу.
В Москве, куда Петр Ильич вернулся сразу после нового года, ждало печальное известие: серьезно заболел Рубинштейн. Он отправился проведать друга и нашел его худым, бледным и слабым, при этом по-прежнему фонтанирующим энергией. Тем не менее было заметно, что это начало какой-то сложной органической болезни, и Петра Ильича охватило беспокойство. Случись что с Рубинштейном, что станет с консерваторией? Да и со всем музыкальным миром Москвы? Уж не говоря о том, как жалко и горько лишиться хорошего друга.
***
В день премьеры «Евгения Онегина» Большой театр был переполнен, несмотря на высокие цены. Петр Ильич следил за представлением, спрятавшись за кулисами, откуда хорошо наблюдались и сцена, и зрительный зал. Декорации были далеко не новые, зато администрация постаралась в отношении костюмов: они точно воспроизводили эпоху двадцатых годов. И все же постановка страдала массой промахов и отсутствием мастерства.
Исполнение, конечно, не соответствовало тому, чего желал Петр Ильич – да где ж найдешь идеальную Татьяну? – однако было весьма недурно: хорошие голоса, тщательная подготовка. Вот только артистизма не хватало. Настоящими актерами были лишь Крутикова, певшая Ольгу, да Барцал в роли Трике.
Публика поначалу отнеслась к опере холодно. В первой картине рукоплескания – да и то жидкие – вызвало только «Я люблю вас, Ольга». Занавес опустился при полном безмолвии. Петр Ильич в отчаянии замер в своем уголке. Неужели провалится эта опера – столь любимое им детище? Но постепенно успех возрастал – после сцены письма Верни, игравшую Татьяну, дважды вызывали на сцену. А с третьего антракта начались вызовы автора и дирижера. Бурю восторга произвели куплеты Трике, и вторую половину оперы приняли несравненно горячее, чем первую. Петр Ильич вздохнул с облегчением.
Как только опустился занавес, зрительный зал взорвался бурными аплодисментами. Много вызывали дирижера и композитора. Петр Ильич покинул театр довольный впечатлением, произведенным на публику.
На следующее утро за завтраком он с жадностью принялся просматривать газеты и… отбрасывал их одну за другой с возраставшими недоумением и обидой. Гораздо больше ругали, чем хвалили, и это бы еще ничего – не привыкать. Грустно было другое: даже те, кто хвалил, говорили, в сущности, обидные вещи. Одна газета писала, что лучший номер в опере – куплеты Трике. Другая находила, что у Петра Ильича нет вдохновения, зато много учености. Лишь «Московские ведомости» стали утешением. Их корреспондент Ignotus считал, что сдержанность успеха объясняется свойством самого сюжета, непривычного для публики; свойством музыки, тонкой и изящной, требующей знакомства с ней в деталях; либретто, которое уже тем нехорошо, что сделано из любимейшего и гениальнейшего произведения русской литературы. И в заключение написал:
«Музыка Чайковского стоит на равной высоте с текстом Пушкина, а опера «Евгений Онегин» – одно из самых удивительных произведений русской музыки. Ей суждена столь же славная будущность, что и поэме Пушкина».
Ради одной такой статьи можно было смириться с глупостью и пошлостью всех остальных.
Вскоре после первого представления, к великой досаде автора, оперу сняли на неопределенное время из-за болезни примы.
Не успев прийти в себя, в конце января Петр Ильич уехал в Петербург, чтобы заняться уже «Орлеанской девой», вокруг которой продолжали кипеть страсти. Начальство в лице Лукашевича настаивало, чтобы на первом представлении пела Макарова в обход желания композитора, режиссера и дирижера. Постановка была просто нищенская. Счастье еще, что благодаря Направнику хотя бы музыку разучили превосходно.
Лукашевич являлся на репетиции, ведя себя точно восточный падишах. Когда он отпускал глупые замечания по поводу исполнения, Петр Ильич терпел. Но потом Лукашевич схватил партитуру и, найдя там несоответствия, самодовольно заявил:
– Это что такое? Тут было не так!
Из последних сил сдерживаясь, Петр Ильич сквозь зубы объяснил:
– Да, эту мелодию пришлось перенести из партии Иоанны в партию Агнессы – ради сценических и вокальных условий.
– Да что вы себе позволяете?! – возопил Лукашевич, точно ему нанесли личное оскорбление. – Вы не имеете права ничего менять! И должны были испросить разрешения!
В первую секунду Петр Ильич онемел от возмущения такой наглостью. А в следующую – вырвал ноты из рук Лукашевича и тихо, дрожащим от ярости голосом произнес:
– Я ведь могу вовсе забрать партитуру из театра! И, честное слово, сделаю это!
Не глядя больше на гадкого чиновника, он метнулся к выходу и так и ушел бы, если бы его не остановил Направник. Перехватив его у самой двери, Эдуард Францевич горячо зашептал:
– Не глупите, Петр Ильич. Лукашевич не стоит этого. Мы поставим оперу наилучшим образом – все силы к этому приложим. Надо только немножко потерпеть.
Страшно хотелось плюнуть на все и уехать подальше, но Петр Ильич согласился с Направником и скрепя сердце вернулся. Лукашевич, кажется, понял, что перегнул палку, и немного притих.
Отдохновением от интриг стала премьера пьесы Модеста. Комедия имела большой успех, автора несколько раз вызывали и дружно приветствовали.
После спектакля Петр Ильич нашел брата за кулисами, счастливого и смущенного одновременно.
– Поздравляю с успешным почином, Модинька! Я же говорил, что это стоящая вещь!
– Ну, Модька – нет слов! – улыбался Толя, специально приехавший с Львом Васильевичем и Верой в Петербург на премьеру.
– Вам правда понравилось? – Модест будто не верил своим ушам.
Братья весело покивали, а Лев Васильевич спокойно заметил:
– На самом деле хорошо.
Вера же просто повисла у него на шее:
– Так чудесно, дядя Модя! Мне очень-очень понравилось!
Модест засиял, как новенькая монета, и попытался обнять всех сразу, пробормотав:
– Спасибо.
Тринадцатого февраля, в день премьеры «Орлеанской девы» Петр Ильич начал волноваться и терзаться страхом с самого утра, а к вечеру тяжелое чувство тревоги давило невыносимым грузом. Но после первого же действия необычайно теплый прием публики успокоил его: весь театр сверху донизу хлопал и кричал. Автора вызывали восемь раз. И все же постановка была бесцветная и бедная – и в отношении костюмов, и в отношении декораций. Зато Каменская пела превосходно и даже играла отлично, чего с ней прежде не случалось.
Ободренный несомненным успехом Петр Ильич на следующий же день уехал в Италию. В поезде он прочел заметку о том, что «Орлеанская дева» дана с большим успехом, но опера плоха, скучна и монотонна. Хмыкнув, он отбросил газету. Ругань автора статьи даже не слишком задела. Гораздо больше расстроило известие, полученное в Вене, что шумный успех первого представления не повторился в последующих, и «Орлеанскую деву» собираются в скором времени снять с репертуара. Решительно, ему не везло с операми.
***
Подъезжая к Флоренции, Петр Ильич пришел в восторг, увидев рано утром ярко освещенную солнцем весеннюю картину милой итальянской природы. После метели накануне она показалась волшебным сном.
Оказавшись же в Риме, он испытал ощущение, будто вернулся домой. Вот только каждый уголок в отеле, каждый поворот лестницы напоминали о Модесте и Коле. Так и казалось, что вот-вот они войдут! И становилось невыносимо тоскливо.
Однако заскучать ему не дали. Тут же пришел в гости Кондратьев, по-прежнему обитавший за границей, и четыре бесконечных часа рассказывал о своих похождениях, ссорах и дрязгах.
В Риме в это время жил и великий князь Константин Константинович, который, узнав о приезде Петра Ильича, пожелал его видеть и пригласил к своим братьям Сергею и Павлу Александровичам. Визит этот был нехорош уже тем, что к великим князьям не пойдешь просто так, по-свойски – нужен фрак, а его-то и не было. Приглашение пришло в воскресенье, и почти все магазины были закрыты.
Петр Ильич попросил фрак у знакомого – Масалитинова, но он оказался узок до смешного. Тогда он попробовал надеть фрак Кондратьева. Этот был безобразно широк. Петр Ильич полетел искать в магазинах. В ужасе и отчаянии он метался по городу, пока в одной лавчонке не нашел по случаю продававшийся препаршивый, но хоть сколько-нибудь пригодный фрак. После всех перипетий он едва поспел на виллу Sciarra, где жили великие князья.
– А вот и наш композитор! – с радостной улыбкой приветствовал его появление Константин Константинович.
Он представил Петра Ильича братьям, которые показали себя в высшей степени милыми, ласковыми и внимательными. Обед, сама вилла, роскошь обстановки были достойны изумления. Но при всегдашней застенчивости Петр Ильич неимоверно тяжело переносил пребывание в среде чужих людей. Просидев у великих князей три часа, он вернулся домой пешком, наслаждаясь великолепной весенней погодой и чувствуя себя так, будто груз с плеч свалился.
Он надеялся, что теперь его оставят в покое. Но нет: приглашения от самых разных людей продолжали сыпаться отовсюду. И везде его заставляли говорить о музыке, много играть – то есть делать именно то, что он всегда ненавидел. А отказать он не мог из страха обидеть. Не видя иного выхода из сложившейся ситуации, он просто сбежал с Кондратьевым в Неаполь.
***
– А поедемте смотреть Везувий! – предложил Кондратьев, появившись рано утром у Петра Ильича. – Нельзя же быть в Неаполе и не видеть Везувия.
Тот заколебался, и Николай Дмитриевич принялся убеждать, что он там уже бывал, что ничего страшного нет, а зрелище между тем потрясающее. И Петр Ильич уступил.
До Обсерватории поднимались пешком. Широкая тропа с узкими крутыми поворотами вела к площадке наверху. С нее открывались необыкновенные виды на Монте Сомма и Долину Гиганта, а выше – на Неапольский залив. Петр Ильич замирал через каждые несколько шагов, любуясь чудесным пейзажем. Порой при взгляде вниз перехватывало дыхание. Николай Дмитриевич, не столь подверженный обаянию природы, постоянно его поторапливал и тащил вперед.
Наконец, добрались до Обсерватории, от которой дальше шла фуникулерная железная дорога. Друзья позавтракали близ станции и сели в вагон. Тут-то выяснилось, что Кондратьев на самом деле никогда не бывал дальше Обсерватории. В вагоне он вдруг побледнел, будто сейчас упадет в обморок, а в последнюю секунду вскочил и убежал, говоря, что у него кружится голова. Петр Ильич насмешливо улыбнулся – ведь ясно, что он просто струсил практически вертикального подъема.
На вершину сопровождали пять гидов, содравших с туриста тридцать франков. Взобрались они к самому кратеру. Везувий был не совсем спокоен, и восхождение из-за обилия серных испарений, мешающих свободно дышать, получилось довольно тяжелым. Зато представшее зрелище – и красивое, и страшное одновременно – искупило все трудности: внизу в кратере бурлили массы еще раскаленной свежей лавы.
Петр Ильич остался доволен экскурсией и потом долго подтрунивал над струсившим Кондратьевым.
По возвращении в отель он едва успел сесть за письмо к фон Мекк, как явился Щербатов – знакомый русский моряк.
– Я пришел сообщить печальное известие, – начал он без предисловий. – Два дня назад был убит государь.
– Как? – едва смог выговорить потрясенный Петр Ильич.
– Заговорщики бросили бомбу. Это уже не первая попытка, но на этот раз она удалась.
Щербатов скоро откланялся, оставив его в полном смятении. В такую ужасную минуту тяжело находиться на чужбине. Хотелось полететь в Россию, узнать подробности, быть в среде своих, принять участие в сочувственных демонстрациях новому государю и вместе с другими вопить о мщении. Неужели и на этот раз не будет вырвана с корнем отвратительная язва политической жизни? Ужасно подумать, что последняя катастрофа, возможно, еще не эпилог этой трагедии.
***
Петр Ильич, сидя на веранде и наслаждаясь ясным солнечным днем, неспешно сортировал свою корреспонденцию, чтобы в первую очередь прочитать письма от родных. Безмятежное настроение враз исчезло, стоило открыть послание от Анатолия. Брат сообщал, что Рубинштейн серьезно болен и выехал на лечение в Ниццу. Петр Ильич немедленно бросился наводить справки, но никто ничего не знал, и он опасался, что Николай Григорьевич не вынес утомительности пути и слег где-нибудь.
Несколько дней прошли в мучительной тревоге от неизвестности, и вот принесли телеграмму от Юргенсона:
«Rubinstein va très mal je pars ce soir pour paris grand hôtel»[29]29
Рубинштейн очень плох еду сегодня вечером в париж гранд отель (фр.)
[Закрыть].
Петр Ильич хотел было тотчас ехать в Париж, но в тот день не было прямого поезда, и Кондратьев уговорил отложить отъезд до утра. Не в силах ждать, он телеграфировал в Гранд Отель и получил ответ, что состояние Николая Григорьевича безнадежно. Петр Ильич несколько раз перечитал телеграмму, не в силах поверить собственным глазам. Неужели Рубинштейн действительно умирает, и ничего нельзя сделать? Это никак не укладывалось в сознании. Несмотря на разногласия и некоторые размолвки, Рубинштейн оставался для Петра Ильича дорогим другом. Он пытался внутренне приготовить себя не застать его в живых, и все-таки слабая надежда не желала покидать сердце.
Наконец, ранним утром он сел в поезд до Парижа. Дорога превратилась в адское мучение. К своему стыду он страдал не только от сознания страшной, невосполнимой потери, но и от страха увидеть в гостинице искаженный мучительной болезнью труп бедного Рубинштейна. Он боялся, что не выдержит этого потрясения и с ним что-нибудь случится.
В гостинице Петр Ильич обнаружил лишь Елену Андреевну Третьякову, сопровождавшую Рубинштейна в поездке и шесть дней не отходившую от него ни днем, ни ночью. Опасения оправдались: он уже не застал друга в живых.
– Сегодня в шесть утра его тело перевезли в русскую церковь, – печально сообщила Третьякова, когда они устроились в гостиной, и она распорядилась принести чаю.
– Как… как все прошло? – едва выдавил Петр Ильич.
Елена Андреевна вздохнула:
– Николай Григорьевич ни разу не выразил опасения, что может умереть. И все говорил о своих будущих планах. В среду утром он еще ел устрицы, но тотчас после того у него сделалась рвота, а за нею предсмертный упадок сил. Он потерял сознание всего лишь за три часа до смерти и умер без агонии, незаметно. Он схватил меня за руку и так и не отпускал. Так что я долго не могла понять, жив он или уже умер, – немного помолчав, она добавила: – Местные врачи говорят, что посылать его за границу было безумием: при туберкулах в кишках нельзя предпринимать такие путешествия. Николай Григорьевич так мучился во время этой поездки! Он, конечно, старался быть бодрым духом и даже веселым, хотя в последнее время слабость дошла до того, что он едва говорил и двигал руками. Ну да что теперь… – Третьякова всхлипнула и поспешно вытерла глаза кружевным платочком. – Впрочем, все сошлись в мнении, что Николаю Григорьевичу в любом случае жить оставалось недолго.
Петр Ильич был потрясен до глубины души. Он не только потерял друга, которого любил всем сердцем; неизменного и лучшего исполнителя своих произведений, порой находившего в них сокровища, о которых не подозревал сам автор. Но кроме того Рубинштейн имел громадное значение для Русского музыкального общества и консерватории.
Отпевание состоялось на следующее утро. Помимо соотечественников присутствовали большинство выдающихся представителей французской музыки, среди которых – Виардо, Массне, Колонн, Лало… Пришел Тургенев, живший в ту пору в Париже. Он-то и взял на себя хлопоты о перевозе тела в Россию.
После отпевания гроб отнесли в нижнюю часовню – здесь Петр Ильич увидел Рубинштейна в последний раз. И был поражен тем, как он изменился. Буквально до неузнаваемости! Но больше всего потрясло отношение Антона Григорьевича. Он не только не был расстроен смертью брата, но даже как будто доволен, что вызвало у Петра Ильича омерзение. От былого уважения к учителю не осталось и следа.
В отель он вернулся в смятенном состоянии. С новой силой одолевали размышления о смерти, цели и смысле бытия, бесконечности или конечности его. Подобные потрясения заставляли задуматься о собственной жизни. Петр Ильич все яснее видел в ней перст Божий, указующий путь и оберегающий от бедствий. Сомнения еще посещали его: он еще пытался своим слабым умом постичь непостижимое. Но все громче и громче начинал до него доходить голос Божественной правды. Он находил неизъяснимое наслаждение в том, чтобы преклоняться пред неисповедимой, но несомненной премудростью Божией. Часто со слезами молился Ему и просил дать смирение и любовь, простить и вразумить. Ему хотелось приучить себя к мысли, что, если наступают бедствия, то и они, в сущности, ведут к благу. Хотелось любить Бога всегда: и тогда, когда Он посылает счастье, и когда наступают испытания. Хотелось верить, что есть будущая жизнь. Он знал, что, когда это желание станет реальностью, он будет счастлив, насколько счастье на земле возможно.
Вечером Петр Ильич вместе со всеми выехал сопровождать тело Рубинштейна в Москву. Чувство незаменимой утраты сменилось вопросом: «Как теперь быть?» Пробудилось тяжелое сознание, что все ждут от него решающего голоса, что он наследник дела Рубинштейна и должен стать во главе его. Но исполнить этот долг означало бросить сочинение, потому что совместить общественного деятеля и художника Петр Ильич был не в силах. Ни за что на свете он не мог отказаться от творчества. Но осознание осиротевшей беспомощной консерватории, столь близкой его сердцу, заставляло мучиться угрызениями совести и упрекать себя в бездействии.
Как нарочно, именно в этот момент Надежда Филаретовна сообщила, что почти разорена. Хотя со свойственной ей деликатностью она старалась уверить, что в ее миллионном разорении его пенсия ничего не значит, и просила даже не упоминать об этом, злоупотреблять ее добротой не хотелось. По всему выходило, что придется вернуться в консерваторию, как бы противно это ни было.
Поприсутствовав на прощальном вечере, где говорилось много пышных, но, в сущности, пустых речей, Петр Ильич уехал в Петербург в убитом настроении. В столице он нашел Александру с мужем и старшей дочерью. У Саши образовались два серьезных нарыва, которые пришлось разрезать. И теперь она была страшно слаба, едва говорила и двигала руками. Созванный консилиум врачей заключил, что опасности для жизни все-таки нет.
– У Александры Ильиничны камни в печени, – сообщил один из врачей расстроенным родственникам. – Пока они не пройдут, она будет ужасно страдать. Тем не менее большой опасности болезнь не представляет.
Хорошо ему было говорить, что нет опасности – а каково смотреть на измученную бледную Сашу!
– Ей следует поехать в Карлсбад на воды – это единственное средство исцеления.