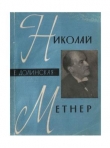Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
В конце февраля он прибыл в столицу для репетиций. На полупустом, заметенном снегом вокзале он сразу заметил кутавшегося в легкое пальто Модеста. После приветствий Петр Ильич сразу поинтересовался:
– Как Саша?
– Тяжело, – вздохнул Модест. – Однакож лучше, чем мы боялись. Поначалу-то на нее страшно было смотреть. А теперь из Каменки пишут, что пришла в себя, начала жить дальше.
– Не обострилась бы ее болезнь от таких переживаний. А Бобик?
– Конечно, был потрясен. Но встретил трагедию стойко и мужественно. Он молод – в этом возрасте легче пережить беду.
Петр Ильич согласно кивнул. Тревога о родных, не перестававшая терзать его со смерти Тани, немного улеглась. И он сосредоточился на подготовке к предстоящему концерту.
Было невероятно страшно, даже живот начал болеть. Иногда страх доходил до того, что Петр Ильич хотел отказаться и уехать, не в состоянии победить робость. Только титаническими усилиями воли он заставлял себя остаться и довести дело до конца.
Всю ночь перед первой репетицией он провел в мучительном беспокойстве и утром явился практически больным. Но стоило ему показаться в зале, как музыканты устроили бурную овацию, и странным образом страх мгновенно прошел.
Позже волнение вернулось, но это уже было скорее предвкушение художественного восторга, которое испытывает автор, стоящий во главе превосходного оркестра, с любовью и увлечением исполняющего его произведение. Когда он завладевает волей сотни человек, играющих по его палочке. Во время концерта Петр Ильич испытал минуты безусловного блаженства. Пожалуй, они стоили перенесенных мучений и тяжелой борьбы с самим собой.
Перед отъездом он зашел к жившему в Петербурге Кондратьеву. Встреча со старым другом подействовала угнетающе. Николай Дмитриевич был тяжело болен и выглядел ужасно. При страшной худобе у него образовался огромный, наполненный водой живот, и распухли ноги. Консилиум врачей во главе с Боткиным определил болезнь Брайта. Больной мог прожить еще долгое время, но вылечить его нельзя. Вопреки всему Кондратьев был полон надежд и не терял жизнерадостности:
– Доктора утверждают, что я могу еще поправиться, – уверенно заявил он, задыхаясь при каждом слове.
Но признаки приближающейся смерти, явственно различимые на его лице, противоречили бодрым словам. Петр Ильич со страхом подумал, что видит друга в последний раз.
***
Несмотря на середину марта, погода стояла совсем зимняя, снег завалил весь парк. Но днем солнце пригревало, и гулять было приятно. Однако и дома Петр Ильич не чувствовал себя хорошо. Что тому было причиной – усталость от концерта, необходимость срочно переделывать «Чародейку», или расстройство желудка, – но он постоянно испытывал непонятную тоску. А как в Петербурге казалось, что в деревне он будет наслаждаться спокойной одинокой жизнью! И вот пожалуйста – никакого наслаждения, одно расстройство.
Весь апрель Петр Ильич провел в Майданове, усердно работая над оперой, стремясь полностью покончить с ней и освободиться от этой обузы. Наконец, сбыв с плеч «Чародейку», он осуществил давнюю мечту – проехать пароходом по Волге.
Отправлялись из Нижнего Новгорода. От пристани по крутому холму поднималась широкая лестница. А наверху красовался древний кремль с высокими кирпичными стенами и белокаменными златоглавыми церквами.
Насилу Петр Ильич нашел на пароходе «Александр II» место второго класса, и то страшно неудобное. Дурная погода, шум и суета отравили начало пути. И все же Волга понравилась. Река была в полном разливе, и местами берега так удалялись друг от друга, что она делалась похожей на море. Гористый правый берег часто представлял красивейшие ландшафты. Далеко не такие великолепные, как на Рейне или Дунае, но главная красота заключалась не в берегах, а в безграничном просторе, массе вод, неторопливо, без всякого бурления катящихся к морю.
Петр Ильич влюбился в эту чудную реку и готов был целое лето плавать по ней взад и вперед. Но… на своем пароходе – в полном одиночестве. Страшно раздражали пассажиры, постоянно лезшие знакомиться, не желавшие оставлять в покое. И что за несносная страсть непременно выпытывать: куда вы, кто вы, и зачем вы едете! Петр Ильич все же сумел устроиться так, чтобы никто не знал, кто он такой. Что, однако, не избавило его от участия в музыкальном вечере.
Он аккомпанировал уверенно державшей себя барышне, которая взялась петь один из его романсов. Спев едва две строчки, она прервалась и недовольно скривилась:
– Ну, куда это годится! Вы неправильно аккомпанируете!
Он пытался возразить, но его даже не стали слушать.
– Я лучше знаю! – с апломбом заявила девица. – Сам Чайковский проходил эти романсы с моей учительницей.
Петр Ильич не нашелся, что сказать на столь смелое заявление, и предпочел не спорить. Раскрывать инкогнито он вовсе не собирался.
На этом мучения не закончились. Едва он вышел из-за рояля, его вниманием завладел важный усатый господин, который принялся рассказывать, что он лично знаком с «нашим дорогим композитором». На свою беду Петр Ильич выразил недоверие – господина он абсолютно точно не знал. На что тот убежденно принялся рассказывать:
– Чистейшую правду говорю! Когда ставили «Мазепу», Чайковский стоял за кулисами рядом со мной – вот как вы сейчас. И он так восхищался Лодием в роли Орлика, что потом рыдал у меня на плече!
Петр Ильич аж поперхнулся от такого откровения. И ничего, что партия Орлика басовая, а Лодий – тенор! Уж не говоря о том, что ни на чьем плече он никогда не рыдал. Господин истолковал его смущение по-своему и, покровительственно похлопав по плечу, удалился, довольный произведенным впечатлением. Только тогда Петр Ильич достаточно пришел в себя, чтобы усмехнуться ему вслед и подумать: «Расскажу друзьям – вот будут хохотать!»
Из виденных по пути городов больше всего понравились Самара, маленький городок Вольс, поразивший великолепным садом, и Баку. Красиво застроенный, чистый и необычайно характерный город: восточный элемент так сильно в нем преобладал, что казалось, будто находишься где-нибудь по ту сторону Каспийского моря. Одна беда: слишком мало зелени. Вечная засуха и каменистая почва даже Михайловский сад сделали жалким зрелищем высохших деревьев и желтой травы.
На Каспийском море ночью поднялась такая качка, что сделалось страшно. Каждую минуту казалось, будто потрясаемый волнами пароход разобьется в мелкие дребезги. Из-за кошмарного шума невозможно было глаз сомкнуть. Петр Ильич перенес качку относительно безболезненно, а вот Алексей стал жертвой морской болезни. Всю ночь его выворачивало наизнанку, а утром бедняга не в состоянии был подняться с постели.
В Тифлисе, куда Петр Ильич добрался к июню, стояла невыносимая жара. К счастью, через десять дней он вместе с семьей Анатолия уехал в Боржом. Местность представляла собой ущелье речки Боржомки, впадающей в Куру, и поначалу повергала в уныние возвышавшимися отовсюду горами. Они давили, лишая привычного широкого горизонта.
Но на следующее утро, во время первой же прогулки это ощущение пропало. Петр Ильич пришел в восторг от дивного парка, переходящего в густой тенистый лес. Оттуда дорожка вышла на великолепный ландшафт. И он понял, что навсегда влюбился в Боржом – маленький летний городок, совсем недавно отстроившийся. Здания в основном представляли собой дачи и виллы. И самая лучшая из них принадлежала Анатолию. При ней был разбит чудесный сад, а наверх, в высоко расположенный хвойный лес вела узкая тропинка.
Поначалу Петр Ильич боялся встреч с дачниками, их назойливости и любопытства, но быстро нашел замечательный способ избегать их. Два раза в день в Боржоме устраивались концерты, и на музыку собирались все. Стоило только не ходить туда – и никогда никого не встретишь.
Узнав, что в Боржоме есть минеральные источники, Петр Ильич, давно собиравшийся попить воды, решил пройти курс лечения. Доктор, к которому он обратился, внимательно осмотрел его, долго постукивал, выслушивал и, наконец, сделал заключение:
– Не в порядке печень. Она сместилась вследствие давления желудка, с которым у вас серьезные проблемы. Вам следует в течение шести недель пить воду по два раза в день и ежедневно брать теплые минеральные ванны.
Вода оказалась совсем как в Виши: щелочная, пропитанная углекислотой и приятная на вкус.
Настроение оставалось не слишком хорошее, вдохновения никакого. Через силу Петр Ильич занимался эскизами для струнного секстета да делал инструментовку давно задуманной сюиты из моцартовских фортепианных пьес. Он не особенно боролся с напавшим нежеланием работать, посчитав, что заслужил право немного полениться и отдохнуть.
Анатолий недолго прожил на даче: дела требовали его присутствия в Тифлисе. Зато из Петербурга приехал Модест со своим воспитанником. Коля стал совсем взрослым юношей. Модест так хорошо его выучил, что незнакомый человек мог и не заметить, что Коля – глухонемой. Он бегло читал по губам и четко разговаривал.
Брат привез неутешительные новости:
– Кондратьев совсем плох. Ему выпустили воду, и он решился ехать за границу.
– Все-таки в Аахен?
Модест кивнул:
– Сомневаюсь, что ему еще можно помочь, но Николай Дмитриевич продолжает надеяться. Доктора нашли, что воды Аахена могут продлить его жизнь на несколько месяцев. Плохо только, что он там совсем один.
– Почему один? – удивился Петр Ильич. – А Мэри и Дина?
– Они собирались его сопровождать, но Николай Дмитриевич сам потребовал, чтобы они остались в России, – Модест пожал плечами. – Может, не хотел, чтобы они видели его таким.
***
С веранды открывался чудесный вид на расстилавшийся внизу возле реки город. Приятный утренний ветерок освежал лицо и колыхал прозрачные занавески. Из дома доносились шаги и голоса просыпавшихся обитателей. Вот прозвенел смех Таты, торопливо прошел кто-то из прислуги, раздался басок Коли.
– Петя, ты встал уже, – на веранду заглянула Прасковья. – Я тебе почту принесла.
– Спасибо, Паничка, – благодарно улыбнулся Петр Ильич и насмешливо добавил: – А я думал, вы опять будете до обеда спать.
– Мы спали не до обеда! – возмутилась Паня, залившись румянцем, и тут же сменила тему: – Сегодня Толя приезжает на десять дней.
– Так вот в чем дело! – с понимающим видом покивал Петр Ильич.
– Ну тебя! – отмахнулась Паня, но не выдержала и рассмеялась.
Среди писем он обнаружил приглашение от Филармонического общества в Гамбурге дирижировать в январе своими сочинениями. И радостно было, что перешагнул он через границу, и одновременно страшно.
Настроение испортила телеграмма от Кондратьева:
«Supplie venir, ton arrivé peut me ressusciter»[35]35
Умоляю приехать, твой приезд может меня воскресить (фр.)
[Закрыть].
Целый вихрь противоположных эмоций поднялся в душе. Смертельно не хотелось покидать уютный Боржом и дорогих людей. Да и денег не было на поездку за границу. Но как не исполнить желания умирающего друга и бросить его в одиночестве? После мучительных колебаний Петр Ильич решился ехать. Пришлось просить дополнительных денег у Надежды Филаретовны, как бы стыдно ни было.
И только накануне отъезда он в полной мере осознал предстоявшую перемену. На него нашла ужасная тоска, острое чувство сожаления о Боржоме и остававшихся здесь родных. Близнецы проводили его до Сурама, откуда Петр Ильич поплыл на пароходе.
Он проехал через Батум, Ялту и Одессу, любуясь красотами южных городов, а потом уже пересел на поезд до Аахена. И если на пароходе он наслаждался полной свободой, то в поезде ни единого часа невозможно было остаться в одиночестве и приходилось все время разговаривать с попутчиками. Но самое худшее случилось в Подволочиске. Там сел новый пассажир – дородный, начавший седеть мужчина. При виде Петра Ильича он радостно воскликнул:
– Чайковский! Ты ли это? – и, поскольку тот посмотрел на него с недоумением, с веселой обидой добавил: – Неужто не узнаешь?
Новый попутчик оказался Врангелем – товарищем по Училищу правоведения. Они и во время учебы никогда близко не общались, и беседовать на «ты» с человеком, которого не видел больше двадцати лет, было невыносимо. Только в Вене Петр Ильич сумел ускользнуть от нежеланного спутника.
В Аахен он въехал рано утром. Небольшой городок, застроенный домами не выше пяти этажей, был приятен глазу. Особенно поражали воображение готический кафедральный собор и городская ратуша.
Петра Ильича ждали только на следующий день, и, приехав в Нойбад, он сначала вызвал слугу Сашу, чтобы спросить о здоровье барина. Но не успел Саша ничего ответить, как раздался веселый голос Кондратьева:
– Петруша! Не ждал тебя так рано. Проходи же скорее.
И не успел он опомниться, как уже оказался в комнате, где на диване сидел Николай Дмитриевич. Он сильно изменился в лучшую сторону с того времени, что они виделись в последний раз. Хотя похудел, кажется, еще больше, но то была худоба выздоравливающего человека. В голосе, в жестах, во взгляде была заметна бодрость.
– Как себя чувствуешь? – первым делом поинтересовался Петр Ильич.
– Сейчас уже прекрасно. А вот первое время было тяжело. Появлялись нарывы, которые приходилось резать. Не представляешь, до чего это больно! Но потом доктор Шустер придумал новое средство: ванны в сорок градусов. И тут же все наладилось! И пот появился, и аппетит, и сон.
– Рад за тебя, – искренне произнес Петр Ильич.
На следующее утро он познакомился со знаменитым доктором Шустером. Некоторое время Петр Ильич наблюдал за впрыскиванием, перевязкой огромной раны от пореза на нарыве, постукивании и прощупывании живота. Но долго не выдержал и вышел из комнаты, чтобы подождать доктора и поговорить с ним.
– Скажите откровенно, каковы его шансы? – с замиранием сердца спросил он у Шустера, когда тот закончил процедуры.
– Но господин Кондратьев спасен! – воскликнул доктор, как бы даже с удивлением. – Он совершенно вне опасности. Если только не будет нового осложнения, он на полном пути к выздоровлению. Правда, и я первое время считал его совсем погибшим. Поскольку все равно больше ничего не оставалось, я решился на крайнее средство: варить его в серном кипятке. И сразу стало лучше. Да и известие о вашем приезде хорошо повлияло на ход болезни.
Оптимизм доктора успокоил Петра Ильича. Последовала череда однообразных долгих дней с бесконечными процедурами и мизерными улучшениями. Жизнь в Аахене проходила по накатанной колее. Позавтракав, Петр Ильич около часа работал над сюитой из произведений Моцарта. Потом некоторое время сидел у Николая Дмитриевича и уходил гулять. Погуляв, снова сидел у Кондратьева, беседовал с ним и писал письма. После ужасно долгого обеда они вдвоем отправлялись кататься. Эти катания представляли собой труднейшую процедуру. Ходил Кондратьев свободно, но подниматься не мог совершенно, и, чтобы посадить его в карету, три человека поднимали одну за другой его ноги. Вечером приезжал доктор, и время от времени делал разрезы на постоянно появлявшихся нарывах. Немного почитав перед сном, Петр Ильич в двенадцать ночи ложился спать.
Такая жизнь изматывала морально. Одна только необходимость наблюдать за страшно мучавшимся Николаем Дмитриевичем сводила с ума. Петр Ильич жил в постоянном нравственном напряжении, так что не мог ничем заниматься, кроме инструментовки Моцарта. Поначалу понравившийся Аахен с каждым днем вызывал все большее отвращение. Здесь не было ни реки, ни садов, ни роскошных улиц, и крайне мало живописных окрестностей. Особенно же противен был воздух, пропитанный буфетными запахами, серой и городскими испарениями. Из-за громадного наплыва больных все чудилось что-то нездоровое и даже отвратительное. Дико было вспомнить о боржомских благоуханиях, о девственной кавказской природе, о лесах, цветах, бешеных потоках. И только сознание пользы, которую он приносил другу своим присутствием, мирило его с пребыванием здесь.
Наблюдение за умирающим человеком с новой силой возбудило в душе вечные вопросы. Много думал Петр Ильич о Боге, жизни и смерти. Его охватило раскаяние о своей жизни: вот она подходит к концу, а он так ни до чего и не додумался. И даже если являлись вопросы, отгонял их и уходил от них. Так ли он жил? Справедливо ли поступал?
Он чувствовал себя страшно постаревшим за это время. Появилась усталость от жизни, печальная апатия. Возникло ощущение, будто и ему скоро умирать. Все, что составляло важное и существенное, представилось мелким, ничтожным и бесцельным. Только вера, пусть еще не совсем окрепшая, поддерживала его во время трудного испытания.
Больше месяца длились мучения. Улучшение, которое продолжал обещать доктор Шустер, все не наступало. Кондратьев постоянно переходил от воодушевления и надежд к отчаянию и слезам. Во время одного из таких приступов он плакал и жаловался:
– Я знаю, что болезнь моя неизлечима. Я так устал от этой шестимесячной возни. Уж лучше бы мне остаться умирать дома – здесь только мучают напрасно.
– Полно тебе, Николай, – попытался успокоить его Петр Ильич, – есть же улучшения, да и доктор говорит…
– Какие улучшения?! Они так ничтожны…
Голос Кондратьева сорвался. Некоторое время он молчал, после чего тихий плач превратился в истерические рыдания. Схватив Петра Ильича за руки, он с горячечной страстностью заговорил:
– Я так благодарен тебе за то, что приехал! Только твое присутствие помогает мне не сойти с ума.
Петр Ильич и сам едва удерживался от слез. Он был поражен терпением и стойкостью друга: на его месте он бы давно потерял всякую надежду и умер от истощения.
После слез Кондратьев перешел в противоположное настроение: сделался весел и даже шутлив. И такие перепады происходили чуть ли не каждый день.
Петру Ильичу казалось, будто он не живет, а тоскливо произрастает. Каждую секунду он страстно стремился вернуться домой. Но совесть не позволяла бросить умирающего в одиночестве. А к августу, вопреки уверениям доктора, стало ясно, что Николай Дмитриевич умирает и надежды нет никакой. Петр Ильич написал его жене с просьбой прислать кого-нибудь из родных, кто мог бы его заменить. Сил оставаться в Аахене не было никаких.
В августе появилась новая надежда: Шустер выписал кровать с особым механизмом, которая могла заменить ванны. Результат оказался великолепным: Кондратьев сильно потел. Все воспрянули духом и приободрились. Увы, ненадолго. Николаю Дмитриевичу опять стало хуже: живот сильно вздулся, вода подступила к легким, и он начал задыхаться.
Петр Ильич стал бояться, что Кондратьев потребует, чтобы его везли обратно в Петербург. Он так долго жил ожиданием, что скоро вырвется из этого бесконечного кошмара, и вдруг придется трое суток трепетать в вагоне каждую секунду и видеть перед собой человека, утратившего последнюю надежду. Он чувствовал себя ужасным эгоистом, но одна мысль о таком путешествии была невыносима.
К его великому счастью, в конце августа в Аахен приехал племянник Кондратьева. С облегчением оставив на него больного, он вернулся в Россию.
***
Прибыв в Майданово, утомленный и угрюмый Петр Ильич обнаружил неподалеку от себя прелестный домик, уже вполне готовый и обитаемый. Стоял он около реки и леса, с чудесным видом на даль. Обуреваемый любопытством и отчасти завистью – ведь он давно лелеял мечту обзавестись собственным клочком земли и домом – Петр Ильич нанес визит хозяину. Им оказался редактор «Русских ведомостей» Соболевский. Он радушно принял гостя и охотно рассказал о том, как стал собственником:
– Я купил у Надежды Васильевны почти даром четыреста десятин. В мае начал строить дом – et voilà! – Соболевский широко улыбнулся, довольный своим приобретением.
Про себя Петр Ильич горько пожалел о своей непрактичности. Ведь он нисколько не беднее Соболевского. Почему же не может скопить денег и устроить подобно ему желанный приют?
Без того мрачное состояние духа сделалось еще мрачнее. Целыми днями Петр Ильич только и думал о том, как бы ему сделаться обладателем участка земли и дома. И тут, будто угадав его мысли, явилась Новикова с предложением:
– Не хотите ли, Петр Ильич, выкупить у меня участок возле леса?
– Признаюсь, у меня были такие мысли, – осторожно ответил он, внутренне чуть ли не подпрыгивая от радости. – Но хотелось бы сначала его посмотреть.
– Конечно-кончено, – с готовностью закивала Надежда Васильевна.
Участок располагался в живописном месте: с речкой и лесом, в стороне от дач. Петр Ильич немедленно загорелся желанием купить его:
– Сколько же вы просите за него?
– Двенадцать тысяч.
Он приуныл: таких денег у него никогда не бывало. Но сдаваться не хотелось.
– Я подумаю и отвечу вам на днях.
Новикова удовлетворилась этим ответом. А Петр Ильич, ничего не смыслящий в подобных делах, позвал на помощь Юргенсона. Тот сразу же заявил, что цена слишком велика, за такую можно найти гораздо лучше.
– Но я к Клину привык и мне хочется основаться именно здесь, – настаивал Петр Ильич.
– Хорошо, я привезу специалиста по покупке и продаже земель.
Обещанный специалист – Соколов – тоже пришел к выводу, что цена слишком высока, и обещал все уладить с хозяйкой, если Петр Ильич не станет вмешиваться. Он охотно согласился и тем временем задумался, где взять необходимые деньги. Хотя было страшно неудобно и даже противно, пришлось обратиться за помощью: к Надежде Филаретовне и к Прасковье. Обе с готовностью согласились.
Воодушевленный предстоящей покупкой, отдохнувший в своей глуши после аахенских страданий, он уехал в Петербург на первую спевку «Чародейки».
***
Театр был погружен в полумрак – для репетиции осветили только сцену. Оперу проходили пока без костюмов и без игры. Петр Ильич слушал, в отчаянии закусив губу и сцепив пальцы. Он и раньше подозревал, что «Чародейка» слишком длинна, но теперь окончательно в этом убедился. Он отлично заметил, как в сцене Княжича с Кумой теплое отношение всех присутствовавших к опере прекратилось, и началось мрачное молчание и тоскливое недоумение.
Когда Юрий чуть ли не в третий раз собирался уйти и все-таки не уходил, а музыка все играла и играла, Петру Ильичу сделалось стыдно. Он ярко почувствовал то, что должны были ощутить зрители: тоску, упадок интереса и желание поскорее дотянуть до конца. Вокруг неодобрительно шептались, и все же никто ничего не сказал автору.
Только когда спевка закончилась, Павловская решилась исполнить поручение Всеволожского.
– Петр Ильич, – робко начала она, – дуэт слишком длинен. Нельзя ли его немного сократить?
Он обреченно кивнул:
– Да, теперь я и сам это вижу.
Тут все обрадовались, оживились и принялись доказывать то, что он и сам отлично знал, убаюкивая себя надеждой, что, возможно, ошибается. Крушение иллюзий было горьким.
Претензии на этом не закончились. После Павловской к нему обратилась Славина – исполнительница роли Княгини.
– Петр Ильич, надеюсь, вы не рассердитесь, но партия Княгини слишком высока – я не могу ее петь. И ни одно контральто не сможет.
Он горько вздохнул: вот еще переделка нужна, помимо сокращений. Однако певице ответил доброжелательно:
– Что вы, Марья Александровна! Я и сам смутно это сознавал. Но, признаюсь, думал, что именно вы, с вашим полусопрановым голосом, справитесь без затруднений. Признаю свою ошибку, немедленно пересмотрю партию и сообщу вам проекты изменений. Если они вас не удовлетворят, мы обсудим, что еще можно сделать.
Славина благодарно улыбнулась:
– Буду ждать. Не хотелось бы бросать роль – она мне очень нравится.
В Майданове Петр Ильич немедленно засел за работу и вскоре придумал замечательные сокращения. Разделавшись, наконец, с оперой, он поспешил в Москву – ему не терпелось обсудить с Юргенсоном, как движется дело с покупкой земли.
– Новикова уступила три тысячи, – сообщил друг.
Не успел Петр Ильич обрадоваться, как он продолжил:
– Но встретилось другое препятствие. Оказалось, все имение заложено у некоей госпожи Голиковой. Я ходил к ней, и она требует огромной суммы наличными, чтобы разрешить продажу части имения.
А ведь освободившиеся три тысячи он собирался потратить на постройку дома! К тому же в пылу увлечения он забыл о планируемой поездке в Европу – на это ведь тоже нужны деньги. Поколебавшись, он огорченно признал:
– Знаешь, наверное, мне стоит отказаться от этого проекта. Боюсь, если я все-таки стану покупать, то совершенно запутаюсь в своих денежных делах и вместо удовольствия получу лишь затруднения и беспокойства.
Юргенсон кивнул:
– Пожалуй, ты прав. Да и невыгодная это была бы покупка в любом случае. Мы можем найти и получше.
Петр Ильич был расстроен и разочарован, но постарался проявить благоразумие. Действительно – можно ведь найти что-то другое. А проверив состояние своих финансов, он еще больше уверился в правильности принятого решения – за последний месяц он, сам не зная как, истратил невероятно много денег и даже задолжал Алексею триста рублей.
***
Майданово становилось все невыносимее. Неподалеку от Петра Ильича поселилось громадное семейство, с утра до вечера гуляющее по парку около его дачи. До него постоянно доносились обрывки глупейших разговоров, детские крики. И как будто этого мало, семейство считало своим долгом непременно здороваться с ним и обмениваться парой фраз. Заниматься стало невозможно. Он был даже рад уехать в Петербург, хотя еще недавно сходил с ума от суеты столичной жизни.
Накануне отъезда Петр Ильич получил известие о смерти Кондратьева. Никакой грусти об ушедшем друге он не испытывал – оплакать его он успел еще в Аахене, – даже обрадовался, что прекратились мучения несчастного страдальца. Лучше уж смерть, чем такая жизнь.
Ежедневные репетиции отнимали огромное количество сил. Бывали дни, когда Петр Ильич возвращался домой до того изможденный, что отказывался от обеда, сразу падал в постель и спал до утра. Впрочем, он был доволен и артистами, и внимательностью Направника, и оркестром, и постановкой в целом, и полон надежд на успех оперы. Только Павловская беспокоила: еще недавно прекрасная певица, она потеряла голос, и ее было едва слышно. Сознавая это, Эмилия Карловна делала акцент на игре, и Петр Ильич сильно опасался, что при публичном исполнении получится пересол.
В день спектакля он страшно волновался с самого утра. Только присутствие братьев – Анатолий специально приехал на премьеру из Тифлиса – немного успокаивало.
Публика радушно встретила Петра Ильича дружными аплодисментами. Но спектакль не заладился с первой же картины. Павловская вздумала поменять повязку и опоздала с выходом настолько, что произошло смятение. В конце концов, пришлось остановить оркестр. К счастью, Корякин подсказал примадонне ноты и слова, и все наладилось. Как Петр Ильич и опасался, Павловская переиграла и пела ужасно некрасиво. Отдельные номера понравились, но в целом публика реагировала прохладно.
С каждым новым представлением он только больше разочаровывался. Публика встречала оперу все холоднее, пока однажды спектакль не прошел при полном молчании. «Чародейка» почетно провалилась. Однако Петр Ильич не отчаивался и продолжал надеяться, что слушателям надо просто привыкнуть. В конце концов, хотя критика и была враждебной, никто не назвал «Чародейку» мертворожденным ничтожеством, как это сделал Кюи с «Евгением Онегиным». Все, будто сговорившись, рассыпались в похвалах Чайковскому-симфонисту, а потом с грустью констатировали неудачу попытки создать народную, бытовую, музыкальную драму. Напрашивался вывод: он не способен написать хорошую оперу. И это особенно задевало – ни над какой другой оперой он так не трудился.
В крайне меланхоличном состоянии духа Петр Ильич уехал в Москву, чтобы заняться новыми репетициями – на этот раз симфонического концерта. Постоянная усталость хотя бы заставляла забыть о провале «Чародейки».
Сразу по приезде в Москву Прасковья слегла с сильнейшим жаром. Врачи не сразу узнали брюшной тиф и много испортили лечением. Анатолий не отходил от ее постели, выглядел бледным и измотанным. Даже маленькая Танюша, оставленная на попечение няни, сделалась тиха и грустна. К счастью тиф оказался не сильный: Паня оставалась в сознании, только была слаба: лежала две недели и, кроме жидкого, ничего в рот не брала.
Московский концерт, состоявший исключительно из сочинений Петра Ильича, принес утешение раненому авторскому самолюбию. Впервые исполняемая «Моцартиана» понравилась публике, пресса отнеслась сердечно и дружелюбно и к дирижеру, и к автору.
Сразу после концерта Петр Ильич поспешил к брату и застал его заметно повеселевшим.
– Жар начал спадать, – поделился Толя радостной новостью, – и аппетит появился! Врач сказал, что теперь Паня несомненно пошла на поправку.
– Ну, слава Богу! – облегченно вздохнул Петр Ильич.
Сама Паня, по-прежнему остававшаяся в постели, заметно оживилась и встретила его с улыбкой, сразу поинтересовавшись, как прошел концерт.
– Прекрасно, – ответил он, – публика была восторженна. Настоящий успех.
– Как только Паня совсем поправится, можем возвращаться в Тифлис. Ты ведь едешь с нами? – спросил Анатолий.
Петр Ильич покачал головой:
– Извини, Толенька, но все эти треволнения – и с оперой, и с концертом – так меня вымотали, что я предпочел бы отдохнуть у себя перед поездкой в Европу.
Вскоре Петру Ильичу предстояло первое турне по Европе. Его давно уже приглашали дирижировать в Прагу, Берлин, Лейпциг. Он согласился с двойственным чувством: турне поспособствует распространению на Западе русской музыки, принесет денег, но… оно означало несколько месяцев постоянного нервного напряжения, суеты, шума, общения с незнакомыми людьми. Не лучше ли остаться дома и писать в тишине и спокойствии?
Толя обиженно надулся:
– Ты же обещал!
– Вот, честное слово, с удовольствием погощу у вас в следующий раз!
Анатолий хотел продолжить спорить, но Прасковья его перебила:
– Не мучай брата, Толя: не может – значит, не может.
Петр Ильич благодарно ей улыбнулся.
В Майданове все стояло вверх дном, поскольку Алеша убрал и запаковал вещи в ожидании поездки в Тифлис. Кругом – баулы и чемоданы. Приходилось жить как на бивуаке. Но Петр Ильич был счастлив оказаться у себя, отдохнуть от волнений и разочарований. Он до сих пор не мог смириться с провалом «Чародейки», которую считал лучшей своей оперой. Самым же обидным была злоба прессы – критики напустились на него так, будто он всю жизнь был бездарным писакой, незаслуженно поднявшимся выше, чем следовало.
С тоской, крайней неохотой и отвращением в середине декабря он выехал за границу, утешая себя мыслью, что, если станет совсем худо, все бросит и уедет домой.
***
В Берлине стояла совершенно такая же зима, как в России: снежная и морозная. По улицам ездили сани всевозможных фантастических форм. Петр Ильич замерз на прогулке, не будучи готов к такой погоде в Европе. Зато накупил множество книг и в гостиницу вернулся довольный, сразу отправившись обедать.