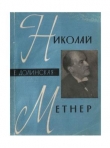Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 36 страниц)
Глава 20. Клин – последнее пристанище
Новый дом, привлекший с самого начала, по заселении вызвал еще больший энтузиазм. Особенно Петру Ильичу нравилось, что на втором этаже, необычно для домов бедного уездного города, располагались просторные комнаты, из которых отлично устроились кабинет-гостиная и спальня. Лучше этих двух комнат у него никогда в жизни не было. Правда, из окон вид открывался не слишком поэтичный: с одной стороны – бесконечные клинские огороды, с другой – шоссе, проходившее рядом с домом. Зато никаких соседей, тишина и покой. Петр Ильич был счастлив своим приобретением и рад, что бросил паршивое Майданово. Здесь он находился полностью у себя, мог бродить где угодно. Даже шоссе, проходившее прямо под окнами, не смущало, а напротив – воодушевляло: благодаря ему можно было гулять в любую погоду, не утопая в грязи.
Единственное, что расстраивало – внизу, где жил Алексей, царили холод и сырость. Несмотря на конец мая, приходилось топить. Только очень жаркое лето могло бы выгнать эту подвальную атмосферу, а погода пока стояла прохладная, даже с заморозками. Петр Ильич страшился за здоровье своего слуги и его семьи. Тем более что у Алексея недавно родился сын Георгий, ставший его крестником. Как-то младенцу жить в таких условиях?
Едва обустроившись в новом жилище и распаковав чемоданы, Петр Ильич принялся за работу, которой накопилось непочатый край. Юргенсон предложил приготовить к осени не только клавир «Щелкунчика» и «Иоланты», но и партитуры. Разуверившись в корректорах, Петр Ильич вызвался сделать корректуры сам. А значит, просмотреть каждый такт сочинения столько раз, сколько инструментов в оркестре – зачастую более двадцати. Кроме того, предстояло исправить двуручное переложение «Иоланты», прокорректировать клавиры «Иоланты» и «Щелкунчика», сделать облегченное переложение для фортепиано «Щелкунчика», поскольку сделанное Танеевым оказалось почти недоступно для исполнения дилетантами.
Пришлось отложить все остальные работы, сократить до минимума время отдыха, отказаться от всякого общества, изобрести новый режим питания. Зато чуть больше чем за месяц Петр Ильич справился с этой колоссальной задачей.
То ли от перенапряжения, то ли еще отчего, всегда беспокоивший его желудок расстроился окончательно. И Петр Ильич отправился в Виши отдохнуть и подлечиться. Перед отъездом за границу он заглянул в Петербург – повидаться с родными и захватить с собой племянника Владимира, которому тоже не мешало бы попить воды: как когда-то старшая сестра, он постоянно был не здоров.
В квартире Модеста на Фонтанке неожиданно обнаружились Анатолий с Прасковьей. Брат выглядел не просто расстроенным – убитым.
– Что с тобой? – встревоженно спросил Петр Ильич.
– Все просто ужасно, – выдал тот упавшим голосом. – Я возвращался из Сибири в уверенности, что в высших сферах от меня в восторге и в Ревель больше ехать не придется. Как вдруг Дурново принимает меня очень холодно и приглашает поскорее возвращаться в Ревель, будто бы недовольный, что я не исполняю своих настоящих обязанностей. Просто не знаю, что делать и на что решиться…
– Думаю, стоит исполнить требование министра, – осторожно предложил Петр Ильич. – А там посмотрим.
Анатолий удрученно кивнул:
– Знаешь, в первые минуты я хотел подать в отставку.
– И глупо, – вмешалась Паня. – Что бы ты стал в отставке делать?
Анатолий нахмурился – похоже, эта тема уже не раз поднималась между ними. Петр Ильич неодобрительно покосился на невестку. Сам он считал, что подать в отставку было бы для Толи наиболее благоразумным, но честолюбие Прасковьи порой переходило все границы. Однако вслух он ничего не возразил: не стоит провоцировать споры между ними.
– Кстати, Петя, возьмете меня в Виши? Мне тоже надо бы попить воды, – неожиданно продолжила Паня, бросив быстрый взгляд на Боба.
Петр Ильич пораженно посмотрел на нее. Как она может покидать мужа, когда он находится в столь отвратительном нравственном состоянии? И все эти нежные взгляды на Боба… Кажется, Паня просто влюбилась в него и ехать в Виши собралась только ради него, а не ради мифического лечения. Брать ее с собой не хотелось, однако и прямо отказать Петр Ильич не посмел. Боб промолчал, но в свою очередь смотрел на Паню с неудовольствием. Ее компания его явно не прельщала.
У Анатолия же сделалось ошарашенное выражение лица – он не ожидал, что жена оставит его в такой момент.
– Я думал, ты поедешь со мной… – огорченно произнес он.
– Толенька, ты же знаешь, я плохо себя чувствую в последнее время. Мне надо полечиться.
– Не уезжай хотя бы прямо сейчас, – умоляюще произнес он. – Ты нужна мне рядом.
Петр Ильич поджал губы, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не вмешаться. За один только этот умоляющий тон брата он начинал ненавидеть невестку. Зачем она его мучает? Толе и без того тяжело.
– Ну, хорошо, я поеду попозже, – уступила Паня со столь снисходительным видом, что еще больше захотелось сказать ей что-нибудь резкое.
Что случилось с Прасковьей? Ведь она была заботливой и любящей женой. Или глупая влюбленность в племянника мужа настолько вскружила ей голову, что она забыла обо всем?
***
В Виши было скучно и безотрадно. Однако воды и Петру Ильичу, и Бобу приносили пользу, и он оставался вопреки преследовавшей его тоске. День за днем проходили абсолютно одинаково, неделя тянулась будто семь месяцев. В голове и сердце поселилась пустота, ни охоты, ни времени на работу не было, и вся умственная деятельность сосредоточилась на мысли: «Скоро ли домой?»
Хотя жаловаться, собственно, было не на что: отличные условия проживания, комфортабельные комнаты, прекрасная еда. Разве что общество приехавшей все-таки Прасковьи раздражало. С ней установились прохладные отношения, каких никогда прежде не было. Петра Ильича одолевала злость на невестку за то, что бросила Толю и Таню в такое время, когда этого не следовало делать.
Местный доктор нашел, что Боб серьезно болен.
– У вас печень в отвратительном состоянии, – пояснил он. – Независимо от Виши, вы должны всегда вести строго-гигиенический образ жизни. В противном случае вам угрожает тучность и сахарная болезнь.
Боб воспринял этот прогноз с потрясающим равнодушием, лишь пожал плечами. Вообще, складывалось впечатление, что ему ни до чего нет дела. Петр Ильич начал беспокоиться о будущности племянника: уж очень он стал напоминать старшую сестру – болезненная, неуравновешенная натура. Как бы не закончил так же плохо, как Татьяна.
Прямо из Виши Петр Ильич собирался поехать в Монбельяр, навестить мадемуазель Фанни, да стало жаль долго держать Боба в скучном для него месте. Так что он отложил посещение старой гувернантки до более удобного случая. К тому же она непременно желала, чтобы он прожил у нее несколько дней.
Узнав, что они с Бобом возвращаются домой, Паня тут же собралась с ними, хотя приехала на неделю позже и должна бы еще продолжать лечение. И это со всей очевидностью доказывало, что в Виши она приехала только ради Боба.
– Ты хоть понимаешь, как это будет выглядеть? – осуждающе произнес Петр Ильич.
– А что такое? – недоуменно приподняла брови Паня.
Поразительно – когда она успела стать столь легкомысленной?
– Если ты… увлеклась не тем человеком, так хоть не демонстрируй это столь явно. Имей совесть – ты замужняя женщина, мать.
Прасковья пораженно приоткрыла рот, захлопав глазами. Неужели она думала, что ее маневры никто не заметит?
– Я не… – начала она, но оборвала себя на полуслове и вдруг с надрывом, заламывая руки, заявила: – Ты не понимаешь, Петя, как мне тяжело! Я же не виновата – сердцу не прикажешь.
Петр Ильич нахмурился:
– Вот что я тебе скажу, Параша. Если Толя хоть чуть-чуть будет несчастен по твоей вине, берегись. Оставь в покое Боба – не мучай его и себя. Возвращайся к мужу, пока еще не поздно.
Она попыталась заспорить, доказать свое право на счастье. В результате они чуть серьезно не поссорились. Но в конце концов благоразумие одержало верх: Прасковья признала его правоту, и расстались они мирно.
***
Дома Петр Ильич обнаружил цветы в парке значительно разросшимися, а ведь, когда уезжал, они едва виднелись из земли. Наблюдение за распускающимися бутонами махровых маков или иных садовых произрастаний, из которых он пока даже не знал, какие выйдут цветы, приносило массу удовольствия. Сад стал любимым отдыхом от корректур.
С первого этажа порой доносились крики Егорки, у которого начали резаться зубы, но Петра Ильича это на удивление не раздражало. Напротив: вносило оживление в слишком прозаический и несколько мертвенный строй жизни.
Размеренное течение дней прервалось в июле сообщением о смерти Сергея Михайловича Третьякова – дяди Прасковьи, с которым Петр Ильич был в дружеских отношениях. А ведь совсем недавно они виделись в Петербурге, и Сергей Михайлович выглядел моложавым и абсолютно здоровым.
Отшествие в мир иной столь богатого человека как Третьяков не могло обойтись без обид по поводу наследства. Все свое состояние он завещал сыну и кое-что жене. И отец Прасковьи Владимир Дмитриевич возмутился, что Сергей Михайлович ничего не оставил своей относительно бедной сестре, в пылу негодования даже назвав покойного свиньей.
Приехав на похороны в Москву, Петр Ильич неожиданно встретил Анатолия: его вызвал тесть.
– Я теперь в Нижнем Новгороде, – сообщил он. – С ревельским губернатором я работать вместе не могу.
Петр Ильич сокрушенно покачал головой:
– Толенька, тебе не кажется, что ты сам систематически губишь свою карьеру? Ведь повсюду, где бы ни служил, у тебя проблемы с начальством.
Анатолий насупился и буркнул:
– Это не моя вина.
Ну что тут скажешь?
– Не вернуться ли тебе в служебное ведомство? – осторожно предложил Петр Ильич.
Но Толя решительно покачал головой и упрямо заявил:
– Я хочу быть губернатором. И буду.
Петр Ильич тяжело вздохнул: ох, уж эти его амбиции… А брат воодушевленно продолжил:
– Как раз сейчас я могу показать себя в борьбе с эпидемией холеры. Думаю, на этот раз меня оценят.
– Дай-то Бог.
Петр Ильич всей душой желал осуществления стремлений брата, но начал сомневаться в возможности этого. С Толиным неуживчивым характером сможет ли он хоть где-нибудь устроиться мирно?
Конец лета Петр Ильич провел за корректурами, из-за которых приходилось постоянно ездить в Москву, чтобы давать указания граверам. Он чувствовал себя сумасшедшим – ничего не понимал, не соображал и не воспринимал. Даже во снах его без конца преследовали корректуры: снилось, будто какие-то диезы и бемоли не то делают, что им следует, и происходит нечто мучительное, роковое и ужасное. Он устал до полного изнеможения, но упорно продолжал ненавистную работу, почти не вставая из-за стола, стремясь побыстрее разделаться с ней.
Даже концертная поездка в Вену в сентябре стала не мучением – как это бывало обычно, – а облегчением, давая возможность отдохнуть от корректур.
***
В Вене Петра Ильича никто не встретил. Однако он не обиделся, а напротив – обрадовался. Переодевшись, он сразу отправился на выставку. Сама по себе она была довольно интересна, но вот зал, в котором предстояло дирижировать… Один знакомый предупреждал, что это в сущности колоссальный ресторан, но Петр Ильич не верил. Пришлось убедиться, что знакомый был прав: то, что в письмах именовалось «Большим Музыкальным залом», оказалось громадным, полным духоты и смрада от скверного масла рестораном.
Возмущенный до глубины души Петр Ильич потребовал от распорядителя Гутмана снять столы и превратить кабак в залу.
– Но уверяю вас: столы и колбаса с пивом нисколько не помешают! – недоуменно развел руками тот.
Петр Ильич одарил его таким сумрачным взглядом, что Гутман сдался:
– Хорошо, мы уберем столы.
Настроение безнадежно испортилось. Зачем, вообще, его пригласили сюда?
На репетиции выяснилось, что оркестр недурной, хотя по составу – слабый до смешного. Первая сюита прошла неплохо, но стоило приступить к следующему номеру, как начались проблемы. После первых же тактов Петр Ильич постучал палочкой по пюпитру и недоуменно спросил:
– Где первая труба?
– Он устал от репетиций, – раздался голос из оркестра. – Да вы не беспокойтесь: он такой хороший музыкант, что сыграет в концерте и без подготовки.
Петр Ильич опешил: что еще за новости?
– Но это невозможно! – воскликнул он. – У меня здесь соло для трубы, и партия заключает такие трудные пассажи, что самые опытные артисты не могут исполнять ее с листа!
В ответ он получил равнодушное пожимание плечами. Что делать – пришлось доиграть до конца. К концу трехчасовой репетиции Петр Ильич чувствовал себя выжатым как лимон. Несмотря на то, что он весь взмок от напряжения, его бил озноб. С трудом сойдя с эстрады, он попросил шубу и присел к столу, за которым расположились его друзья-пианисты – Софи Ментер и Василий Сапельников, с сочувствием на него поглядывавшие. Выпив стакан пива, Петр Ильич немного пришел в себя, но от одной мысли, что предстоит продолжать эти мучения ради ничтожного концерта, становилось дурно. И он решил сбежать, о чем и сообщил друзьям.
– Отличная мысль! – пришла в восторг Софи. – Предлагаю поехать в мой Иттер.
Она давно звала его в гости, да обстоятельства складывались неблагополучно. На этот раз Петр Ильич воспользовался представившейся возможностью. Написав Гутману, что отказывается от концерта, он потихоньку уехал вместе с Ментер и Сапельниковым.
Замок располагался в нескольких часах езды от Мюнхена посреди гор, покрытых лесами, с видом на расстилавшуюся внизу долину в желтых цветах. Помимо окружающей красоты, тишины и долгожданного уединения Иттер привлекал и тем, что здесь несколько раз гостил Ференц Лист – Ментер была одной из лучших исполнительниц его произведений и доброй приятельницей.
Петр Ильич радовался как ребенок, что сбежал от никому ненужного концерта в столь восхитительное место. Пара недель, проведенных там, благотворно повлияли на его настроение и самочувствие. В Прагу на премьеру «Пиковой дамы» он уехал довольный и глубоко благодарный милой хозяйке.
Пражская премьера прошла удачно. Особенно же понравилась исполнительница графини – Брадачова-Выкаукалова, продемонстрировавшая не только талант певицы, но и сильной драматической актрисы. Успех был блестящий, автора вызывали без конца.
***
И вот Петр Ильич снова в Клину, погрузившись в работу: по-прежнему оставалось немало корректур, надо было сочинить вставную арию для Фигнера, а потом начинать симфонию.
Петр Ильич все еще не мог решиться, кого выбрать на роль Иоланты. О Скомпской можно было забыть. Некоторое время он надеялся на Эйхенвальд, но оказалось, что она больна какой-то нервной болезнью и ранее как через две недели выехать в Петербург не может. А главное, он боялся, что испортит певице карьеру, если она не справится с ролью. По той же причине Альтани враждебно относился к ее переводу. Поколебавшись, Петр Ильич остановился на Медее Фигнер. Правда, в начале оперы она будет грузна и тяжеловата, зато в конце более чем кто-либо удовлетворит его требованиям.
Недолго пробыл он в своем уютном доме, в конце октября выехав в Петербург ради постановки «Щелкунчика» и «Иоланты». Время в столице летело незаметно, не скучно и не весело, но бесплодно, ибо о работе нечего было и думать. Репетиции шли каждый день, однако дело продвигалось туго.
Модест в эти дни волновался перед премьерой своей новой пьесы. И волнения оказались не напрасны: «День в Петербурге» провалился. Впрочем, Петр Ильич именно этого и ожидал: слишком тонка она для публики Александринского театра.
– Пусть это будет тебе уроком, – заметил он огорченному брату. – Погоня за недостижимыми целями мешает тебе как следует заниматься настоящим делом: писанием пьес для театра в обычной форме.
Модест скривился, но не возразил, понимая, что он, в сущности, прав.
С большим успехом состоялось первое исполнение «Воспоминания о Флоренции». При восторженных рукоплесканиях зала Петру Ильичу преподнесли жетон Петербургского общества камерной музыки. Приятное впечатление от концерта усилили два письма из Европы. В одном из них Французский Институт уведомлял его об избрании своим членом-корреспондентом. В другом – Кембриджский университет спрашивал, согласен ли он принять чин доктора музыки honoris causa, для чего следовало лично присутствовать на церемонии получения звания. Польщенный обоими известиями Петр Ильич ответил благодарностью на одно и согласием на второе.
Утром после премьеры Петр Ильич первым делом заглянул в газеты. Петербургская пресса ругала и оперу, и балет, кто во что горазд. Все осудили либреттиста: кто за плохие стихи, кто за длинноту изложения. Все признали музыку «Иоланты» слабой, заявляли, что «Чайковский повторяет себя» и что опера «нового лавра в венок композитора не вплела». О «Щелкунчике», правда, встречались положительные отзывы, но и те, кто хвалил, делали это не к месту. Петр Ильич воспринял нападки прессы равнодушно. Рано или поздно он свое возьмет – в этом он не сомневался.
Премьера прошла с большим успехом, постановка была замечательна – Направник и Дриго постарались на славу. Декорации и костюмы поражали своей роскошью. Как и предвидел Петр Ильич, Медея Фигнер в начале оперы слегка шокировала своей слишком мощной для слепой девочки фигурой. Но музыкальность, изящество толкования и нужная сила в дуэте и финале полностью искупили это невыгодное впечатление. Прекрасно справились и остальные исполнители.
Впечатления от балета немного испортило то, что заболевшего Петипа заменил Лев Иванов – прекрасный знаток своего дела, но, увы, лишенный изобретательности и фантазии. Тем не менее много вызывали и композитора, и балетмейстера, и исполнителей. В целом Петр Ильич остался доволен премьерой. Да и государь накануне, на генеральной репетиции призывал автора к себе в ложу и наговорил массу сочувственных слов.
А вот новая симфония, над которой Петр Ильич трудился в последнее время, принесла разочарование. Перед тем как инструментовать ее, он просмотрел внимательно свое сочинение и… понял, что оно никуда не годится. Симфония написана, абы что-нибудь написать, ничего интересного и симпатичного в ней не было. Без сожалений Петр Ильич решил выбросить ее и забыть о ней. Но если он не сожалел о мертворожденном детище, то вернулись прежние сомнения: неужели он выдохся и иссяк? Несколько дней он думал только об этом. Что же делать? Махнуть рукой и забыть о сочинительстве? Но жить без дела, поглощающего время, помыслы и силы, он был не в состоянии.
***
Довольно теплым для декабря солнечным днем Петр Ильич сошел с поезда в Монбельяре с ощущением, что он прибыл в область смерти и давно исчезнувших дней. Перед ним предстал тихий городок, который мог бы поспорить с русским уездным городишкой. Мадемуазель Фанни жила в трехэтажном доме светло-желтого цвета. Петр Ильич с колотящимся сердцем на мгновение замер у двери, не решаясь войти, встретиться с прошлым лицом к лицу. Но, взяв себя в руки, постучал. Изнутри послышалось: «Entrez»[38]38
Войдите (фр.)
[Закрыть], – и, толкнув дверь, он шагнул внутрь.
Мадемуазель Фанни встретила его в небольшой, погруженной в полумрак прихожей. Несмотря на прошедшие годы, он сразу узнал бывшую гувернантку. Она выглядела моложе своих семидесяти лет и, в сущности, мало изменилась, разве что сильно поправилась. Он боялся, что будут слезы, сцены, и уже внутренне готовился к этому. Но – ничего подобного. Мадемуазель Фанни приняла его с радостью, нежностью и простотой – так, будто они не виделись всего год.
Она провела гостя в просторную комнату, познакомила с сестрой Фредерикой, которая тоже всю жизнь работала гувернанткой, предложила чаю. И немедленно начались припоминания прошлого. Петр Ильич с громадным интересом слушал целый поток подробностей про свое детство, про мать, про Воткинск.
– А ведь я сохранила все ваши работы, Pierre, – мадемуазель Фанни достала из шкафа стопку тетрадей и положила перед ним на стол.
С внутренним трепетом Петр Ильич принялся их листать. Здесь были его собственные сочинения, работы брата Николая и Венички Алексеева, их письма. Но самым удивительным чудом были письма его матери. Вглядываясь в знакомый почерк, слушая рассказы мадемуазель Фанни, Петр Ильич до такой степени погрузился в эту атмосферу, прошлое со всеми подробностями до того живо воскресло в памяти, что, казалось, он дышит воздухом воткинского дома, слышит голоса дорогой маменьки, Венички, слуг. По временам делалось даже жутко, но в то же время сладко. Оба они едва удерживались от слез.
– Кого из братьев вы больше любите, Pierre? – вдруг спросила мадемуазель Фанни.
– Всех одинаково, – уклончиво ответил Петр Ильич.
Мадемуазель Фанни слегка нахмурилась:
– А мне казалось, вы должны больше любить Nicolas, как товарища детства.
И в этот момент он действительно почувствовал, что ужасно любит Колю, именно как соучастника детских радостей.
Пять часов пролетели незаметно. Только поздним вечером Петр Ильич откланялся и ушел в гостиницу.
Весь следующий день он вновь провел с Фанни и ее сестрой. Фредерика тоже жила когда-то в России и недурно говорила по-русски. Обе до сих пор продолжали давать уроки. Во время прогулки по городу – мадемуазель Фанни просила сделать несколько визитов к ее ближайшим друзьям и родным – каждый встречный приветствовал их с любовью и уважением.
– Почти все в этом городе – наши с Фредерикой ученики, – пояснила мадемуазель Фанни.
Только обедать она отсылала Петра Ильича в гостиницу, смущенно признавшись, что их с сестрой стол слишком мизерен и ее стесняло угощать его едой.
– Как жаль, что за столько лет мне ни разу не пришло в голову найти вас, мадемуазель Фанни, – сокрушенно произнес Петр Ильич, прощаясь с ней вечером. – Мне следовало хотя бы продолжить поддерживать переписку.
Она с улыбкой покачала головой:
– Не думайте, дорогой Pierre, что наши отношения были прерваны по вашей вине. Напротив, больше по моей. В последнем письме вы дали мне свой адрес только по-французски, и, опасаясь, что письмо по почте не дойдет до вас, я передала его профессору французского языка, возвращавшемуся в Москву. Он должен был остановиться в Санкт-Петербурге и обещал передать его вам. С этого времени я имела о вас лишь косвенные сведения.
Ни малейшей обиды на их равнодушие в ней не чувствовалось. Скорее Фанни упрекала в излишней сдержанности себя. За эти два дня Петр Ильич заново вспомнил, почему они все так любили эту женщину, обладавшую необыкновенно чистой, честной и прямой душой.
– Я благословляю Бога за ваши успехи, – произнесла она на прощание. – И мне кажется, Он ниспосылает вам вознаграждение.
Покидая Монбельяр, Петр Ильич чувствовал себя таким умиротворенным и счастливым, каким не был уже давным-давно.
На репетициях в Брюсселе пришлось намучиться. Здешний оркестр – большой и хороший – привык играть с плохим дирижером и не умел соблюдать нюансы. Добиться от них piano и pianissimo было невероятно трудно.
Зато концерт прошел блестяще, с единодушным успехом и в публике, и в прессе. Однако настроение испортилось. Сказывалась и тоска по родине, и усталость от репетиций, и бесконечные знакомства и разговоры, но, пожалуй, больше всего – разочарование в себе и страх за будущее.
***
Зима в Одессе выдалась суровая, как на севере. Море замерзло на десятки верст. Местные жители говорили, что давно ничего подобного не было. Петра Ильича встречали артисты и знакомые, среди которых он с радостным изумлением увидел Ипполита.
– Ты как здесь оказался? – спросил он, обнимая брата.
– По делам Пароходного Общества. Каково же было мое удивление, когда, приехав, я узнал, что тебя здесь ждут со дня на день!
– Меня пригласил Греков – на постановку «Пиковой дамы» в его театре.
– Да уж знаю, – улыбнулся Ипполит. – Весь город говорит об этом.
Он нисколько не преувеличивал: одесситы встречали Петра Ильича столь восторженно, что даже пражские торжества несколько лет назад бледнели по сравнению с этим приемом. Газеты чуть ли не половину своих столбцов ежедневно посвящали отчетам о каждом его шаге, его биографии, описанию его личности, рассказам о празднествах в честь него, отзывами о его концертах и дифирамбами «Пиковой даме».
Когда Петр Ильич первый раз появился на репетиции, стоило ему взойти на сцену, как раздались крики «ура», а оркестр грянул туш. При громких аплодисментах артисты подхватили его на руки и долго качали. Он был тронут, польщен и немало смущен – особенно качаниями, – но это не заставило его стать менее строгим при разучивании оперы.
Желающие видеть знаменитого композитора, всевозможные просители и почитатели раздирали его на части. В честь него организовывались парадные ужины, чествования, торжественные вечера с представителями печати, артистами и художниками, ученические концерты. Его постоянно осаждали просьбами послушать то или иное юное дарование. Так Фельдау, у которого он завтракал, воспользовался случаем, чтобы представить мальчика-пианиста Костю Думчева. Петр Ильич немало слышал об этом вундеркинде и был предубежден против него, считая, что его талант преувеличивают. К тому же ему не нравилось, что отец Кости эксплуатирует сына из корыстных целей, а не ради музыкальной карьеры. Но отказаться было невозможно.
Накануне еще и Ипполит попросил за одного из своих сослуживцев:
– Не согласишься ли послушать его дочь? Говорят, будто она удивительно одаренная пианистка. И ее отец, человек не особенно состоятельный, хочет знать, продолжать ли вести дочь по музыкальной стезе, требующей немалых средств.
Петр Ильич кивнул. Одним больше – одним меньше, какая разница.
Когда завтрак подходил к концу, прибыл сослуживец Ипполита. Тот вышел встретить его вместе с хозяйкой, и вскоре они вернулись в гостиную. Высокая худенькая девочка лет пятнадцати, уверенно осматривалась по сторонам, а отец – коренастый мужчина в военной форме – суетился над ней:
– Не трусишь ли, Шурочка?
– Нет, папочка, право нет, – уверяла она.
– Да как же нет? Дай твои ручки, – он схватил ее ладони. – Ну, вот видишь, какие они у тебя холодные.
После того как капитан и его дочь были представлены хозяину и гостям, Шурочке предложили пройти к роялю. Все расположились кругом. Девочка храбро села за инструмент, развернула ноты и начала играть. Играла она долго и в целом верно, но ужасно топорно и без души. Ипполит поглядывал на Петра Ильича с надеждой, но тот все больше убеждался, что придется разочаровать брата и его приятеля.
Тем временем раздался тихий скрип двери, ведущей из передней. Петр Ильич покосился в ее направлении и увидел, как она стала постепенно отворяться, и из-за нее появился Костя Думчев в бархатном костюме. За ним с манерой Тяпкина-Ляпкина выполз из щели его отец и замер у двери.
Между тем Шурочка яростно заканчивала пьесу. Взяв последний аккорд, раскрасневшаяся она смело встала из-за рояля и ожидала оценки своего исполнения.
Петр Ильич подошел к ней и приветливо произнес:
– Вы хорошо исполнили эту пьесу. А не могли бы вы сыграть что-нибудь на память?
– Я на память ничего не играю, – растерянно ответила Шурочка.
Странное дело. Если ее так хвалят, как же она не умеет играть без нот?
– Вы когда-нибудь пробовали подобрать понравившийся мотив? – задал Петр Ильич следующий вопрос.
Шурочка отрицательно покачала головой, все больше грустнея. Тогда он попросил ее снова сесть за рояль и вспомнить хоть несколько тактов из сыгранного только что. Шурочка совсем упала духом и посмотрела на него глазами, полными ужаса. Он повернулся к отцу, заметно страдавшему вместе с дочерью, и как можно доброжелательнее объяснил:
– Высказываться о способностях можно только, когда у человека проявляется музыкальная память. Без нее талант существовать не может. Впрочем, давайте проверим верность слуха.
Петр Ильич, попросив Шурочку отвернуться, стал ударять по клавишам, предлагая ей определить ноту по звуку. Не угадав первую, Шурочка совсем замолчала, и у нее на глаза навернулись слезы. Как ни жаль было бедняжку, но лучше уж она сразу осознает свои возможности, чем будет считать себя великой пианисткой.
Капитан поблагодарил за потраченное на них время и поспешно вывел дочь в переднюю. Петр Ильич перевел взгляд на Костю Думчева:
– Что вы можете исполнить?
– Что угодно! – самоуверенно заявил его отец. – Назначьте для Кости, что хотите – для него нет невозможного.
Петр Ильич скептически приподнял брови на такое хвастовство и назначил довольно сложную вещь. Костя, так и не произнеся ни слова, спокойно сел за рояль.
Как только он начал играть, вся предубежденность разом рассеялась. Это было великолепное исполнение: безупречное с точки зрения техники и с чувством, с душой. Забыв обо всем, Петр Ильич наблюдал за маленьким пианистом. Вот это талант – так талант, бесспорный!
Костя сыграл еще несколько серьезных вещей наизусть, а под конец – мазурку собственного сочинения. Петр Ильич осыпал его похвалами, выразив уверенность, что ему светит будущность великого пианиста. Костя смущенно выслушал его и, поколебавшись, робко спросил:
– Можно я приду завтра в театр на репетицию вашей оперы?
– Конечно! – воодушевленно ответил Петр Ильич. – Я и сам этого желаю. Приходите, приходите обязательно!
Он протянул Косте руку, которую тот все так же смущенно и даже с благоговением пожал.
***
На репетициях Петр Ильич познакомился с художником Кузнецовым, который писал его портрет. Закончив работу, Кузнецов подошел к нему:
– Мне хотелось бы преподнести вам этот портрет в качестве скромного дара от почитателя вашего таланта.
Петр Ильич заколебался. Он был польщен и тронут. Портрет, несмотря на то, что писался в спешке, вышел удивительно удачным. Возможно, не хватало законченности в деталях, зато по экспрессии, жизненности, реальности он был замечателен. Но Петр Ильич не хотел лишать художника верного заработка – на Передвижной выставке портрет можно было продать за неплохие деньги.
– Я глубоко вам благодарен, но, честное слово, не знаю, где дома держать такую большую картину, – как можно мягче, боясь обидеть дарителя, озвучил он лишь одну причину.
Кузнецов огорчился отказом, но быстро нашел выход:
– В таком случае согласитесь принять один из моих пейзажей – он гораздо меньше и лучше подходит для частного дома.
Петр Ильич с благодарностью принял этот дар.
Премьера «Пиковой дамы» стала фурором. Только первую картину приняли не особенно радушно, дальше же овации не прекращались. Петра Ильича приветствовали точно какого-то спасителя отечества.
Директор театра Греков преподнес ему клавир «Пиковой дамы» в серебряном переплете, на обложке которого красовалась гравировка:
«Вы гордость русская, чье имя так гремит