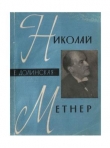Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
Но как это забавно! Написать музыку без всяких поползновений что-нибудь изобразить и вдруг узнать, что она изображает то или другое. Петр Ильич почувствовал себя Bourgeois-gentillhomme[32]32
Мещанин во дворянстве (фр.)
[Закрыть] Мольера, когда тот узнал, что всю жизнь говорил прозой. Неужели этот бред – все, что вынесли москвичи из его произведения?
Несмотря на любовь к сестре и племянникам, ему с каждым днем все тяжелее становилось жить в Каменке. Не последнюю роль играли в этом постоянные болезни сестры и общество Тани. На обеих – хотя и по разным причинам – было тяжело и больно смотреть. Петр Ильич упрекал себя в малодушии и эгоизме, но оставаться здесь дольше было выше его сил.
Постепенно Каменка перестала быть для него уютным и тихим пристанищем, где можно отдохнуть душой. Петр Ильич чувствовал себя кочевником, не имеющим нигде собственного дома, не способным устроиться в России, боящимся одиночества за границей. Это все больше тяготило его. Хотелось обзавестись собственным домиком в деревне под Москвой, и он даже поручил Анатолию поискать что-то вроде флигеля в господской усадьбе, который можно нанять и устроиться хотя бы на лето. Впервые он покидал Каменку без всякого сожаления.
В Киеве Петра Ильича встретил Анатолий, светящийся от счастья, но побледневший и похудевший. На осторожный вопрос, в чем дело, он вздохнул:
– Параше скоро рожать, и я так этого боюсь! Все кажется, будто нечто ужасное случится.
– Ну, что ты выдумываешь! – воскликнул Петр Ильич. – Это обычный, естественный процесс. Все будет хорошо.
– Обычный, да. Только вот бывает, женщины умирают при этом.
Петр Ильич сокрушенно вздохнул. Ну, что с ним сделаешь? Толя в своем репертуаре: сотворит трагедию из любого пустяка. Остается только надеяться, что со временем его страхи пройдут. Сама Параша нисколько не беспокоилась – была весела, довольна жизнью и приветлива.
***
Консерватория представляла собой плачевное зрелище: после смерти Рубинштейна дела находились в страшном беспорядке. Обязанности директора некоторое время исполнял Губерт, после него – Альбрехт. Но, будучи прекрасными музыкантами, ни тот, ни другой не обладали организаторскими и административными способностями. Начался разлад, постоянные склоки между профессорами. И если прежде Петр Ильич подумывал когда-нибудь вернуться сюда, то теперь понял: это совершенно невозможно.
Посетив шестого декабря панихиду по Николаю Григорьевичу в Даниловском монастыре, заехав на несколько дней в Петербург, Петр Ильич наконец-то отправился за границу. Какое же наслаждение гулять по берлинским улицам, не боясь встретить знакомых! И надо же было случиться, чтобы его все-таки узнали. За спиной вдруг раздался радостный женский голос:
– Петр Ильич! Какая встреча!
Резко развернувшись, он обнаружил смутно знакомую даму. Кто она такая, он вспомнить не смог, и решил сделать вид, что не понимает, о чем речь, с изысканной вежливостью ответив:
– Вы ошиблись, сударыня, я не Чайковский.
У дамы вытянулось лицо, и только в этот момент он сообразил, что она не называла его по фамилии. Страшно смутившись, он пробормотал нечто неразборчивое и сбежал.
Безмятежное настроение быстро пропало, и в последний день Берлин уже наводил уныние. Тем приятней было очутиться в Париже – единственном городе, за исключением Рима, где Петр Ильич сносил абсолютное одиночество без тоски и страха. Здесь он чувствовал себя если и не совсем как дома, то, во всяком случае, менее изолированным чем в Берлине.
И лишь ужасно медленно продвигавшаяся опера портила удовольствие. Петр Ильич строго распределил свое время: работал с утра до обеда, после – отправлялся гулять по Парижу куда глаза глядят. Так интересно было изучать разные кварталы этого огромного города, что время пролетало незаметно. После прогулок снова садился за работу – до шести часов. А вечером почти ежедневно посещал театры. Париж всегда в этом отношении представлял бездну интереса.
В один из таких вечеров – в Opéra comique, когда Петр Ильич наслаждался «Свадьбой Фигаро», в антракте он услышал, как кто-то сзади зовет его по фамилии. Сердце сжалось от мысли, что и здесь его нашли знакомые и теперь точно не удастся остаться свободным. Он был так поглощен этой тревогой, что, повернувшись, не сразу узнал окликнувшего. Им оказался великий князь Константин Николаевич.
– Давно ли в Париже, Петр Ильич? – любезно осведомился князь с улыбкой.
– Несколько дней, ваше сиятельство, – оправившись от изумления, ответил тот.
– И я недавно приехал из Италии. Ужасно люблю Париж за то, что меня здесь не замечают и можно держать себя частным человеком.
Петр Ильич согласно кивнул – он любил французскую столицу по той же причине. Великий князь держал себя просто, в каждый антракт уводил его на площадку курить и разговаривал совершенно как обычный смертный. Но как бы ни был умен и приятен этот человек, когда он изъявил желание часто видеться с Петром Ильичом, тот, испугавшись за свою свободу и опасаясь попасть в общество, солгал, что на днях уезжает. Константин Николаевич воспринял известие с огорчением: ему было приятно повидаться с соотечественником, – и, прощаясь, протянул руку:
– Что ж, очень жаль. Но надеюсь, у нас еще будет возможность пообщаться.
***
Промозглым январским утром Петр Ильич встречал Модеста на Восточном вокзале. Лил холодный дождь – с ветром, грязью на улице и свинцово-серым небом. Немногочисленные в ранний час полусонные пассажиры пытались спрятаться под зонтами, ежась от пронизывающего ветра. Раздался гудок приближающегося поезда, и люди зашевелились.
Модеста, выходящего из вагона, Петр Ильич заметил сразу и уже двинулся ему навстречу, как замер на полпути. Следом за братом на платформу спрыгнула племянница Таня, тут же принявшаяся с любопытством оглядываться по сторонам и явно пребывавшая в отличном расположении духа. Зато у Петра Ильича все радостное ожидание свидания с братом тут же сменилось чуть ли не отчаянием. Вот кого-кого, а Татьяну он видеть здесь совершенно не желал.
Модест выглядел виноватым – знал, что доставит ему огорчение, – но вместе с тем решительным.
– Извини, Петя, – заявил он после приветствий, – я не мог оставить Таню. Ей необходимо было уехать из дома: она в положении.
– Что?! – Петр Ильич потрясенно посмотрел на племянницу, которой хватило совести покраснеть и смущенно опустить очи долу.
Модест рассказал, как Таня, узнав о беременности, испугалась и пришла за помощью к нему, умоляя ничего не говорить родителям. И добросердечный Модест, конечно, не мог отказать, взяв ее с собой в Париж.
– Отец ребенка – Блюменфельд. Саша с Левой не должны знать – это убьет их. Я сказал им, что везу Таню лечиться от морфинной зависимости к знаменитому врачу Шарко.
– Правильно сделал, – согласился Петр Ильич.
Действительно, лучше держать новость в тайне. Однако теперь на несколько следующих месяцев он оказывался в положении сиделки у племянницы. Ему категорически не нравился такой поворот, но бросить Татьяну на произвол судьбы совесть не позволяла. Тем более, Модест из-за своих обязанностей по воспитанию Коли не мог остаться дольше двух месяцев, и присмотр за племянницей, как и возвращение ее в Каменку ложились на Петра Ильича. Значит, от поездки в Италию придется отказаться.
Таня наслаждалась Парижем: улицами, магазинами и общим блеском. Устроились все вместе в отеле Ришпанс, а несколько дней спустя поехали смотреть больницу в Пасси, куда собирались поместить Таню. С одной стороны открывался вид на Эйфелеву башню, с другой – на Булонский лес. Красивая, спокойная местность.
Однако хозяин заведения и его дочь приняли их так нелюбезно и показали такое ужасное помещение для Тани, что Петр Ильич с Модестом уже собирались уехать и поискать что-нибудь другое. Но стоило хозяину понять это, как его тон переменился, посыпались предложения лучших комнат, обещания превосходного ухода… Удовольствовавшись небольшой, но чистенькой комнаткой, братья заключили договор.
Вечером они привезли Таню, и тут оказалось, что комната не готова, их никто не встретил, прислуге невозможно было дозвониться. Они собиралась уезжать, когда появились и два доктора, и прислуга. Странные люди эти французы! Таня решила все-таки остаться и посмотреть, что будет.
Присутствие племянницы диктовало свой порядок жизни, к которому Петр Ильич привыкал с трудом, и сочинение опять замедлилось. Модест тоже работал – понемногу писал пьесу, и ему приходилось еще сложнее: все хлопоты и заботы о Тане он взял на себя.
Немного развеяло напавшую на Петра Ильича тоску сообщение от Анатолия о том, что Бог даровал ему дочку, которую назвали Татьяной. Но там же он писал, что Алеша при смерти – болен воспалением легких. До крайности обеспокоенный состоянием слуги, Петр Ильич попросил Юргенсона проведать его и узнать все точно, поскольку Анатолий самого больного не видел, боясь подхватить тиф, свирепствовавший в казармах, и заразить им семью.
Ответа не было долго. Петр Ильич совсем извелся от неизвестности, вообразив худшее, когда письмо от друга развеяло страхи и изрядно повеселило.
«15-го вечером я получил твое письмо от 9-го февраля и на другое утро, вооружившись одним словом «Алеша», пошел в казармы Покровские. Дорогой я был искушен духом сомнения: довольно ли пойти в казармы и спросить, где мол Алеша? Голос разума ответил: да, довольно глупо. Но неистощимый запас желания и дерзновенная мысль: как? Людей находят, не зная вовсе ни их имени или фамилии, ни их общественного положения, ни их физиономию – находят их по оторванной пуговице от штанов. А у «нас» есть: 1) крестное имя, 2) общественное положение; 3) местонахождение; 4) состояние (болезненное); 5) знакомство с лицом. Подошедши к первому крыльцу, я увидел страшилище в шубе невероятных размеров, караульного с лицом, лоснящимся от добродушия и вопрошающего меня:
«Вам кого?»
Юргенсон (немного конфузливо): «Скажите, как бы мне тут найти одного солдатика «Алешу»?
«Как его хвамилия?»
Юргенсон (краснея): «Не знаю».
«Какой роты?»
Юргенсон (краснее краснея): «Не знаю».
Страшилище (снисходительно): «Какого полка, тоже не знаете?»
Юргенсон (бодрясь): «Я все это знал, но все забыл. Знаю только, что его зовут Алеша, что он нечто вроде унтер-офицера, наверное болен, и его бывший барин о нем сокрушается».
Страшилище (участливо): «Не Софронов ли?»
Юргенсон (восторженно): «Непременно!»
Страшилище: «Екатеринославского полка».
Юргенсон (подавляя желание броситься караульной шубе на шею): «Это он! Это он!»
Далее уже более серьезно Петр Иванович сообщал, что с Алешей все в порядке – болезнь не так страшна, как вообразил Толя, и скоро он снова будет в строю. Посмеявшись, Петр Ильич успокоился за участь своего слуги.
Погода установилась ужасная: снег, метели, холодный, пронзительный ветер. И душевное состояние под стать. Заботы о Тане отнимали много времени и сил, работа шла тяжело, спал Петр Ильич плохо.
Так прошла зима.
По католическому календарю наступила Страстная суббота. Но какие же нехристи эти французы! В такой день не только все магазины, рестораны и кабаки были открыты, но и в театрах везде шли представления. В России подобное было немыслимо.
Постепенно Петр Ильич свыкся с новым ритмом жизни, опера начала продвигаться. И тут, как назло, пришел заказ из Москвы на торжественный марш для исполнения на празднике, который давался государю в Сокольниках. Едва Петр Ильич успел примириться с тем, что нужно оторваться от оперы для марша, как коронационная комиссия прислала текст большой кантаты Майкова с убедительной просьбой написать к ней музыку. Первая мысль была – отказаться. Но по зрелом размышлении он решил, что непременно надо выполнить обе работы к сроку. Ведь государь расположен к нему, и совсем не хотелось, чтобы ему донесли, будто Петр Ильич отказался. Близость сроков приводила в ужас: прислать готовую музыку следовало не позднее семнадцатого апреля. Пришлось забросить бесконечно длящуюся оперу и заняться сочинением марша и кантаты.
К счастью, работа пошла легко и не стоила ни малейшего напряжения. А отдыхом служило посещение театров. Четыре раза Петр Ильич смотрел «Свадьбу Фигаро» Моцарта в Opéra comique в превосходном исполнении. Что у французов не отнимешь – так это отличное исполнение и великолепные постановки. Каждый раз он восхищался светлым гением Моцарта: до чего же эта музыка божественно хороша в своей непритязательной простоте!
Приятной неожиданностью стало посещение «Ромео и Джульетты» Гуно. Прежде Петр Ильич знал эту оперу по давнему представлению в Москве и был о ней невысокого мнения. А тут вдруг был тронут до слез. Шекспир ли, несмотря на либреттную кройку, давал себя чувствовать, или музыка Гуно в самом деле была хороша, но давно уже он не испытывал такого удовольствия.
***
– Модя, тебе надо возвращаться в Петербург!
Модест поднял голову от пьесы, над которой работал, и посмотрел на брата со смешанным выражением беспокойства, жалости и облегчения. И все же упрямо ответил:
– Я не могу бросить тебя здесь одного с Таней.
– Не маленький – справлюсь, – отмахнулся Петр Ильич. – Я же вижу, как ты тревожишься о Коле. Тебе надо быть с ним. Того и гляди заболеешь от всех переживаний – вон уже на привидение стал походить.
Модест действительно за последнее время сильно осунулся и побледнел, разрываясь между стремлением вернуться к воспитаннику, оставленному в Петербурге, и нежеланием бросать на Петра Ильича Таню. Так дальше продолжаться не могло.
Модест слабо улыбнулся, поспорил немного, но быстро сдался. Правда, беспокоиться он не перестал, и, чтобы его утешить, Петр Ильич добавил:
– В моем вынужденном пребывании в Париже есть и хорошая сторона – я здесь закончу мою бесконечную оперу и вернусь в Россию с чистой совестью.
После отъезда брата Петр Ильич заскучал, но работа и необходимость заботиться о Тане не давали совсем затосковать. На следующий же день он проведал племянницу, однако его не пустили, заставив ждать в приемной. Он перебрал сотню предположений, что могло случиться. Не стало ли Тане хуже – ведь она одновременно проходила лечение от морфинной зависимости, дававшееся крайне тяжело.
Наконец, появилась Лизавета Михайловна – Танина компаньонка – чудесная женщина, с великой преданностью заботящаяся о своей подопечной. Лизавета Михайловна казалась сконфуженной и огорченной.
– Что такое? – встревоженно спросил Петр Ильич.
Та сокрушенно покачала головой:
– Татьяна Львовна плохо спала, сейчас не в духе, требует лишнего морфина и объявила, что никого не желает видеть. И не собирается торопиться одеваться из-за вас, – заключила она извиняющимся тоном.
Можно подумать, он просил ее торопиться! Таня обладала удивительной способностью сводить с ума своими выходками. Вроде и не плохая девочка, и жалко ее, а порой хочется плюнуть на все и уехать.
Десятого апреля началась Страстная седмица уже по православному календарю. Впервые Петру Ильичу приходилось встречать эти святые дни за границей, что стало для него громадным лишением. С детских лет он особенно любил Пасху, и так хотелось быть сейчас в России! Конечно, и в Париже были русские церкви, но это совсем не то.
Погода в конце апреля установилась чудная. Он наконец-то закончил оперу – осталось только либретто переписать. И в свой день рождения Петр Ильич погулял по Парижу, купил лекарство для Тани и к трем часам пришел навестить ее.
Лизавета Михайловна из окна увидела его и выбежала навстречу с приветствием:
– Поздравляю вас!
Он замер, не смея поверить счастью:
– Как, неужели?
– Сегодня ведь ваше рождение! – пояснила Лизавета Михайловна.
Видимо, разочарование ярко отразилось на его лице, поскольку она поспешила добавить:
– Не беспокойтесь – скоро и у нас будет!
Таня на этот раз вышла к нему, выглядела хорошо и чувствовала себя отлично. А на следующий день начались схватки. Сейчас же послали за мадам Жильбер, которая принялась расспрашивать пациентку о самочувствии, удивляясь, что так долго не начинается.
– Дядя Петя, съезди к Тарнье, – произнесла Таня, тяжело дыша, и вдруг со стоном поспешно сказала: – Уходи, уходи!
Петра Ильича выдворили из палаты и, взяв от мадам Жильбер инструкцию, как добраться до Тарнье, он полетел на улицу Дюфо. Доктора пришлось долго ждать, поскольку у него сидела дама, и каждую минуту промедления волнение возрастало. Наконец, Тарнье вышел.
– В котором часу началось? – спокойно спросил он.
– Около четырех утра.
– Хорошо, – казалось, доктор доволен этим фактом. – Я скоро отправлюсь. Не беспокойтесь – все будет в порядке.
Прежде бывало закрадывалась мысль, что для Тани, может, лучше, если б она умерла при родах – вся ее жизнь стала сплошным мучением. Но сейчас, представив себе горе отца и матери, Петр Ильич начал невыразимо бояться такого исхода. Пусть будет, что будет, лишь бы жива осталась!
В пансионате навстречу выбежала Лизавета Михайловна, замахав на него:
– Не ходите, не ходите!
Но он успел услышать доносившиеся ужасные крики, каких еще ни разу не слышал. Сердце сжалось от ужаса. Однако Лизавета Михайловна заверила, что все идет хорошо, и ему лучше сейчас уехать.
В страшном беспокойстве он провел вечер и бессонную ночь, чтобы на следующее утро снова отправиться к племяннице. Лизавета Михайловна встретила его счастливой улыбкой, и от сердца сразу отлегло.
– Поздравляю! Родился здоровый мальчик.
На этот раз ему позволили повидать Таню. Она лежала на кровати, а рядом с ней спокойно спал ребенок, показавшийся Петру Ильичу поразительно большим. Как ни странно, он сразу почувствовал к этому малышу, причинившему всем столько тревог, невыразимую нежность и желание быть его покровителем. Таня пребывала в прекрасном настроении, чувствовала себя отлично и, что поразило Петра Ильича, нисколько не огорчалась предстоящей разлукой с сыном.
– Я бы даже хотела, чтобы он побыстрее уехал, – с потрясающим равнодушием заявила она.
Непостижимое существо! И мысль о том, что дома ей придется жить в целом омуте лжи, ни капли ее не смущала!
Ребенка назвали Жоржем-Леоном. В тот же день сделали свидетельство о рождении и подобрали семью, в которую собирались его поместить. Однако Петр Ильич хотел через год забрать мальчика в Россию.
На следующий день он отвез Жоржа к кормилице, оставшись доволен чистеньким помещением, ее детьми и той заботой, какую она сразу проявила к порученному ей ребенку. Когда со всеми делами было покончено, он начал собираться на родину, оставив Таню на попечение Лизаветы Михайловны. Ей предстояло еще некоторое время провести в пансионе, чтобы полностью поправиться.
На содержание, обустройство племянницы и ее ребенка ушло невероятное количество денег. Петр Ильич едва сводил концы с концами, приходилось занимать у всех подряд. Дошло до того, что ночами ему снились деньги и какие-то счета. Не осталось буквально ни копейки, а ведь Таню надо на что-то содержать в пансионе еще пару недель как минимум. От всего этого голова просто раскалывалась – он не представлял, что делать и как выкрутиться из положения.
Измученный и опустошенный, в начале мая он покинул Париж.
***
Никогда еще Петербург не казался столь приятным. Большинство знакомых и дальних родственников разъехалось. Погода стояла чудесная. Приятно было обернуться назад и видеть много горестных минут, часов и дней, отошедших вдаль прошлого. Впереди ждал отдых и спокойная жизнь в деревне с Анатолием. И только мысль о Каменке немного смущала. Петр Ильич слишком привык проводить большую часть жизни в семье сестры, и грустно, что теперь этого уже не будет.
Подушкино – подмосковная дача Анатолия – очаровала его с первого взгляда: холмы и леса, полнейшая тишина, река неподалеку. Одноэтажный желто-белый усадебный дом был не слишком велик, но уютен и симпатичен. Еще подъезжая к нему, из окна кареты Петр Ильич разглядел стоявших на пороге Толю и Паню. А рядом с ними – Алешу, получившего отпуск на полгода, которые он мог провести с барином.
Брат приятно удивил отсутствием обычной суетливости – он стал гораздо спокойнее. Теплые радостные приветствия не носили теперь прежнего оттенка болезненной нервозности. Сиявшая счастьем молодая мать, конечно, немедленно повела гостя любоваться своей дочкой – прелестным здоровым ребенком. Петр Ильич с умилением держал на руках это крошечное существо, чувствуя, что уже любит ее всем сердцем. Все-таки дети – одно из лучших украшений жизни. Они быстро подружились. Танюша оказалась большой любительницей музыки – с удовольствием слушала, как дядя играет, и плакала, когда он переставал.
И все же в Толе чувствовалось напряжение. На вопрос в чем дело, тот тяжело вздохнул:
– Я неправильно понял текст манифеста и выпустил из смирительного дома тридцать восемь человек, не имевших на то права. Просто не знаю, что теперь делать. Я погибший человек…
Анатолий смотрел на брата совершенно несчастными глазами.
– Не преувеличивай, – покачал головой Петр Ильич. – Я слышал, в Петербурге было допущено несколько подобных ошибок, и ничего страшного с виновными не случилось.
Его это, конечно же, не успокоило, и он продолжал нервничать и убиваться еще несколько дней, пока не получил подтверждения от начальства, что карательных санкций не последует. Даже добродушная снисходительная Паня однажды поинтересовалась:
– Толя всегда был таким мнительным?
Петр Ильич кивнул:
– Слишком богатое воображение. А что?
– Да вот как раз незадолго до твоего приезда он слегка простудился и вообразил, что едва ли не умирает. Прислугу на уши поставил, меня чуть с ума не свел. А на самом деле болезнь была сущие пустяки.
Петр Ильич рассмеялся:
– Очень в его духе! Но я заметил, ты хорошо на него влияешь, Паничка: в последнее время Толя стал гораздо спокойнее.
– Надеюсь, – Паня задорно улыбнулась.
Петр Ильич с упоением отдался отдыху: наслаждался красотами природы, целыми днями странствуя по лесам. Увлеченно собирал грибы, которые стали для него настоящей страстью. С каждым днем он все больше восхищался местностью. Вот только немножко страшно было ходить в лес – здесь водились волки, и говорили, будто в прошлом году бешеная волчица до смерти закусала дочь священника. Тем более что грибная страсть порой заводила в далекие лесные чащи.
Однако праздность быстро начала тяготить, и Петр Ильич стал подумывать о новом сочинении. Захотелось написать что-нибудь симфоническое. Заниматься в Подушкине было удобно, если бы не постоянные гости, далеко не всегда приятные и близкие. Однажды Анатолий даже повез брата на раут к товарищу министра.
– Я понимаю, что ты не любишь такие мероприятия, – с жалобным видом уговаривал он, – но мне это очень важно по службе!
И Петр Ильич не мог отказать брату, особенно когда он смотрел так умоляюще.
Народу на рауте собралась тьма-тьмущая. Все подходили, знакомились с композитором Чайковским, все считали своим долгом сказать ему две-три фразы о его сочинениях, всякому он должен был пожать руку, приятно улыбнуться, делать идиотское лицо. Но самым ужасным испытанием стало пение хозяином дома романсов Петра Ильича. И ведь надо хвалить и считать себя польщенным!
– Прости, – пробормотал Толя, когда они ехали домой.
Он только отмахнулся: чего уж теперь!
***
«Мазепу» приняли к постановке одновременно и в Москве, и в Петербурге. Не пришлось не только хлопотать, но даже и представлять оперу в театр: дирекция сама обратилась к Петру Ильичу. Москва с Петербургом даже боролись за право первой постановки. Он выбрал Москву, чтобы как можно дольше не возвращаться в столицу. Да и состав здешней оперы был ничуть не хуже петербургского. Приятно удивляло, но вместе с тем приводило в недоумение усердие, старание, почти энтузиазм, с которым весь театральный мир относился к «Мазепе». Единственное приходящее в голову объяснение – желание государя, чтобы оперу поставили как можно лучше.
После театра Петр Ильич зашел в консерваторию. Прошлой зимой Губерта отстранили от должности директора. И это было бы справедливо, если бы одновременно Николая Альбертовича не заставили бросить службу в консерватории, которая давала ему средства к жизни. Петр Ильич пытался добиться, чтобы Губерта вернули на должность профессора. Но ему тут же высказали тысячи препятствий к этому. А сколько пришлось наслушаться нареканий, сплетен, дрянных мелких дрязг! Как горько было видеть, что родная консерватория после смерти Рубинштейна превратилась во вместилище интриганства.
До отъезда еще оставалось время, и Петр Ильич зашел к своему издателю и впервые поссорился с ним. Не то чтобы они по-настоящему поругались, но все-таки разговор вышел неприятным. Юргенсон принес счет, и каково же было изумление Петра Ильича, когда он увидел, что за «Мазепу» ему назначена всего тысяча рублей! Страшно возмущенный такой несправедливостью, он решил отстоять свои права.
– Ты знаешь, что я никогда не спорил с тобой относительно гонораров, – как можно сдержаннее начал Петр Ильич, постепенно все больше приходя в волнение, – да и случаев не было спорить. Напротив, мне порой казалось, что ты слишком щедро мне платишь. Но сейчас не могу оставить без протеста цену за «Мазепу». За «Орлеанскую деву» я и то получил больше. Теперь четыре года прошло, и корректуру я сам делал…
Петр Иванович выслушал его абсолютно спокойно, по-видимому, нисколько не задетый, и благодушно спросил:
– Так сколько ты хочешь?
Вся злость и возмущение немедленно испарились. Обезоруженный подобной уступчивостью Петр Ильич немного смущенно заключил:
– За право собственности – две тысячи, за переложение – триста, за корректуру – сто. Думаю, это справедливая цена. Ты не сердишься?
Юргенсон улыбнулся:
– Нисколько. Мне никогда не нравилась роль оценщика твоих пьес, и я рад, что ты пользуешься правом самому назначить вознаграждение. Так будет в сто раз лучше.
На этом инцидент был исчерпан.
***
В Каменке Петра Ильича радостно встретили Лева и Тася. К обеду же из Вербовки приехали все остальные, кроме Тани. Вопреки своим страхам, он был рад видеть родных и сразу почувствовал себя как дома. К его облегчению, Саша выглядела хоть и не совершенно здоровой, но заметно поправившейся. Вера и Анна радовали взор своими счастливыми лицами. Хоть кто-то в этой семье по-настоящему счастлив. Верина дочка, которую назвали Ириной, показалась Петру Ильичу грубоватой, и первое впечатление сложилось совсем не такое, как хотелось бы. Но постепенно Рина все больше и больше завоевывала его симпатии и стала казаться милым ребенком. Вскоре она уже не сходила у него с рук, так что малейшая попытка отнять ее, заставляла Рину плакать.
И даже Таня, когда они приехали в Вербовку, оказалась в отличном расположении духа, объяснявшимся решением отпустить ее на зиму в Париж. Однако уже на следующий день она лежала в состоянии полного нервного расстройства, сводя с ума мать и заставляя ее проливать потоки слез. Промучившись несколько дней и изведя всех окружающих, Таня переехала в Каменку – поближе к доктору. Перемены обстановки, на время занявшей ее, оказалось достаточно, чтобы болезнь как рукой сняло. И это лишний раз доказывало, что все Танины болезни происходили от полнейшего безделья.
Традиционно Петр Ильич стал поверенным в заботах и надеждах своих племянников. Первой к нему пришла Таня.
– Представляешь, папенька в Киеве виделся с Блюменфельдом и даже провел у него вечер, – пожаловалась она. – Мне убийственна мысль, что он дружески подает руку этому негодяю и подлецу, обесчестившему меня!
– Но согласись, если бы Блюменфельд отворачивался или слишком явно избегал Леву, было бы еще хуже. Он ведь мог начать подозревать правду, – возразил Петр Ильич, пытаясь успокоить взвинченную племянницу.
Таня задумалась и медленно кивнула:
– Да, пожалуй, ты прав, – и, резко сменив тон, заявила: – Керн будет провожать меня до Парижа. Кажется, я ему нравлюсь.
Петр Ильич сокрушенно покачал головой: опять начинается метание от одного жениха к другому. Похоже, жизнь ничему не научила эту девочку.
– Я бы тебе советовал не торопиться.
Таня беспечно пожала плечами:
– А еще я хочу взять Жоржа от кормилицы и поместить к родственникам Беляров.
– Зачем? Оклеры прекрасные люди, и ему хорошо там.
– Потому что, если я выйду замуж, я заберу его к себе.
Планы, планы… суждено ли им осуществиться? Когда Таня уехала за границу, Петр Ильич и радовался, и одновременно боялся за нее, жалея несчастную девушку.
Следующими стали Аня с Колей. Отведя его в сторону, они таинственно сообщили, что имеют одно пламенное желание.
– Исполнение этого желания зависит от маменьки, – начал Коля, – но сам я не решаюсь обратиться к ней с просьбой. Не могли ли бы вы, Петр Ильич, походатайствовать перед ней за нас?
– И что за желание? – улыбнулся он.
Одно удовольствие на них смотреть, так они были счастливы и непринужденны – просто созданы друг для друга.
– Мы хотим приблизить срок свадьбы, – сказала Аня, – перенести венчание на двадцатые числа апреля. Раз уж Коля оставил институт и начинает службу – зачем тянуть?
Петр Ильич посчитал их просьбу обоснованной и обещал походатайствовать перед Надеждой Филаретовной. И вскоре в Вербовке пышно и торжественно провели обручение, после чего Коля уехал на Николаевскую железную дорогу, а Аня – в Петербург на всю зиму.
К октябрю семья вернулась в Каменку, где для Петра Ильича устроили отдельные три комнатки с камином, и он мог наслаждаться уединением. Занимался он усердно, однако сюита продвигалась с трудом. Свободное время Петр Ильич посвящал изучению английского языка – очень уж хотелось почитать Диккенса в подлиннике.
Он как раз занимался, когда убиравшийся в комнате Алеша с непонятной обидой заявил:
– Вот вы, Петр Ильич, никогда мне секретов не рассказываете, а я все равно все знаю!
– О чем ты? Какие секреты? – нахмурился он, уже догадываясь, что речь о Татьяне.
Алеша одарил его взглядом: «А то вы не знаете!» – и пояснил:
– Степан мне давеча сказывал, что Лев Василич не посмеет его прогнать, потому как он знает тайны, которые нельзя разглашать. Прошлым летом Блюменфельд ходил к Татьяне Львовне – Степан видел это. Она забеременела и уехала рожать в Париж, а теперь поехала устраивать ребенка. А еще он сказывал, что весь Киев об этом знает и Блюменфельд на балу об этом громко говорил.
Петр Ильич в ужасе уставился на слугу.
– Нет… Не может же он быть бесчестен до такой степени…
– Я тоже так не думаю, – поспешил Алеша успокоить барина, – кроме Степана больше никто из прислуги не знает.
Петр Ильич перевел дыхание, но тревога осталась: слишком много народу было в курсе этого дела. Какой будет ужас, когда слухи дойдут до родителей! И так уже Саша будто чувствует что-то недоброе. Недавно она до полусмерти испугала Петра Ильича странным высказыванием о Блюменфельде, заставляющим думать, что она обо всем догадалась.