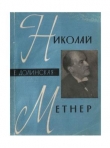Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
В сцене на гауптвахте, при чудном исполнении хора «Молитву пролию ко Господу» в момент появления призрака графини Фигнер, изображая ужас Германа, нечаянно скинул со стола подсвечник с горящей свечой. Подсвечник покатился по полу и, как нарочно, остановился под краем занавеса заднего плана. Свеча продолжала гореть, и, конечно, внимание публики, привлеченное звуком падения подсвечника, сосредоточилось на пламени и на начавшей дымиться завесе. К счастью, учитель сцены Палечек вовремя отреагировал: просунув руку под занавесом, он убрал подсвечник.
В остальном же репетиция стала триумфом и композитора, и исполнителей, и постановки. Особенный эффект произвела декорация спальни графини. Многие не хотели верить, что она вся написана на одном плане. Даже ходили нарочно за кулисы, дабы убедиться в том, что на сцене, кроме кресла графини, нет никаких предметов, а все – и альков, и кровать, и ширмы, и прочая мебель – написано на одной завесе.
Когда же после бурных аплодисментов, криков «браво» и одобрительных слов государя, театр опустел, начался разбор полетов. Всеволожский был взбешен и настаивал на применении к Фигнеру самой тяжелой меры взыскания: увольнения со службы. Ему возразил Погожев:
– Я понимаю ваш гнев, Иван Александрович, и согласен, что Николая Николаевича следует наказать, но не увольнять же! Мы потеряем талантливого певца, любимца публики, делающего большие сборы. Такая потеря может неприятно отразиться и на интересах самой Дирекции, и на представителях администрации.
Петр Ильич горячо поддержал его:
– В самом деле – Николай Николаевич ведь не нарочно это сделал. Напротив, хотел как лучше. Нельзя же столь сурово наказывать его за несчастную случайность. Добро бы еще это повлекло за собой неприятные последствия, но государь проявил добродушие и снисхождение. И лично я не хочу терять такого исполнителя, уже принесшего моей опере успех.
Всеволожский – в сущности, человек добрейшей души – скоро остыл и согласился с их доводами, переменив гнев на милость. Взыскание ограничилось служебным выговором.
Ни одна опера Петра Ильича на первом представлении не была исполнена так прекрасно, как «Пиковая дама». Каждый певец блеснул выдающейся стороной своего дарования. Ни разу, ни в чем не было места сожалению, что партия не в лучших руках. Направник в управлении оперой, Фигнер в роли Германа превзошли себя. Декорации и костюмы, верные до мелочей эпохе, изящные, роскошные в картине бала, поражающие богатством фантазии, были на высоте музыкального исполнения.
Успех, заметный с первой же картины, дальше только увеличивался. Много вызывали автора и исполнителей. И лишь пресса по обыкновению выразила недовольство. Одни говорили, что «в деле инструментовки он вдохновенный поэт, что же касается до самой музыки, то Чайковский во многом повторяет самого себя, не брезгуя воспоминаниями о других композиторах». Другие находили, что «новая опера явилась наиболее слабым произведением из всего, до сих пор написанного Чайковским в этой области». Третьи, кое-что поругивая, приходили к выводу, что частности берут верх над главным, эффекты – над сюжетом и «внешний блеск – над внутренним содержанием».
Петра Ильича эти статьи ни капли не задели: видно, не судьба ему завоевать признание петербургской прессы.
Накануне отъезда Дирекция театров заказала ему одноактную оперу и двухактный балет для следующего сезона. Он согласился, но тут же охватили сомнения: разумно ли браться за это предложение, когда последнее его сочинение секстет «Воспоминание о Флоренции» вызвало такое разочарование? Правда, первые две части друзьям понравились, но вот остальное… Петр Ильич тогда сильно расстроился, решил их переделать. Однако в голове была полная пустота и желания работать ни малейшего. Тем не менее он предложил Модесту взяться за либретто для оперы на сюжет драмы Герца «Дочь короля Рене» – и сразу же уехал в Киев, где тоже ставили «Пиковую даму».
Ужасно странное ощущение: вновь присутствовать при налаживании той же самой оперы, притом в маленьком и сравнительно бедном театре. Поражали крошечные размеры сцены, бедность и теснота обстановки. Зато порадовали усердие и общее воодушевление артистов, прекрасно разучивших партии, благодаря чему репетиции проходили без затруднений. Необыкновенное впечатление произвел хор мальчиков Калишевского, приглашенный для исполнения кантаты и панихиды. Их голоса достигали такой красоты звука, о какой Петр Ильич и мечтать не смел. Особенно в панихиде – каждый раз он едва удерживался от слез.
В Киеве его авторская гордость получила полное удовлетворение. По восторженности приема даже смешно было сравнивать с Петербургом. Это было нечто невероятное: фурор в полном смысле слова. Автора вызывали много раз уже после первой картины. В течение дальнейших шести картин овации шли крещендо. В антракте после второго действия занавес неожиданно поднялся позади стоявшего у рампы Петра Ильича, и он оказался окруженным всем персоналом труппы, которая поднесла ему роскошный серебряный венок.
Отметив новый год с семьей сестры в Каменке, Петр Ильич вернулся во Фроловское. Встретивший его Алексей был болезненно-бледен и беспрестанно кашлял, чем сильно испугал барина. На встревоженные расспросы он отмахнулся:
– Ерунда – уж прошло почитай. Вот пока вас не было, и впрямь было худо: из-за кашля я и говорить-то не мог. Но мне посоветовали одного местного знахаря, и он поставил меня на ноги.
– Чем же он лечит тебя? – спросил Петр Ильич, с каждой подробностью беспокоясь все больше.
– Наливкой и приемами горчицы! – довольно сообщил Алексей.
И хотя держался он бодро и весело, его кашель сильно тревожил, а странные средства лечения упомянутого знахаря нисколько не успокаивали. А вдруг Алеша заразился чахоткой от покойной жены и теперь умирает? Надо бы на зиму увезти его куда-нибудь на Ривьеру.
Пока же приходилось оставаться дома из-за срочной работы над «Гамлетом». Собственно работа состояла в кромсании уже написанной увертюры-фантазии ради приспособления ее к скромным возможностям крошечного оркестра драматического театра. Когда Петр Ильич попросил увеличить состав оркестра, ему обещали прибавить еще семь человек – на большее просто не было места. А ни одну работу он так не ненавидел как переделывание старого произведения, особенно когда его приходится урезать. «Гамлет» вызывал такое отвращение, что Петр Ильич начал чуть ли не ненавидеть Гитри, по просьбе которого и писал музыку к спектаклю.
Ради предстоявшей затем работы над оперой и балетом он отказался от поездки в Европу и собирался отказаться от Америки, но в последний момент передумал. Было бы безумием не поехать при столь выгодном и необременительном предложении.
***
К концу января Петр Ильич разделался с опостылевшим «Гамлетом» и занялся исправлением партитуры «Пиковой дамы». Из Праги пришло лестное предложение поставить оперу на сцене Национального театра, и хотелось послать им ноты без ошибок, которыми неизменно изобиловало первое издание.
Заехал в гости Модест по пути в Москву, где он хотел посмотреть на Савину в своей «Симфонии». Обратно брат вернулся довольный – пьеса пошла в гору. Он уже работал над новой – «Похмелье», как раз для бенефиса Савиной. С радостью Петр Ильич видел, как Модест становится модным поставщиком пьес для театров.
Вместе они вернулись в столицу, где Петру Ильичу предстояло дирижировать в благотворительном концерте в пользу школ Санкт-Петербургского женского патриотического общества. Подобные концерты не имели серьезного музыкального значения, и зал Дворянского собрания наполнялся исключительно благодаря приманке итальянских певцов и знаменитейших виртуозов. Сознавая бессмысленность своего участия в концерте, Петр Ильич тем не менее не мог отказаться от приглашения великой княгини Екатерины Михайловны.
Отбыв скучную обязанность, он направился в Дирекцию театров, где, поднимаясь по мраморной парадной лестнице, встретил главного режиссера Кондратьева.
– А, Петр Ильич! – ласково улыбнулся тот и тоном, будто сообщает необычайно приятное известие, спросил: – Вы знаете, что «Пиковая дама» больше не пойдет в этом сезоне?
Петр Ильич застыл как громом пораженный. С самого приезда в Петербург до него доходили слухи, будто «Пиковая дама» снята с репертуара. Но это известие казалось ему столь невероятным, что он отказывался верить. Однако если главный режиссер говорит… Он онемел, почувствовав себя глубоко оскорбленным. Как могут оперу, которую он считал лучшим своим детищем, которую все близкие к театру лица считали украшением репертуара, вдруг отбросить в сторону в разгар сезона, точно негодный балласт?
– Почему? – спросил он, обретя дар речи.
Кондратьев пожал плечами:
– Говорят, распоряжение свыше.
Ничего более толкового Петр Ильич от него добиться не смог. Раздраженный, в крайнем возмущении, он появился в кабинете Всеволожского. Тот, напротив, пребывал в самом благодушном настроении и сразу завел речь о новых опере и балете.
– Модест Ильич говорил, что сюжетом для оперы вы хотите взять «Дочь короля Рене», и я вполне одобряю ваш выбор. А вот для балета я предложил бы «Щелкунчика»…
– Прежде чем обсуждать новую работу, Иван Александрович, – перебил его Петр Ильич, – я должен понять, что происходит с «Пиковой дамой».
Всеволожский обреченно вздохнул – он явно ожидал этого разговора, но надеялся его избежать.
– Поймите, – продолжил Петр Ильич, – денежная сторона дела есть меньшая из моих забот, и мной в данном случае руководит вовсе не чувство сожаления об утрате нескольких сотен рублей. С радостью отказался бы я вовсе и навсегда от доходов с любимого детища, лишь бы только ему было оказано подобающее серьезному и выходящему из ряду вон произведению внимание и почтение. И мне необходимо хоть какое-нибудь разумное объяснение. Иначе я не могу с должным спокойствием приняться за новую работу для того же самого театра, на подмостках которого мое лучшее и любимейшее произведение постигла столь жалкая и незаслуженная судьба. Единственное, что могу предположить – неодобрение государя. Мне говорили, будто он не был ни на одном представлении. А если государь не поощряет мои труды на пользу театра, то могу ли я с любовью, с потребным спокойствием и охотой работать для учреждения, в коем он хозяин? Не лучше ли мне от театра отдалиться?
Всеволожский на эту страстную речь сокрушенно покачал головой:
– Что вы, Петр Ильич, откуда столь мрачные мысли? «Пиковая дама» государю понравилась, и я даже получил приказание приготовить фотографический альбом всех персонажей и сцен для его величества. А то, что он не был на последних представлениях, так могу передать вам его собственные слова: «Жаль, я не знал, что Медея пела в последний раз, я бы приехал». Государь живо интересовался оперой, расспрашивал насчет замены Медеи Сионицкой; сожалел, что Мравина не может петь Лизу, – помолчав, Иван Александрович смущенно заключил: – Тут я немного виноват. Я опасался, что хорошее впечатление, произведенное Медеей, повредит успеху оперы с Сионицкой. А тут еще Кондратьев сбил: как и куда вставить «Пиковую даму» так, чтобы она не шла в абонемент. Уверяю, опера возобновится в следующем сезоне – вам совершенно не о чем беспокоиться.
Его заверения немного успокоили Петра Ильича – во всяком случае, в том, что касалось страхов насчет враждебности императора. И все же неприятный осадок остался. Он согласился на написание «Щелкунчика» и «Дочери короля Рене» к следующему сезону, не испытывая особого воодушевления и опасаясь, что с предстоящей поездкой в Америку на сочинение не хватит времени.
Ради премьеры пьесы Модеста «Похмелье» он задержался в Петербурге еще на несколько дней. Надежды на успех не оправдались. Публика восприняла новое произведение необычайно холодно – не раздалось ни единого хлопка. Модест был страшно расстроен и подавлен. А когда, на втором представлении, история повторилась, сам попросил снять пьесу с репертуара. Домой он вернулся убитый и разочарованный в своем даровании драматурга.
Больно было видеть брата в таком состоянии – как никто Петр Ильич понимал уязвленные авторские чувства. И он по-прежнему считал, что «Похмелье» – стоящее сочинение.
– Не отчаивайся так, – попытался он утешить Модеста. – Пьеса имеет огромные достоинства и свое возьмет. Надо только поработать над концом. Ох, уж эти концы – вечно они у тебя все портят!
Модест уныло пожал плечами:
– Может, просто драматургия – это не мое?
– Вот это ты брось, – Петр Ильич сердито нахмурился. – Посмотри: в «Новом времени» вышла обстоятельная статья – совсем не враждебная. Уверен, твое время придет. Если бы я сдавался после каждой неудачи, давно бы уже бросил сочинение.
Модест немного приободрился:
– Ты прав, как всегда. Я даже знаю, что можно изменить в финале.
Воодушевившись, он умчался в свой кабинет. Петр Ильич усмехнулся, покачав головой – и перепады настроения совсем как у него. Ощущение «Я написал действительно стоящую вещь» моментально сменяется ощущением «Я бездарь, у меня никогда ничего не получится». И наоборот. Как они все-таки с Модестом похожи!
***
Алексей успел вновь жениться – на милой бойкой девушке Катерине. Свадьба состоялась в годовщину смерти Феклуши, так что с утра служили заупокойную обедню, а вечером венчались. Катя была портнихой, деятельной и гораздо более смелой, чем тихая, боязливая Фекла. Всегда улыбалась, на вопросы барина отвечала бойко. Алексей светился от счастья.
Сразу по возвращении домой Петр Ильич засел за работу, стремясь сделать как можно больше до начала турне. И даже почти примирился с сюжетом балета.
***
В поезде Петр Ильич немножко сочинял балет, но вскоре на него напала невыносимая тоска. Страшно хотелось бросить все и немедленно вернуться на родину.
В Берлине было морозно, улицы покрыл густой слой снега. Единственной целью остановки здесь было свидание с Вольфом – устроителем поездки в Америку. Он подробно обрисовал предстоящие концерты, заверил, что обо всем договорился. А заодно посоветовал ехать на немецком, а не французском пароходе.
В Париже уже месяц жил Модест, и Петр Ильич остановился в той же гостинице, однако брата не застал. Он так устал от заграничной тоски и переезда, что решил не дожидаться его возвращения и лег спать, попросив прислугу, чтобы его не будили.
Только утром они встретились. Радость от свидания с братом, по которому Петр Ильич соскучился, была какой-то отстраненной, погребенной под меланхолическим настроением, мучавшим его с самого отъезда из России. Кажется, Модест был слегка задет прохладной встречей.
– Почему не предупредил о приезде? – спросил он. – Я бы встретил тебя на вокзале.
Петр Ильич пожал плечами:
– Извини – забыл, – и с недоумением добавил: – Поражаюсь тебе: как можно столько времени жить за границей, не будучи к тому вынужден?
Модест обеспокоенно нахмурился:
– Ты в порядке?
– Да, не беспокойся, – отмахнулся Петр Ильич. – Просто стар я стал для таких поездок. Клянусь: это последнее мое турне. Больше никаких путешествий.
Модест скептически приподнял брови, не убежденный его заверениями. Да и действительно: сколько раз уже он говорил, что бросит дирижировать – а все продолжал.
С первого же дня закружила светская жизнь. Не оставалось ни одной свободной минутки даже для того, чтобы побыть с братом. Лишь вечером они встречались за ужином, но к тому времени Петр Ильич бывал настолько вымотан, что становился неспособен на нормальное общение.
Гуляя однажды по Парижу после репетиции, он зашел в музыкальный магазин, где обнаружил не виданный прежде музыкальный инструмент, представлявший собой нечто среднее между маленьким фортепиано и Glockenspiel[36]36
Металлофон.
[Закрыть]. Заинтересовавшись, Петр Ильич попросил хозяина попробовать звучание и был очарован – инструмент издавал божественно чудный звук: нежный, волшебный, серебристый. Как бы замечательно он звучал в «Щелкунчике»!
Заметив заинтересованность посетителя, хозяин гордо сообщил:
– Это новый инструмент, месье. Называется Celesta Mustel. Купить его можно только у нас.
– Сколько стоит?
– Тысяча двести франков.
Петр Ильич кивнул – вполне приемлемая цена. Однако сейчас он не мог его покупать – не везти же с собой в Америку. Поразмыслив, он решил попросить Юргенсона выписать инструмент, никому о нем не рассказывая, чтобы кто-нибудь в России не опередил с использованием столь чудесного новшества.
Концерт прошел успешно: с многочисленными вызовами и поднесением лаврового венка. Даже критика выказала благосклонность. Но ничто не могло утишить охватившую Петра Ильича тоску. До отъезда в Америку оставалось еще двенадцать дней, и, чувствуя, что у него не хватит сил прожить их в Париже, он сбежал в Руан – отдохнуть и поработать над балетом.
***
Дни тянулись уныло, даже солнечная, почти летняя погода, не улучшала настроение. Все думалось, что в России в конце марта далеко не так тепло, может, даже и снег не совсем сошел. А здесь уже все цветет. Работа, вопреки ожиданиям, не продвигалась: приходилось прибегать к невероятным усилиям воли, к мучительному напряжению сил. Сознание того, что дело не ладится, терзало и мучило до слез. В Руане еще больше заела жгучая тоска по родине и страстное желание бросить все и сбежать. Давно Петр Ильич не чувствовал себя таким несчастным. И он решил просить дирекцию театров отложить постановку, поняв, что с поездкой в Америку не сможет написать ничего дельного.
Одиночество, столь желанное дома, здесь давило невыносимой тяжестью. Так что неожиданный приезд Модеста вызвал бурную радость. Он появился, когда Петр Ильич упорно пытался написать хоть несколько нот. Звонок колокольчика пробудил не раздражение и недовольство нежданными гостями, как бывало прежде, а практически облегчение – давая повод отвлечься от не желавшей продвигаться работы. Петр Ильич был счастлив вдвойне, обнаружив на пороге не кого-то чужого или полузнакомого, а любимого брата.
– Зачем ты приехал? – спросил он, когда они вошли в дом, и сразу обеспокоился: – Что-то случилось?
Теперь, когда первая радость встречи прошла, он обратил внимание, что Модест будто подавлен чем-то. После едва заметной паузы он покачал головой:
– Нет. Просто хотелось попрощаться – я соскучился по России и завтра возвращаюсь домой.
Петр Ильич даже обрадовался, узнав, что брат, так же как и он, рвется на родину. До сих пор Модест не демонстрировал ни малейшего желания вернуться, и это вызывало недоумение и даже огорчение. Ну, как можно не скучать по России?
Вечером они со слезами простились, и Модест покинул Руан. И все же было в нем нечто странное, точно он и хотел, и боялся сообщить какую-то неприятную новость. Он был задумчив, печален, и, даже когда улыбался, в глубине глаз таилась непонятная тоска.
Несколько дней спустя Петр Ильич в свою очередь покинул Руан, отправляясь в Париж для встречи с пианисткой Софи Ментер, а затем в Гавр, чтобы оттуда сесть на пароход. Вопреки совету Вольфа, он решил все-таки ехать на французском.
По пути к Ментер он зашел в читальню просмотреть «Новое время». Петр Ильич уже собирался отложить газету, не найдя в ней ничего стоящего, когда взгляд упал на некролог на последней странице:
«29 марта скончалась Александра Ильинична Давыдова».
Не веря своим глазам, он перечитал заметку несколько раз. Как же так? Саша… Сашенька… Всего несколько месяцев прошло с их последней встречи, и тогда она выглядела бодрой и здоровой. В глазах помутилось, и затряслись руки. Во внезапном озарении он понял, что не так было с Модестом: он приезжал вовсе не попрощаться, а сообщить о смерти сестры, но, видимо, так и не решился это сделать.
Не помня себя, Петр Ильич выбежал из читальни и долго бродил по улицам, только к вечеру придя к Ментер. К его счастью, она была дома и с истинно женским состраданием утешила и поддержала. Мысли путались, противоречивые стремления разрывали на части. Первым желанием было бросить гастроли и немедленно лететь в Петербург. Но потом вступили более прагматичные резоны: пользы от него все равно не будет, а между тем задаток за концерт получен и даже отчасти потрачен.
Телеграфировав брату Николаю, прося сообщить подробности, с тяжелым сердцем Петр Ильич решился ехать в Америку. Страшно было за родных: за Леву, безмерно любившего жену, за осиротевших детей.
***
Суматоха, сопряженная с переездом и устройством на пароходе, мысли о поездке некоторое время отвлекали Петра Ильича. Но, стоило остаться одному в каюте, как тоска напала с новой силой. От Николая все еще не пришло ответа – видимо, придется отплыть в Америку, так ничего и не узнав о похоронах и о родных, отчего становилось еще тяжелее. Он чувствовал себя невероятно жалким, одиноким и несчастным. До такой степени, что начал проклинать свою поездку.
Когда пароход вышел в открытое море, Петр Ильич изо всех сил старался отвлекаться текущими впечатлениями и пару дней спустя привык не думать о терзавшем чувстве утраты: заставлял себя сосредотачиваться на пароходе, на том, как убить время чтением, прогулкой, разговорами, едой. А главное – на созерцании моря, которое было неописуемое прекрасно. Особенно во время заката, освещенное солнцем. Он так преуспел в этом упражнении, что не ощущал себя самим собой – будто кто-то другой плыл по океану. Смерть Саши и все, что было сопряжено мучительного с помыслами о ней, являлись как бы воспоминаниями из отдаленного прошлого, которые без труда удавалось отгонять и вновь думать лишь об интересах минуты.
Хорошая погода простояла недолго: началась качка, постепенно увеличившаяся до такой степени, что стало страшно. Вздымались огромные волны, вызывавшие не только ужас, но и невольное восхищение, все трещало, пароход то проваливался в бездну, то вздымался до облаков. На палубу невозможно было выйти, ибо ветер сдувал с ног. К удивлению Петра Ильича и капитан, и все моряки, и даже официанты относились к такой погоде, как к чему-то простому и обыкновенному. Ему же, до сих пор знакомому только со Средиземным морем, происходившее казалось адом.
С краткими перерывами океан бурлил весь путь до Новой Земли. А там явилось новое бедствие: приблизившись к песчаной мели, пароход вошел в полосу густого тумана. Ход уменьшили, и через каждые полминуты гудела сирена, испускающая ужасающий рев, похожий на рыкание громадного тигра. Эта мера была необходима, чтобы не столкнуться в непроглядном тумане с другим судном, но ужасно действовала на нервы.
В довершение бед на пароходе узнали, кто такой Петр Ильич, и теперь к нему беспрестанно подходили разные господа знакомиться. Куда бы он ни пошел, невозможно было остаться в одиночестве: тотчас появлялся знакомый и начинал ходить рядом и разговаривать. Более того – стали приставать, чтобы он поиграл.
Как только рассеялся туман, вернулась буря. Дул жесточайший ураган. Ночью Петр Ильич даже не пытался лечь спать. Вместо этого он сел в углу диванчика и старался не думать о происходящем. Однако шум, треск, судорожные подскакивания всего парохода, отчаянный вой ветра невозможно было ничем заглушить. Оцепенев от страха, он просидел так до рассвета, когда буря, наконец, начала стихать. Так и заснул – между сундуком и стеной каюты.
Днем море успокоилось, и оставшиеся сутки до Нью-Йорка прошли благополучно. Но чем ближе к концу путешествия, тем больше Петр Ильич волновался, тосковал, страшился, а главное – раскаивался в своей безумной поездке.
***
Пароход вошел в залив, и перед путешественниками предстала колоссальная скульптура, изображавшая женщину с факелом в поднятой руке – статуя Свободы. Ее обогнули по широкому кругу и зашли в порт.
Петр Ильич сошел на берег и заозирался, пытаясь понять, кто из встречающих ждет его. Долго искать не пришлось – к нему подошли трое мужчин и молодая женщина.
– Господин Чайковский? – спросил один из них и, получив утвердительный кивок, продолжил: – Позвольте представиться: Моррис Рено, президент Общества Нью-Йоркского концертного зала.
Это был один из инициаторов приглашения русского композитора в Америку. К счастью, Рено говорил по-французски, что избавляло Петра Ильича от необходимости мучительно подбирать слова на английском. Они пожали руки, и Рено представил своих спутников:
– Франсис Гайд – президент Филармонического общества в Нью-Йорке, господин Майер – представитель фортепианной фабрики Эрнеста Кнабе в Балтиморе.
Оба господина радушно улыбались и долго трясли руку Петра Ильича. Наконец, Рено повернулся к девушке:
– А это моя дочь Алиса – она мечтала с вами познакомиться.
Петр Ильич галантно поцеловал ей руку, и девушка смущенно зарделась.
По дороге в гостиницу его засыпали самыми разнообразными вопросами, на которые он едва успевал отвечать. Несмотря на нелюбовь к подобным беседам с незнакомыми людьми, он был тронут радушием и доброжелательностью американцев.
– Как долго вы планируете пробыть у нас? – поинтересовался Рено, проводив его в номер в отеле «Нормандия»: комфортабельные апартаменты из двух комнат.
– Собирался уехать двенадцатого.
– Но это невозможно! – изумился Рено. – Разве господин Вольф не сказал вам, что на восемнадцатое уже объявлен экстраординарный концерт?
Петр Ильич покачал головой, уныло подумав, что возвращение домой опять откладывается.
– Что ж, тогда я уеду сразу после восемнадцатого.
Рено кивнул и с готовностью предложил:
– Не хотите ли осмотреть город?
– Спасибо, но я бы сейчас отдохнул. Прошу вас не назначать никаких приглашений на этот вечер.
– Конечно-конечно, – закивал Рено. – Что ж, тогда мы оставляем вас. До завтра.
Они распрощались, и Петр Ильич занялся изучением комнат. Гостиничный номер поразил своей роскошью: здесь имелись ванная, ватерклозет, умывальник с горячей и холодной водой. Как позже выяснилось, подобные удобства присутствовали в каждом номере. Освещение везде было электрическое и газовое – свечей совсем не употреблялось.
Приняв ванну, Петр Ильич пошел в одиночестве побродить по Бродвею, чтобы избавиться от приступа меланхолии. Странная улица! Одноэтажные и двухэтажные домишки здесь чередовались с высоченными зданиями в девять этажей. В каком-то смысле это было красиво, во всяком случае – оригинально. А множество зелени радовало глаз.
Просматривая за завтраком прессу, Петр Ильич обнаружил, что во всех газетах уже напечатаны сведения о его прибытии и портрет. Он-то думал, что едет в страну, где его никто не знает, а оказалось, он здесь даже более известен и любим, чем в Европе.
Вскоре зашли вчерашние знакомцы – Майер и Рено, сообщившие, что его ждут на репетицию.
Расположенное на углу Пятьдесят седьмой улицы и Седьмой авеню, строгое прямоугольное здание возвышалось над поверхностью земли на тридцать футов. Сам зал, оформленный в темно-розовом цвете, был громаден: кроме обычных рядов партера, имелось еще четыре ряда лож. Стены и потолок украшали фрески в итальянском стиле.
Когда Петр Ильич вошел, оркестр играл финал Пятой симфонии Бетховена. За пультом стоял высокий и статный молодой человек.
– Это Уолтер Дамрош, – прошептал ему Майер.
Он кивнул: несмотря на молодость, Дамрош был известным дирижером. Как только симфония закончилась, Петр Ильич направился к нему, но вынужден был остановиться, чтобы ответить на громкое приветствие оркестра. Оказывается, все музыканты его прекрасно знали. Дамрош даже произнес небольшую, но лестную речь, сопровождавшуюся бурными овациями.
Прорепетировав первую и третью части сюиты, Петр Ильич остался доволен музыкантами: работать со столь превосходным оркестром было сплошным удовольствием.
После репетиции и обеда начались визиты: к Рено, к Дамрошу, к Гайду. В гостиницу он вернулся к одиннадцати часам ночи абсолютно изможденным. Зато такая насыщенная программа не оставляла времени для тоски.
Американцы, понравившиеся с первой же встречи, с каждым днем все больше поражали своей прямотой, искренностью, щедростью, радушием и готовностью услужить.
Вскоре репетиции перенесли в большой зал, где собственно и должен был происходить концерт. Однако его еще достраивали, и репетировали под шум рабочих, стук молотка и суету распорядителей. Да и оркестр расположился неудачно – в ширину всей громадной эстрады, из-за чего пострадала звучность: стала скверной и неровной. Это ужасно раздражало, и несколько раз Петр Ильич чувствовал приступы бешенства и желание со скандалом бросить все и убежать. Кое-как проиграл сюиту, но из-за беспорядка в нотах и усталости музыкантов бросил в середине первой части.
Свободное время Петр Ильич проводил в прогулках по городу, чтении и написании писем домой.
Нью-Йорк – громадный город – поражал своей странностью. Дома здесь росли ввысь – одна недавно отстроенная гостиница насчитывала семнадцать этажей! Как можно жить на такой высоте, Петр Ильич отказывался понимать. Впрочем, объяснялось это просто: стоящий на полуострове город, со всех сторон окруженный водой, не мог расти в ширину, вот и рос в высоту. Поражало и то, что улицы были тихи и немноголюдны. Извозчиков и фиакров почти не встречалось. Как объяснил Рено, все движение происходило или по конке или по железной дороге, идущей разветвлениями через весь город.
К сожалению, минуты одиночества выдавались редко: мало того, что Майер и Рено, взявшие опеку над ним, повсюду сопровождали, знакомя с разными людьми и показывая достопримечательности, так еще и журналисты осаждали.
В газетах много писали про Петра Ильича – каждое утро можно было прочитать новую статью. А в одной из них он обнаружил позабавившие его строчки:
«Чайковский приехал в нашу страну в сопровождении своей жены на пароходе «Британия» 26-го числа прошлого месяца».
Он удивленно приподнял брови: откуда они взяли про жену? Вроде бы никаких женщин в поездке его не сопровождало. И тут он в досаде хлопнул себя по лбу, поняв, в чем дело: наверное, журналисты видели, как он садился в карету вместе с Алисой Рено! Он усмехнулся: вот так и рождаются слухи. Зато заключительный пассаж был до того лестным, что даже чересчур:
«Появление Чайковского среди нас является событием величайшего значения в музыкальном мире, так как он считается одним из величайших ныне здравствующих композиторов».
Незадолго до концерта Моррис Рено дал в честь Петра Ильича роскошный званный обед. Просторная зала в доме Рено сияла позолотой, на высоких окнах висели бархатные портьеры. Стол был весь усыпан цветами. Возле прибора каждой дамы лежал букет, а для мужчин приготовили букетики из ландышей, которые, когда гости расселись, каждый вздел в бутоньерку фрака. Около дамских приборов стоял портретик Петра Ильича в изящной рамке.
До того, как сели за стол, Рено подвел его познакомиться с высокой светловолосой девушкой, державшейся скромно, но уверенно.