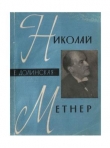Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
– Тогда я тоже уйду, – заявил Юргенсон. – Давно мечтаю. Да и не стоит приносить жертвы делу, во главе коего стоит человек случайный, преследующий свои цели, а не цели общего блага.
– Я вполне понимаю твои резоны. Но если ты окончательно уйдешь, желательно, чтобы Рукавишников остался, а он тоже в лес смотрит.
Петр Иванович задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла.
– Я еще подумаю, но, честно говоря, без тебя оставаться не хочу.
Уговаривать его Петр Ильич не стал, и все же жаль было смотреть, как разваливается Музыкальное общество.
Разделавшись с московскими делами, он уехал за границу, стремясь приступить к сочинению «Пиковой дамы» – Модест уже вручил ему либретто двух первых картин. Алексей остался у постели умирающей жены, и пришлось позаимствовать у брата его слугу Назара.
Всю дорогу Петр Ильич невыносимо скучал. Покидая Россию, он сам еще не представлял, куда отправится, в итоге сделав выбор в пользу Флоренции. Увы, заграница продолжала быть противна, Италия не доставляла никакого удовольствия. И единственное желание, которое он испытывал – поскорее удрать. Впрочем, устроился он с удобством и недорого – в Hotel Washington, где ему предоставили отдельную квартиру со своим столом.
Назар был счастлив. Рядом с ними жила русская дама, с горничной которой он проводил все свободное время. Петр Ильич же продолжал испытывать неопределенное недовольство, хотя опера пошла хорошо и он понимал, что поступил правильно, уехав за границу. В Москве ему бы просто не дали так усидчиво работать.
***
Петр Ильич распрямил затекшую спину и потянулся. Сочинение «Пиковой дамы» увлекло его, не оставив места для былой тоски. Он торопился закончить оперу к новому сезону, и, хотя сильно уставал, работа доставляла наслаждение. За окном ярко светило солнце в безоблачно-синем итальянском небе. Погода стояла абсолютно весенняя – даже появились фиалки. Было что-то неестественное и неправильное в такой погоде. В феврале должны быть еще морозы и снег, и это несоответствие заставляло тосковать по родине. Впрочем, лучше уж тепло, чем отвратительный итальянский зимний холод, свирепствовавший совсем недавно.
Петр Ильич позвонил в колокольчик, и тут же явился услужливый Назар, до того пару раз заглядывавший узнать, не собирается ли барин обедать.
– Накрывай, – велел ему Петр Ильич и справился: – Писем не было?
Он как раз закончил четвертую картину и боялся, что придется теперь долго ждать следующей части либретто.
– А как же – были. Нести?
Петр Ильич кивнул и, пока накрывали, быстро просмотрел корреспонденцию. С радостным удивлением он обнаружил письмо от Модеста с пятой картиной. Либретто было не без недостатков, среди которых главным являлось многословие, но в целом – превосходно. Модест понимал музыкальные требования, что для либреттиста крайне важно.
Кроме того, брат сообщал радостные новости о «Спящей красавице»: представления шли с неизменным аншлагом до такой степени, что не было никакой возможности достать билеты – даже держателям лож нередко отказывали.
«Твой балет сделался какой-то манией, – писал Модест, – уже не говорят больше «здравствуйте!», а «видели вы «Спящую красавицу»?»
Это тем больше грело сердце, что Петр Ильич перестал и надеяться на успех балета. А вот прочие вести с родины оказались неутешительны. Кашкин писал, что премьера «Чародейки» в Москве провалилась:
«Опера, очевидно, была разучена на скорую руку, кое-как, что и сказалось на первом представлении, прошедшем, в общем, весьма неудовлетворительно. Артисты тут не виноваты: они сделали все, что могли, и некоторые из них были даже хороши. Но ансамбля за недостаточной срепетовкой не было – все шло более или менее врозь. Оркестр аккомпанировал грубо, без оттенков, медные играли все время фортиссимо и покрывали своей однообразной звучностью все и всех. Исполнительница главной партии Коровина была не здорова, и петь ей в этот вечер не следовало».
К счастью, Петр Ильич уже достаточно погрузился в сочинение новой оперы, чтобы не слишком огорчиться судьбой прежней.
Алексей сообщал о смерти жены. И хотя это событие давно ожидалось, до боли жаль было совсем молодую женщину. По тону письма было заметно, что Алеша убит горем и так хотелось утешить его, бедного…
Самое же ужасное известие поступило от Юргенсона. Антонина Ивановна вновь была у него, выдвигая нелепые претензии: то требуя увеличения пенсии, то выражая твердую уверенность, будто Петр Ильич вернется к ней и они будут счастливы. Он так расстроился, что весь день не мог ни есть, ни работать, ни читать, ни гулять. В глубине души он понимал, что болезненно преувеличивает важность дела, но не мог совладать с истеричностью своей натуры. «Это ужасная рана моя, – написал он Петру Ивановичу, – до которой, умоляю, не касайся, если это не необходимо».
На следующий день, немного успокоившись, но все еще не в состоянии работать, он пошел гулять, чтобы хоть чем-то занять себя. И надо ж было такому случиться, чтобы наткнуться на целую компанию русских, среди которых были и знакомые.
– Петр Ильич! – радостно приветствовала его старая дева Оржевская, которую он когда-то знавал в молодости. – И вы здесь – какая удача!
Он только горестно вздохнул – вот и пожил в одиночестве… Здесь же оказалась и еще одна старая знакомая – Платонова, и бывший министр Пален с семьей, которого Петр Ильич встречал в Тифлисе у Анатолия. Все они жаждали общаться с ним, «утешать» в его одиночестве. Никуда не спрячешься от людей! И, конечно же, разговор неизбежно зашел о музыке.
– А что вы сейчас пишете, Петр Ильич? – любезно поинтересовался Пален.
– Оперу «Пиковая дама» по Пушкину, – чуть ли не сквозь зубы ответил он.
– О, какая прелесть! – восхищенно воскликнула жена Палена. – Сыграйте же из нее что-нибудь!
Он решительно отказался и держался так холодно – почти грубо, – что, в конце концов, его оставили в покое. Однако жизнь во Флоренции была отравлена, и Петр Ильич задумался о переезде в другой город. Совсем уже собрался в Рим, но из-за сезона там невозможно было найти отдельное помещение. И он скрепя сердце остался во Флоренции. Работалось здесь все-таки хорошо, помещение было отличное. А знакомые, обиженные его явным недоброжелательством, вскоре оставили в покое.
К марту Петр Ильич закончил «Пиковую даму», довольный своей работой. Писал он оперу с самозабвением и наслаждением и до того погружался в сочинение, что порой испытывал ужас и потрясение, а в момент смерти Германа плакал.
Впервые после девяти недель напряженной работы Петр Ильич решил устроить себе выходной и отправился в галерею Уффици. Впрочем, живопись – особенно старая – оставляла его холодным. В отличие от Модеста – большого поклонника живописи и скульптуры, – он никогда не понимал, какое наслаждение видят в ней остальные. Зато он нашел в галерее соответствующее своим вкусам развлечение: портреты принцев, королей, пап и прочих исторических личностей. Страшно интересно было разглядывать лица давно умерших людей, сыгравших роль в истории – значительную или не очень. Петр Ильич даже нашел портрет московского посла Ивана Чемоданова и удивительно сохранившийся портрет Екатерины Первой. История всегда привлекала его, а особенно люди, которые ее творили. В Уффици он провел два часа, забыв про время.
***
Рим сильно изменился за те восемь лет, что Петр Ильич не был здесь. Иные улицы стали неузнаваемы: из узких и грязных сделались роскошными. Конечно, это перемены к лучшему, и все же жаль было прежнего тихого и скромного Рима.
Приятно было вновь увидеть город, который Петр Ильич когда-то так любил и где мечтал до конца дней жить зимой. Радостное чувство охватило душу, когда он вышел на улицу и понюхал знакомый римский воздух, увидел знакомые места. Цветущие абрикосовые деревья ужасно напомнили Тифлис. И зачем он только поехал во Флоренцию, а не поселился сразу в Риме, испортив себе пребывание в Италии? Тем более что работать здесь можно было точно так же – никто не мешал.
Однако и тут блаженство длилось недолго: жившие в Риме русские каким-то образом узнали о нем, начались бесконечные приглашения. Петр Ильич все отклонял, но прежнее удовольствие пропало. Впрочем, он давно стремился вернуться на родину. Да и в Петербург его звали – на свадьбу племянницы Натальи. Закончив в апреле первую половину оркестровки «Пиковой дамы», он покинул Рим.
***
На вокзале Петра Ильича встретили Модест с Тасей. Она не казалась сияющей счастьем, какими бывают молодые влюбленные невесты, а скорее спокойной и безмятежной. На вопрос любит ли она своего жениха, Тася пожала плечами:
– Коля всегда был для меня дорогим другом, но я знаю, что никогда не заменю ему Веру, да и не стремлюсь к этому. Просто детям нужна мать, а я не могу продолжать жить с ними – люди косо смотрят. Мы посоветовались и решили, что брак будет для нас наилучшим выходом.
Петр Ильич удивленно и с растущим уважением посмотрел на племянницу. Ведь она всегда была ветреной и легкомысленной девочкой! Откуда же вдруг взялись такая рассудительность и преданность маленьким племянникам?
Свадьба прошла тихо – в семейном кругу. А несколько дней спустя в том же составе – за исключением уехавших в горы ради здоровья Рины молодоженов – отпраздновали пятидесятилетие Петра Ильича. Страшно подумать – полвека прошло! Как быстро летело время – казалось, ни за что не успеть выполнить все планы.
Глава 19. Слава
Весь, абсолютно весь лес во Фроловском вырубили! Когда-то живописная местность превратилась в пустыню. Нет, надо уезжать. Вот только куда, Петр Ильич пока не знал. Кузина Аня звала в Царское Село, но он колебался – покидать Клин не хотелось, несмотря ни на что.
Еще горше было видеть осунувшегося, похудевшего, мрачного Алексея. Тяжелая для него выдалась зима. Петр Ильич сходил к Казанской церкви на могилу Феклы, для которой Алеша купил в Москве дешевенький, но выдающийся среди других памятник. Странно и пусто стало без нее в доме.
Вопреки всему, Петр Ильич наслаждался чудесным воздухом, деревенской тишиной и привольем, к началу июня завершив оркестровку «Пиковой дамы». Как раз к этому времени приехал погостить Боб. Приятным сюрпризом стало открытие, что племянник любит читать вслух книги, которые ему нравятся, но с которыми другие не знакомы. Так он прочел рассказ Достоевского, впечатливший Петра Ильича, хотя в целом он не испытывал большой симпатии к этому писателю.
Боб пробыл всего неделю, уверяя, что никак не может остаться дольше. Позже выяснилось, что это неправда – в Петербурге его не ждали еще пару дней. Напрашивался вывод, что его приезды к дяде – хоть и не тягостная, но жертва. Впрочем, Петр Ильич не обижался, по себе зная, что можно любить человека, но не любить проводить у него больше известной порции времени. К тому же какой интерес юноше, привыкшему к столичной жизни, скучать со стариком в деревенской глуши. И то, что Боб все-таки время от времени приносил эту жертву, уже свидетельствовало о его привязанности.
После отъезда племянника, окончательно приведя «Пиковую даму» в порядок, Петр Ильич сам повез партитуру Юргенсону, чтобы заодно обсудить некоторые назревшие вопросы. Придя к издателю, он обнаружил там Кашкина и сыграл им оперу от доски до доски. Оба пришли в восторг.
– Это, положительно, лучшая твоя опера! – восклицал Николай Дмитриевич, и Юргенсон горячо его поддержал.
Петр Ильич и сам любил ее больше остальных своих детищ. А некоторые места даже не мог как следует играть от переполнявшего чувства. Дух захватывало, и хотелось плакать!
– Кстати, о «Пиковой даме», – начал Петр Ильич, когда остался с издателем наедине. – Модест спрашивает, не много ли он запросил за либретто. Он ориентировался на Шпажинского, но потом подумал, что тот все-таки известный драматург… – и, усмехнувшись, Петр Ильич добавил: – Как это типично для нас обоих: сначала просить, а потом задуматься.
– Шпажинский брал многовато, если честно, но я готов столько же платить и Модесту Ильичу – исключительно из симпатии к нему.
– Думаю, лучше будет, если ты напишешь ему об этом сам, чем вы станете вести переговоры через меня.
Петр Иванович кивнул и сменил тему:
– Помнишь, ты неоднократно обещал, что всегда будешь отдавать мне свои рукописи?
– Если ты о «Пиковой даме»…
– Именно о ней. Ты не должен отдавать ее Мариинскому театру. Разве будет она там доступна? Я же собираю твои рукописи для Публичной библиотеки.
Петр Ильич слегка поморщился:
– Вот уж куда не стремлюсь попасть. В течение нескольких лет Стасов вкладывает туда, как драгоценность, всякую дрянь: Щербачева и tutti quanti.
Петр Иванович отмахнулся:
– Плевать на Стасова с Щербачевым. Давай помнить, что там Глинка. На Публичную библиотеку я смотрю как на хранилище, доступное людям на столетия и даже на тысячелетия.
Петр Ильич покачал головой:
– Всем своим благополучием я обязан петербургскому театру. Мог ли я отказать Всеволожскому, когда он просил рукопись «Пиковой дамы» для только что приведенной в образцовый порядок библиотеки? Я не придаю своему манускрипту ни малейшей цены, и мне так легко, отдав его, хотя бы некоторым образом выразить благодарность за все, чем я театру и лично Всеволожскому обязан.
– А это ты зря, – возмутился Юргенсон. – Вот Аренский, тот относится к своим рукописям иначе: он глубоко убежден, что их будут ценить на вес бриллиантов…
Петр Ильич не мог не улыбнуться на это заявление:
– Ну, Аренский… – но тут же снова посерьезнел, с каждым словом горячась все больше: – Извини, но я обещал и сделаю это. Если тебе это неприятно, то мне очень, очень жаль. Однакож не пытайся уговаривать меня не исполнить данного слова. Если же по закону я не имею права помимо издателя распоряжаться своей рукописью, прошу тебя по-дружески на сей единственный раз это право мне уступить. Если же нет, мне придется месяца три переписывать собственной рукой партитуру.
– Бог с тобой! Ни единой секунды я не думал основывать свою просьбу на праве, – удивленно воскликнул Юргенсон. – Не ожидал, что ты примешь ее так близко к сердцу. Знаю-знаю, как ты относишься к своим рукописям, но все-таки хотел бы, чтобы ты берег их для моего кладохранилища.
– Я постараюсь, – вздохнул Петр Ильич.
Он не понимал страсти издателя к собиранию его манускриптов, но обижать друга не хотелось.
Дома он сразу же приступил к сочинению секстета для струнных инструментов. Его о том давно просило Петербургское квартетное общество. Работа шла тяжело: ужасно затрудняла новая форма изложения. Все время казалось, что настоящих шести голосов нет, а сочиняет он для оркестра, только перекладывая на шесть струнных.
Тем не менее к концу июня Петр Ильич вчерне закончил секстет, и остался им доволен. Отпраздновав именины с московскими друзьями и клинскими знакомыми, он поехал к певцу Фигнеру, чтобы пройти с ним «Пиковую даму». Тот сначала собирался сам прибыть во Фроловское, но упал с лошади и сломал ключицу.
***
Небольшая усадьба Фигнеров, окруженная молодым лесом и невероятно живописным садом, воплощала мечту Петра Ильича. Как бы хотелось поселиться в подобном месте!
Он вышел из кареты возле громадного дома из белого камня с классическими колоннами и широкой лестницей у парадного входа. Николай Николаевич и Медея Ивановна восторженно встретили его и немедленно принялись наперебой хвалить «Пиковую даму». Фигнер о своей партии говорил даже со слезами на глазах, что весьма обрадовало Петра Ильича: если исполнителю главной роли она нравится до такой степени – это верный залог успеха оперы.
Дальнейшее общение с певцами, в гостях у которых он провел сутки, воодушевило еще больше. Он восхитился чуткостью, художественным тактом и талантом, которые Фигнер проявил при первом же поверхностном знакомстве с партией Германа. Петр Ильич уверился, что исполнение будет превосходно.
– Единственное, что я хотел бы изменить, – сказал Фигнер, когда они закончили беглый просмотр оперы, – это бриндизи. Оно слишком высоко написано, да еще и стоит в самом конце. Я не смогу петь, не терзаясь страхом квакнуть. Не могли бы вы транспонировать его на тон ниже?
Петр Ильич не любил переделывать номера в готовой опере, но не мог не признать справедливость замечания Фигнера.
– Хорошо, я переделаю.
– И еще одно. Я знаю, предполагалось, что Лизу будет петь Мравина, но нельзя ли ее заменить Медеей – хотя бы на первом представлении? Я с ней уже спелся – мне будет проще и приятнее.
Обижать Мравину, во многих отношениях удовлетворявшую партии Лизы, не хотелось. Но, с другой стороны, следовало сделать так, чтобы Фигнер чувствовал себя на премьере удобно, а они с женой безупречно спелись, и Петр Ильич мог убедиться, насколько верно он улавливает все, что нужно, дабы партия Лизы выдвинулась на первый план. Так что он согласился и на это, пообещав уладить вопрос со Всеволожским.
Ради просимой Фигнером переделки пришлось съездить в столицу: новый вариант требовал новой оркестровки, а партитура уже переписывалась на голоса в театральной конторе.
Как же Петербург был прекрасен по сравнению с Москвой! Великолепная Нева, чистый воздух – а в Москве летом просто невозможно жить из-за ужасных гигиенических и санитарных условий. Бывший прежде убежденным москвичом, в последнее время Петр Ильич начал более любить Петербург, чему способствовали и напряженные отношения с Сафоновым.
Уладив дела с оперой, Петр Ильич заехал в Гранкино за Модестом, а оттуда – к Александре в Каменку. В гостях у сестры он собирался отдохнуть и полениться, понимая, что это пойдет на пользу и что вполне заслужил это право. Но… постоянно терзался мыслью, что время уходит: часы, дни, недели попадают в пучину прошедшего, не ознаменовавшись появлением нового творения. Он не мог спокойно жить без дела и уже начал обдумывать, за какое сочинение приняться теперь.
В Каменке чувствовалась меланхолическая нотка, о прежнем веселье и помину не было. Но больше всего беспокоила Саша, болезнь которой все ухудшалась. С местным врачом у Петра Ильича состоялся тяжелый разговор.
– Припадки Александры Ильиничны дурного свойства, – объяснил тот. – Они родственны с эпилепсией и, полагаю, являются следствием морфина и других наркотиков.
– Что же делать? – с тревогой спросил Петр Ильич.
– Боюсь, ничего уже не сделаешь, – врач огорченно покачал головой. – Наркотики убивают ее, но без них она не вынесет боли. Тут можно только молиться.
С тяжелым сердцем Петр Ильич покинул в сентябре Каменку. Его не переставала терзать мысль: чем все это кончится, что будет с Сашей?
Тем отраднее стало посещение в Копылове племянницы Анны: вот где царили безмятежность и мир.
– Не писала ли тебе Надежда Филаретовна о своих планах? – спросила Аня, когда они отправились прогуляться по живописным окрестностям и шли по широкой проселочной дороге сквозь поля, колосившиеся высокими травами.
На горизонте темнел лес. Марк, сидевший на руках матери, любопытно вертел головой во все стороны, а Кира то и дело убегала вперед и возвращалась, принося охапки цветов.
– Мы очень ждем ее, но боюсь, ей здесь будет скучно, если вдруг случится дурная погода.
– Нет, не писала, – покачал головой Петр Ильич и огорченно добавил: – Она вообще редко пишет мне теперь.
– Не обижайтесь на маменьку, дядя, – поспешил вмешаться Николай. – Ей серьезно нездоровится, и из-за постоянных головных болей тяжело писать письма. Но это не значит, что она меньше любит вас.
– Что ты – и не думал обижаться! – возразил Петр Ильич. – После всего, что она сделала для меня… Просто подумалось, вдруг ей стало в тягость поддерживать со мной корреспонденцию…
Николай улыбнулся:
– Уверен, если она даже решит вовсе никому не писать, вы будете исключением.
Колины слова немного успокоили его на этот счет – в последнее время Петр Ильич действительно начал бояться, не тяготится ли Надежда Филаретовна их отношениями.
***
В семье Анатолия все оставалось по-прежнему. Несмотря на бодрый вид, он частенько впадал в уныние из-за того, что его долго не назначают губернатором. Прасковья была окружена поклонниками. Таня хорошела с каждым днем. Время в Тифлисе проходило незаметно, хотя работать Петру Ильичу почти не удавалось. Зато они часто бывали в опере, где для него зарезервировали почетное даровое место.
Долгожданное письмо от Надежды Филаретовны враз уничтожило всю безмятежность. Она писала, что крайняя запутанность ее дел, грозящая разорением, не позволяет больше давать прежнюю субсидию. Дела ее давно шли нехорошо, но до сих пор фон Мекк уверяла, что никакие перипетии на субсидию не повлияют. Столь резкая перемена поразила Петра Ильича, но даже не это главное. В конце концов, он был достаточно обеспечен, чтобы не нуждаться в постоянной поддержке. Обиден был отказ поддерживать дальнейшую переписку. Будто бы он общался с ней только ради денег! Все еще надеясь, что произошло недоразумение, Петр Ильич высказал мягкий упрек:
«Последние слова Вашего письма немножко обидели меня, но думаю, что Вы не можете серьезно допустить то, что Вы пишете. Неужели Вы считаете меня способным помнить о Вас, только пока я пользовался Вашими деньгами! Неужели я могу хоть на единый миг забыть то, что Вы для меня сделали и сколько я Вам обязан?»
До сих пор он ни разу не тяготился помощью фон Мекк благодаря ее такту и радушной готовности поддержать. Но теперь задним числом стало стыдно, противно и досадно. Даже захотелось, чтобы Надежда Филаретовна нуждалась в его помощи, и он смог бы вернуть ей долг.
Вскоре Петр Ильич узнал, что страх разорения был мимолетный – фон Мекк все еще оставалась богата. И тогда в ее письме он увидел желание отделаться от него под первым попавшимся предлогом. Кажется, он слишком идеализировал их отношения. В последней попытке спасти былую дружбу он написал Надежде Филаретовне, выражая готовность продолжать переписку независимо от ее денежной помощи. Но она проигнорировала желание поддержать общение, упорно не отвечая на письма и будто вычеркнув его из своей жизни. Не значило ли это, что их возвышенная идеальная дружба была лишь капризом богатой женщины?
Эта история отравила пребывание в Тифлисе. И уже ни чудная погода, ни приятное общество, ни множество развлечений, ни предстоящая постановка «Пиковой дамы» не могли рассеять тоски и тайной меланхолии.
Петр Ильич старался думать исключительно о подготовке к предстоящему концерту – благо репетиции отнимали огромное количество времени и сил. Его начало трясти еще за два дня до концерта. Ипполитов-Иванов – директор Тифлисского отделения Русского музыкального общества – всячески развлекал его, чтобы заставить забыть о страхе: возил в роскошный Ботанический сад, показывал великана в одном из балаганов и даже катал на каруселях. Последнее особенно порадовало – Петр Ильич веселился как ребенок, почти забыв о кошмаре, предстоявшем на следующий день.
Но перед выступлением страх вернулся стократно. Поднимаясь на дирижерское возвышение, будто на эшафот, Петр Ильич с ужасом осознал, что напрочь забыл сюиту и не может вспомнить, как начинается вступление к фуге. Мелькнула мысль: повернуться и убежать. И только громадными усилиями воли удалось не поддаться ей. Глаза застилал густой туман, в котором плавали силуэты музыкантов. Сердце колотилось у самого горла. Как он переворачивал страницы партитуры? Как махал палочкой? Весь концерт не покидала мысль: «Больше никогда! Дирижерство равносильно самоубийству!»
Тем не менее концерт превратился в ряд бесконечных оваций. Петру Ильичу поднесли венки, диплом на звание почетного члена Тифлисского музыкального кружка, дирижерскую палочку, а к концу вечера засыпали цветами.
Потом состоялся парадный ужин с тостами. Измученному переживаниями Петру Ильичу больше всего на свете хотелось остаться одному и перевести дух, но он не смел обидеть друзей. Впрочем, искренние и теплые речи помогли прийти в себя, немного расслабиться.
Самым трогательным стало выступление поэта Опочинина. Встав с бокалом в руке, он произнес:
– Прошу простить мои плохие вирши – я старался, как мог, выразить восхищение перед нашим дорогим композитором:
Прекрасен шум стозвучный моря,
Прекрасен леса дивный шум.
В них лепет ласки, вопли горя,
Мечты любви, тревога дум
Слились в одной волшебной песне;
Но во сто раз еще прелестней,
Еще волшебней силой чар
То море звуков, лес гармоний,
Что в ряде опер и симфоний
Твой славный гений дал нам в дар.
То грозной бурей поражая,
То тихой песнью слух лаская,
В них перед нами чередой
Проходит все: Полтавский бой,
Марии страсть, любовь Андрея,
Проклятья старца Кочубея,
Мазепы слава и позор,
Народа вопли и задор,
И пушек гром, и кровь сражений,
«Деревня, где скучал Евгений»
И с Ленским грустная дуэль.
Мечты, волненья бедной Тани,
Простой рассказ любимой няни,
И в поле пастуха свирель,
И мщенья полные напевы
Великой Орлеанской Девы,
Красавиц спящих дивный ряд,
В руках у мстительной злодейки
Ужасный, страшный, тайный яд,
И смерть несчастной Чародейки…
И сын, измученный вконец,
И проклинающий отец,
И скоморохов танец пьяный,
И прелесть гордая Оксаны,
Что обольщала молодца,
И беса хитрые обманы,
И страсть Вакулы-кузнеца,
Опричника лихая драма
И сила грозного царя…
Виденья, «Пиковая дама»
И полная чудес заря,
Наполеона марш мятежный,
Что раздавался под Москвой,
И строй молитвы мощно-нежной,
Молитвы русской и святой,
Что силу вражью отражала
И нам победу даровала…
Увы, всего не перечесть!
Так воздадим же славу, честь
Тому избраннику отчизны,
Который много в дар ей дал
И в звуках всю поэму жизни
Пред нами дивно начертал.
Бурные аплодисменты и одобрительные восклицания встретили поэтическое подношение. Смущенно улыбнувшись, Опочинин сел на место. Петр Ильич был растроган до слез и долго его благодарил.
Два дня спустя, провожаемый огромной толпой родных, друзей и поклонников, он покинул Тифлис, чтобы навестить другого брата в Таганроге. Он давно уже обещал Ипполиту приехать в гости, да все никак не мог собраться.
***
Дом Ипполита располагался на высоком отвесном берегу, откуда открывался чудный вид на даль Таганрогского залива. Встретили Петра Ильича радушно и сердечно. Тася, которую он не видел уж двенадцать лет, превратилась в совсем взрослую барышню – симпатичную, умную и бойкую. Быстро освоившись с дядей, она остроумно рассказывала про институт, который недавно покинула. Окруженный заботой и вниманием, Петр Ильич немедленно забыл и о напряжении последних дней, и о предательстве Надежды Филаретовны, пребывая в отличном расположении духа.
Ипполит позаботился о том, чтобы развлечь брата: провел ему целую экскурсию по Таганрогу. Во время прогулки по широкой многолюдной Петровской улице, Петра Ильича охватил детский дух озорства, и он спросил у шедшей рядом невестки (Ипполит шел чуть впереди):
– Хочешь, Соня, я сделаю сейчас скандал? Начну танцевать. Мне-то ничего, меня никто не знает, а вот тебе, которую знает весь Таганрог, тебе будет стыдно.
Соня скептично приподняла брови:
– Ты не осмелишься.
– Ах, не веришь? Так вот же тебе!
С этими словами он начал выделывать непостижимые, отчаянные па. Люди вокруг вытаращились на него с выражением полного шока. Соня звонко рассмеялась. Петр Ильич тут же смутился, к нему вернулась обычная застенчивость, и он, прекратив свои показательные танцы, уже скромно пошел дальше рядом с продолжавшей хохотать невесткой. Ипполит, обернувшийся на ее смех, только головой покачал, пробормотав что-то вроде:
– И кто из нас старший?
Но в уголках губ у него затаилась улыбка.
***
И снова Петербург, где Петра Ильича давно ждали в связи с постановкой «Пиковой дамы». До сих пор продолжались споры, кому исполнять роль Лизы. Всеволожский стоял за Мравину, однако Фигнер требовал, чтобы пела жена.
– Понимаете, Иван Александрович, – сказал Петр Ильич на совещании по этому поводу, – какую бы мы не предпочли, одна из них будет сердиться и плакать, что меня ужасно огорчает. Мравина столь же желательна, как и мадам Фигнер. И даже есть сцены, где она будет смотреться гораздо лучше. Но успех оперы всецело зиждется на исполнении партии Германа. И потому мы должны сделать все, чтобы помочь Фигнеру блестяще создать партию. Если он говорит, что ему лучше петь с женой, значит, пусть так и будет. Хотя бы на первом представлении должна петь Медея.
Всеволожский согласился с его доводами и уступил.
Репетиции шли хорошо – и музыкантами, и актерами, и постановкой Петр Ильич остался доволен. Настроение было прекрасным, несмотря на утомительный ряд приглашений и домашних празднеств в его честь.
Пятого декабря состоялась генеральная репетиция «Пиковой дамы» в присутствии государя.
Все было готово, спектакль должен был начаться, в ложе сидел император с семьей, но… не явился исполнитель главной роли. Петр Ильич, бледный, с взвинченными нервами, ходил взад вперед по сцене за закрытым занавесом. Казалось, вот-вот произойдет катастрофа: выведенный из терпения император покинет театр. И тогда конец «Пиковой даме».
– Где Фигнер?! – метал громы и молнии Всеволожский.
Вдруг влетел запыхавшийся портной-одевальщик и начал что-то шептать ему.
– Так чего вы стоите столбом! – рявкнул Иван Александрович. – Бегите быстрее! – и когда портной исчез с его глаз, пробормотал: – Чтоб я еще когда-нибудь позволил ему переодеваться на квартире…
Петр Ильич хотел спросить, что же такое случилось, но Всеволожский уже ушел в зрительный зал – извиняться перед государем.
Время шло, тянулось, ползло, а Фигнер все не появлялся. Совершенно убитый Петр Ильич сквозь щель занавеса посмотрел в зрительный зал – не ушел ли еще император. Тот сидел в шестом ряду и с любопытством наблюдал за тем, как кто-нибудь из чиновников попеременно подходит к Всеволожскому с донесением, что Фигнера все нет. Направник стоял у пюпитра спиной к сцене, изредка косясь в кулису: не покажется ли добрым вестником режиссер Морозов?
– Наконец, в чем же задержка? – спросил государь, окончательно потеряв терпение.
Всеволожский, сидевший за его креслом, наклонился и громко ответил:
– У Фигнера штаны лопнули, ваше величество!
Так вот в чем дело! Петр Ильич в отчаянии хлопнул себя по лбу. Ох, уж эти актеры и их капризы! Ну почему нельзя переодеваться в театре, а обязательно на своей квартире? Здесь давно бы уже исправили неприятность.
Государь воспринял новость совсем не так, как ожидали – он весело расхохотался на всю залу.
– Что ж, бывает, – снисходительно заметил он, отсмеявшись.
После чего терпеливо стал ждать появления Фигнера, не выражая неудовольствия. Все дружно вздохнули с облегчением.
Когда Николай Николаевич явился, ему не стали высказывать никаких упреков, дабы не волновать перед представлением. И генеральная репетиция, наконец, началась.