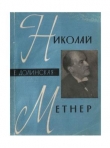Текст книги "Музыка души"
Автор книги: Анна Курлаева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
На следующее утро Анатолий с Прасковьей проводили его до Батума. Он уезжал в Париж: и для того, чтобы уладить все с усыновлением Жоржа, и для личного знакомства с Маккаром. Путешествие в поезде казалось ему слишком долгим и утомительным, и он решил плыть до Марселя морем.
Тифлис он покидал с большой грустью – город был невероятно хорош в это время года. Одно обилие цветов чего стоило! За завтраком перед отъездом Прасковья неожиданно расплакалась – так трогательно, что Петр Ильич сам чуть не залился слезами. Да и во время прощания в батумском порту она держалась так, будто его приговорили к смерти.
Долго-долго они махали друг другу платками – Петр Ильич с палубы, а Толя с Паней с пристани, – пока пароход не отдалился настолько, что проезжающих уже не было видно.
***
Проснувшись утром и выйдя на палубу, Петр Ильич обнаружил, что пароход подходит к Трапезунду. С моря открывался вид на живописную изрезанную бухту и возвышавшийся вдалеке массивный храм Святой Софии. После завтрака Петр Ильич пошел побродить по улицам. Древний город, в котором сохранились остатки античных построек, вызвал у него живейший интерес. Он посидел в кафейне, где курил наргиле; по узкой лестнице вдоль отвесной стены взбирался в монастырь Сумела, вырубленный прямо в горе. Сверху открывался потрясающий вид на расстилавшийся внизу лес, окутанный легким туманом. При одном взгляде с такой высоты начинала кружиться голова, и жуть брала от пропасти под ногами. Сам же монастырь представлял собой маленькую церковь и крошечный братский корпус, в котором жили всего два греческих монаха.
На следующее утро пароход прибыл в Керазунд. Пассажиров прибавилось, и теперь стало невозможно провести на палубе и четверти часа, чтобы кто-нибудь не подошел с разговором. Даже капитан частенько заговаривал с Петром Ильичом про музыку. И ладно бы что-нибудь дельное говорил! Так нет – его глупые суждения только злили. Настроение резко испортилось – напала страшная тоска и желание как можно скорее отделаться от парохода.
В Босфор въехали при великолепной погоде. Солнечные блики сверкали на водной глади. Небо и море – абсолютно одинакового цвета – сливались на горизонте. А Константинополь, раскинувшийся по обоим берегам пролива, окутывала легкая голубоватая дымка.
Впечатление безмятежности немного испортила царящая в порту Константинополя суета. Пароход оставался здесь сутки, и Петр Ильич решил переночевать в гостинице. К сожалению, все хорошие оказались заняты. Насилу удалось найти дрянную меблированную комнату. Впрочем, он не собирался в ней сидеть – весь следующий день он посвятил осмотру достопримечательностей. Город разочаровал – несимпатичный, грязный и шумный. Только Святая София поразила и восхитила. Грандиозный храм, внутри которого дух захватывало от величественности высоких сводов и красоты фресок. И, в отличие от католических церквей, эта монументальность не подавляла, а напротив – заставляла возноситься душой к небесам. Петр Ильич в этот момент понял послов князя Владимира, которые после посещения Святой Софии сказали, что не знали, где находились – на земле или на небе.
При приближении к Сицилии стало видно Этну, а над ней громадный столб дыма с огнем. На вопрос что происходит, капитан пожал плечами:
– Честно сказать – не знаю. Сколько лет здесь плаваю, никогда подобного не видел.
В его голосе слышалось легкое беспокойство, заставившее Петра Ильича нервничать.
На следующий день стало ясно, что это извержение, но не на вершине Этны, а где-то сбоку. Пассажиры столпились на палубе, наблюдая за жутковатым, но завораживающим спектаклем.
В два часа ночи Алексей разбудил Петра Ильича, чтобы полюбоваться на вулкан в темноте. Пароход входил в Мессинский пролив. Море, спокойное в течение всего путешествия, вдруг забурлило. Этна казалась разрезанной пополам огнем, вырывающимся в небо и окрашивающим дым багровым цветом. А лунный свет придавал пылающему вулкану и бушующему морю непередаваемую и пугающую красоту.
– Поразительно, – задумчиво произнес капитан. – Сколько лет здесь хожу, но даже и не подозревал о существовании вулкана.
Через четыре дня по проливу между Сардинией и Корсикой подошли к Марселю. Бухта врезалась глубоко в город. По обеим ее берегам рассыпались живописные домики, а вдали на холме возвышался Нотр-Дам-де-ла-гард – величественный собор в византийском стиле.
Петр Ильич провел в Марселе несколько дней и пришел к выводу, что это красивый, но скучный город.
***
Париж в мае был особенно хорош. Акации цвели, каштаны отцветали, на улицах продавали массу цветов, царило необыкновенное оживление.
Жорж подрос и стал до ужаса похож на Таню. Страшно подумать, что будет, если Саша и Лева увидят его и обо всем догадаются. Мальчика потихоньку подготавливали к перемене судьбы, и мадам Оклер спросила, хочет ли он поехать с Петром Ильичом. Скорчив забавную мину, Жорж решительно ответил:
– Non![33]33
Нет! (фр.)
[Закрыть]
Петр Ильич попытался соблазнить его обещанием, что будет интересно и весело. Подумав, Жорж согласился, но с условием:
– Et nous prendrons maman et papa aussi! – и, повернувшись к месье Оклеру, приказным тоном заявил: – Papa, va tout de suite t’habiller![34]34
Мы возьмем и папу с мамой! Папа, иди сейчас же одеваться! (фр.)
[Закрыть]
Умиляясь серьезному и повелительному выражению на детском личике, Петр Ильич начал бояться разлуки Жоржа с опекунами. А если он начнет плакать, или случится с ним истерика? Что делать с ним в дороге? Жорж был подвижен и суетлив – ни секунды не сидел на месте. Как перенесет он долгое путешествие в поезде?
Петр Ильич вернулся в Париж, охваченный сомнениями и беспокойством. Но отступать поздно: он уже сделал распоряжение достать метрику, и Ольга должна была вскоре приехать. Да и не сомневался он в правильности своего решения забрать племянника в Россию. Вот только жаль разлучать его с людьми, которых Жорж любил и считал своими родителями.
Для второго важного дела Петр Ильич долго собирался с духом. Страшно не хотелось идти к своему парижскому издателю, как всегда бывало перед знакомством с новыми людьми. Но ничего не поделаешь.
Придя к Маккару, он так нервничал, что раз десять подходил к двери его дома и снова уходил. Даже выпил стакан абсента, надеясь успокоить нервы. Не помогло. Наконец, собрав волю в кулак, он вошел. Маккар ждал его. Он оказался выше ростом, чем представлял себе Петр Ильич: статный, представительного вида мужчина с густой бородой и цепким взглядом темных глаз, напоминавшим Бесселя.
– Счастлив, наконец-то лично познакомиться с вами, господин Чайковский! – радостно воскликнул Маккар, энергично пожимая ему руку.
Он так и излучал доброжелательность, и сразу стало легче. Поговорили о делах – между прочим Маккар попросил прислать ему какую-нибудь рукопись, хотя бы небольшого произведения.
– Все мои рукописи хранятся у Юргенсона, и обычно он никому их не отдает. Но я попрошу его сделать для вас исключение, – ответил Петр Ильич.
– Буду вам весьма признателен. Со своей стороны хочу помочь вам с нужными знакомствами в Париже. Приходите завтра на вечер к мадам Виардо – там соберутся многие ценители музыки.
Как ни противны были подобные светские знакомства, они были необходимы для музыкальной карьеры, и пришлось согласиться.
– Месье Чайковский! – с радостным энтузиазмом приветствовала гостя полная энергии семидесятилетняя старушка, протягивая руку для поцелуя. – Я очень-очень счастлива видеть вас у себя. Это большая честь. Моя ученица Дезире Арто столько рассказывала о вас! И я давно мечтала познакомиться.
Вопреки возрасту жизнь в Полине Виардо била ключом: она всем интересовалась, все знала и была крайне любезна.
– Неужели она еще вспоминает обо мне? – с сомнением спросил Петр Ильич.
При упоминании о Дезире лишь на мгновение шевельнулось в душе сожаление и тут же пропало.
– О, конечно! Даже не сомневайтесь! – с загадочной улыбкой мадам Виардо добавила: – А у меня есть для вас сюрприз, месье Чайковский.
И она повела его к круглому столику возле окна, покрытому бархатной скатертью.
– Мой муж лет тридцать тому назад случайно приобрел эту партитуру почти даром, – сообщила Виардо, взяв со столика какие-то ноты и протягивая их Петру Ильичу. – Я подумала, вам интересно будет посмотреть.
Ноты оказались старинной партитурой «Дон Жуана».
– Неужели подлинная? – с благоговением спросил Петр Ильич – от волнения у него даже руки задрожали.
Виардо кивнула, весело изучая его потрясенную физиономию.
– Вижу, что угадала.
– О, спасибо, мадам Виардо! – Петр Ильич восторженно посмотрел на нее и благодарно поцеловал руку. – Вы не представляете, что это значит для меня!
Два часа он провел, не отрываясь, перелистывая драгоценную партитуру. Казалось, будто он пожал руку самому Моцарту и беседовал с ним.
В июне приехала Ольга и немного пожила у Оклеров, прежде чем забрать Жоржа. Тот поначалу дичился незнакомой женщины, но понемногу привык и даже, кажется, полюбил ее.
Неожиданно возникли затруднения: русский консул наотрез отказался вписывать Жоржа в паспорт Петра Ильича. Пришлось доставать французский паспорт, что было сопряжено с невероятными трудностями и беготней, доводившими до отчаяния. Но с помощью любезных хозяев гостиницы, в которой он останавливался, все устроилось.
Первую ночь Жорж почти не спал, из-за чего с ним бодрствовала и бедная Ольга. Зато, вопреки опасениям Петра Ильича, он не тосковал и не томился. Хотя по ночам все-таки порой всхлипывал и звал «maman». К концу путешествия он совсем успокоился, освоился с новыми людьми и даже начал называть Ольгу мамой.
В Петербурге их встретил Николай. Жорж, который, не стесняясь, командовал Петром Ильичом, при виде Николая оробел и спрятался за Ольгу. Она взяла его на руки и, ласково улыбаясь, произнесла:
– Не бойся, милый, это твой папа.
Жорж еще несколько мгновений настороженно смотрел на Николая, после чего несмело улыбнулся и пошел на контакт. Новоиспеченный отец выглядел очарованным.
– Петя, будешь крестным? – спросил он, когда они сели в карету.
Петр Ильич с готовностью согласился.
В Покровской церкви было тихо и пусто. Сквозь узкие высокие окна на пол прямоугольниками ложились солнечные лучи, оставляя дальние углы в полумраке. Жорж, до ужаса милый в крестильной рубашке, в течение всего Таинства сидел на руках Петра Ильича молчаливо и серьезно. И только во время погружения в купель заплакал и потом долго не мог успокоиться.
Весь тот день, будто чувствуя скорую разлуку, Жорж был грустен и тих. Дабы избежать новых слез – накануне, когда Петр Ильич уходил от брата, Жорж отчаянно рыдал, – он уехал потихоньку, пока племянник спал. Жаль было расставаться с мальчиком, к которому он успел привязаться. Но из него самого вышел бы плохой отец, а Николай отлично справится с этой ролью.
Как же мил и симпатичен показался Петру Ильичу его маленький домик в Майданове! Когда он уезжал, повсюду лежал снег, а теперь дом окружали зелень и цветы.
Разумеется, весь вечер пришлось провести с Кондратьевыми, у которых сидела и Новикова. Дина радостно кинулась к нему, тут же принявшись рассказывать новости и сообщив, что теперь Майданово ей вполне нравится. А ведь как ругала его поначалу!
Во время своего путешествия Петр Ильич почти ничего не делал и теперь собирался приналечь на работу, чтобы нагнать упущенное время. Однако настроения не было, лето выдалось отвратительным, и «Чародейка» шла лениво.
Глава 17. Дирижер
В консерватории Петра Ильича встретил регент Хорового общества Иванов и сразу повел показать новую залу. Ее объединили из двух старых, сломав стену, и построили хоры для второго органа. Стало просторно и гораздо удобнее прежнего. Именно здесь должен был проходить духовный концерт. Иванов заметно волновался: Петр Ильич состоял попечителем хора, и на концерт его пригласили, чтобы он высказал мнение о новом регенте.
Исполнением он остался более чем доволен: несмотря на волнение, Иванов управлял хором уверенно и четко. Но выбор номеров приводил в отчаяние. Странное дело: в самом коренном и центральном русском городе не любили настоящего православного пения, а предпочитали какие-то безобразные концертные пьесы, написанные в итальянском стиле, и притом грубо и бездарно.
А ведь как он старался, чтобы подобные вещи изгонялись из церковно-музыкального репертуара! И все без толку… Московские любители церковного пения предпочитали именно эти безобразия и роптали, когда им предлагалось что-нибудь написанное чисто, правильно, в духе православного богослужения. Добро бы еще пели Бортянского. А то всё сочинения каких-то Дворецкого, Яковлева… И не поймешь, чего в них больше: бездарности или невежества.
Особенно же удручало, что эта гадость поется в учреждении, к которому Петр Ильич имел отношение. Свое возмущение он высказал Иванову по окончании концерта, впрочем, похвалив его мастерство регента.
– Что поделать, – отвечал тот, пожав плечами, – пока хор не упрочился, приходится потакать дурному вкусу публики. Иначе нас никто не станет слушать.
Петр Ильич хотел было возразить, что дешевая популярность не делает им чести, но только махнул рукой.
Посещение на следующий день обедни в Успенском соборе немного исправило испорченное настроение. Здесь пели знаменным распевом – совершенно в православном духе, без модной итальянщины. Только под такое пение можно по-настоящему молиться. Народу собралось немного, и, к счастью, никто не обращал внимания на стоявшего возле колонны Петра Ильича.
Когда открылись Царские врата, и началась Херувимская, он пораженно замер. Неужели?.. Да, никакого сомнения – пели на его музыку. Впервые ему пришлось слышать свое церковное сочинение во время богослужения, и это доставило огромное удовольствие.
В Москве Петр Ильич пребывал в унынии, но и возвращение к себе почему-то не радовало. Опять же – дачники. Как назло, все они занимались музыкой, и с утра до вечера приходилось слышать гаммы, зубрение сонат. До чего же они раздражали нервы! На него напала хандра. В городе было скучно, в деревне – тоскливо, ничто не привлекало и не радовало, ехать никуда не хотелось. «Чародейка» по-прежнему продвигалась медленно. Да и здоровье в последнее время было неважно: постоянно лихорадило.
В середине июля Кондратьевы вдруг решили уехать в Петербург. Без конца жаловавшийся на обилие дачников, мешавших работать, Петр Ильич непоследовательно обиделся на друзей за ранний отъезд. Просто из-за него казалось, что лето уж подходит к концу, а он еще и не начал им наслаждаться.
Тоску развеял приезд братьев – Николая и Модеста. Коля уехал через несколько дней, пригласив к себе в гости в Уколово, а Модя остался до осени.
Хандра немедленно исчезла, работа пошла бодро, Петр Ильич снова начал получать наслаждение от прогулок, проникаясь прелестью каждой травки и каждого облачка. К концу августа он наконец-то закончил «Чародейку», после чего написал двенадцать романсов для императрицы Марии Федоровны. Еще весной великий князь Константин Константинович говорил, что императрица желала, чтобы он что-нибудь ей посвятил.
Модест работал сразу над двумя вещами: инсценировкой повести Потехина по просьбе последнего, и собственной комедией «У стены». Дороживший мнением брата Модест прочитал ему пьесу, едва закончив ее. История любви помещицы – сильной и умной женщины – и простого крестьянского мужика заинтересовала Петра Ильича с первых строк. Особенно же понравилась концовка: когда герои поняли, что, несмотря на искренние чувства, они не смогут быть вместе – слишком разными их сделало воспитание и социальное положение, – и расстаются.
– Весьма оригинально и ново, – одобрил он. – Уверен, эта комедия заставит говорить о себе.
Модест, заметно нервничавший во время чтения, ободрился, довольный похвалой, но тут же сник.
– Вот только Васильева, которую я хотел видеть исполнительницей главной роли, ознакомившись с первыми тремя актами, пришла в недоумение. Сказала, что не понимает героиню и роль ее не увлекает. Может, стоит что-то исправить?
Петр Ильич решительно возразил:
– Ни в коем случае! Ничего менять не надо. И недоумением Васильевой не смущайся. Она давно играет, и рутина русского театра крепко в нее въелась. В твоей пьесе есть нечто долженствующее смутить даже и умного, но испорченного пошлым репертуаром актера. Если ты заметишь, что Васильева не понимает и не увлекается ролью, то и не отдавай ей. Вот Давыдов, пожалуй, скорее всех поймет.
Модест неуверенно кивнул, воодушевленный словами брата, но все еще сомневающийся.
***
В конце сентября Майданово опустело: Модест вернулся в Петербург, дачники разъехались, Новикова надолго отбыла в Москву. Оставшись в одиночестве, Петр Ильич вновь полюбил Майданово. Все-таки природа здесь была необычайно хороша, и в отсутствие соседей это чувствовалось особенно сильно. Деревья в парке стояли еще зеленые, только кое-где появились желтые тона, придающие необычайную прелесть пейзажу.
В Москве с торжественного представления «Демона» начались чествования Антона Рубинштейна. И снова ужин, бесконечные спичи и тосты… До четырех часов ночи!
Зато за ужином Петр Ильич познакомился с новыми управляющими театрами. Дирекцию недавно разделили на московскую и петербургскую. В Первопрестольной теперь всем заправлял Майков – вызвавший антипатию с первого взгляда. Говорили, будто он помешан на экономии, что заставляло опасаться за постановку «Черевичек». Всеволожский-то в свое время распорядился ничего не жалеть для оперы, но что будет теперь – с новым директором?
Зато начальник репертуара Николай Александрович Чаев понравился: милый, мягкий и добрый человек, преисполненный наилучших намерений. Они быстро сошлись, разговорились и вскоре уже общались, как старые друзья.
– С сожалением должен сообщить вам, Петр Ильич, – заметил Чаев в ходе беседы, – что «Черевички» не пойдут раньше половины ноября. Альтани все еще слишком болен, чтобы дирижировать. Разве что вы сами…
– Наверное, придется… – вздохнул он.
Он давно обдумывал этот вариант. С одной стороны, было страшно, а с другой – хотелось попробовать. И он все больше склонялся к тому, чтобы согласиться.
В Майданово Петр Ильич вернулся вместе с Германом Ларошем, который совсем опустился и дошел до того, что своим нежеланием посещать классы вывел из терпения даже Танеева. Они с Сергеем Ивановичем посовещались и решили отправить Германа в годовой отпуск. По сути это было увольнение, но в более мягкой форме.
В который раз Петр Ильич пытался заставить друга хотя бы что-нибудь делать и писал статьи под его диктовку. За те пять дней, что Ларош прогостил в Майданове, еле-еле удалось выжать из него несколько страничек. Он только ел, пил, спал и по тридцать раз в день повторял:
– Ах, Петя, как я люблю женщин!
Петр Ильич сокрушенно качал головой. Что с ним будет дальше при такой обломовщине?
Проводив Лароша, он занялся инструментовкой «Чародейки». Безумно хотелось побывать в Италии, но оперы удерживали его на родине. От постоянного напряжения начала болеть голова. Стоило посидеть за работой с полчаса, как появлялось ощущение, будто в мозг воткнули гвоздь. Боль была столь мучительна, что о сочинении уже не могло быть и речи. В надежде побороть неожиданный недуг, Петр Ильич поехал развеяться в Петербург. Головные боли прошли немедленно.
Он навестил Митю и Боба в Училище правоведения. В знакомых коридорах вспомнилось детство, одиночество, тоска по матери, учеба и старые товарищи. От той поры остались и хорошие воспоминания, но больше они все-таки вызывали грусть.
Племянники обрадовались его появлению – они заметно соскучились по родным, но в то же время и не тосковали так сильно, как в свое время Петр Ильич. К училищной жизни привыкли и не тяготились ею. К тому же в Петербурге жила их старшая сестра Татьяна, к которой оба ходили в отпуск. Пятнадцатилетний Боб сильно вырос – стал выше Модеста. Его прямо-таки невозможно было узнать. Они долго болтали, обмениваясь новостями о родных.
– Маменька все болеет, – с грустью сообщил Боб, – недавно страшные боли перенесла. Тася писала, что она даже кричала и просила ее убить.
Петр Ильич тяжело вздохнул. За что же бедной Саше такие мучения? Кончатся ли они когда-нибудь?
– Зато Таня совсем поправилась, – решил сгладить тяжелое впечатление от этой новости Митя. – Веселая, довольная. Старается быть полезной и о нас очень заботится.
– Дай-то Бог, чтобы это были прочные перемены.
Как же хотелось, чтобы все наладилось, наконец, в этой семье: и ведь всё есть у них для счастья, но почему-то вечно все чем-нибудь мучаются.
Приятно удивил музыкальный мир Петербурга: Петр Ильич обнаружил, что его музыку здесь любят, повсюду он встречал трогательное сочувствие. Прошли те времена, когда о постановке новой оперы приходилось хлопотать и просить. Теперь еще не законченную оперу уже включали в репертуар и собирались роскошно обставить! Известность налагала и неприятные обязанности: бесконечные приемы, ужины, необходимость носить светскую маску, принуждать себя говорить, когда хочется молчать, приветливо улыбаться, когда на душе поводу к улыбке нет, без толку болтать, когда нужно работать… Среди суеты столичной жизни охватила тоска об одиночестве и сожаление о зря пропадающем времени.
Но вот незадача – стоило вернуться в Майданово и сесть за оперу, как возобновилась головная боль, не оставляя ни днем, ни ночью. Петр Ильич не мог ни спать, ни работать, ни читать, ни гулять, доходя до совершеннейшего отчаяния. И вот приходит телеграмма: его требуют в Москву для репетиций «Черевичек». Первым порывом было отказаться и уехать за границу. Какой толк присутствовать на репетициях в таком состоянии? Но то ли от волнения, то ли по какой другой причине, вдруг стало гораздо лучше. Отлично проспав ночь, он встал почти здоровым и отправился в Москву.
Чем ближе наступал ужасный день, тем невыносимее становились страдания и сомнения. Множество раз Петр Ильич порывался бросить свою безнадежную затею. Останавливала только мысль о том, что оперу тогда отложат на неизвестный срок.
Каждое утро в одиннадцать он был в оркестре за дирижерским пюпитром. Репетиции шли до четырех часов. Дирижерство давалось с трудом, требовало сильного напряжения нервной системы. Но в то же время приносило и удовлетворение: управлять самому ходом своего сочинения и не быть принужденным беспрестанно подходить к дирижеру, прося его исправить ту или другую ошибку, оказалось невероятно приятно. Петр Ильич волновался гораздо меньше перед новой оперой, чем бывало прежде, когда при репетициях он бездействовал. Но и уставал до полного изнеможения – и физического, и нравственного, – так что, возвратившись домой, мог только лежать и дремать в одиночестве. Однако парадоксальным образом усталость хорошо повлияла на здоровье: и головную боль, и проблемы с желудком как рукой сняло.
К вечеру силы возвращались, и обедал Петр Ильич у племянницы Анны, которая окружила его всевозможной заботой. Став матерью, она сделалась мягче, шероховатости ее характера сгладились. И теперь впечатление, производимое молодыми супругами, грело душу. В семье племянницы Петр Ильич отдыхал от театральных треволнений.
В день генеральной репетиции он вошел в театр ни жив ни мертв. От ужаса темнело в глазах и слабели ноги. Музыканты встретили его восторженно, и волнение немного улеглось – стало легче дышать, он даже сказал небольшую речь. Репетиция прошла весьма и весьма недурно, и он совершенно успокоился. Продирижировал сейчас – продирижирует и на премьере. И музыканты, и Альтани, и артисты принялись поздравлять и уверять, что он дирижировал так, что все удивились. Если это только была не лесть.
Все билеты раскупили задолго до премьеры – интерес публики к новой опере подогревался тем, что ею управляет сам автор.
***
Ясным морозным январским утром Петр Ильич проснулся совершенно больной, думая о предстоящем, как о чем-то невозможном и ужасном. В попытке успокоить нервы он отправился в театр пешком в сопровождении братьев Модеста и Николая, приехавших специально на премьеру. Снег сверкал на солнце и хрустел под ногами. Изо рта редких прохожих вырывались облачка пара, покрывая инеем усы и бороды.
У входа братья расстались: Модест и Николай ушли в зрительный зал, а Петр Ильич, замирая от страха, к музыкантам в оркестровую яму. Взвился занавес, и началось поднесение венков от артистов при громе рукоплесканий. За это время Петр Ильич немного пришел в себя, начал дирижировать и к концу увертюры почувствовал себя уверенно.
Первое действие прошло хуже, чем на генеральной репетиции: из-за болезни Крутиковой Солоху пела Святловская, которой роль совсем не шла. Зато остальные исполнители порадовали. Особенно Корсов провел роль беса чрезвычайно тонко и умно – Петр Ильич пришел в восторг от его игры.
Публика много смеялась и, вообще, встретила первое действие восторженно. После него многократно вызывали и артистов, и автора-дирижера, подносили венки. Петр Ильич перестал нервничать и остальную часть оперы дирижировал спокойно. Впрочем, неудивительно, что столько аплодировали – театр был наполовину заполнен друзьями.
После спектакля состоялся торжественный ужин в «Славянском базаре». Все наперебой уверяли, что Петр Ильич прекрасно справился и у него несомненный дирижерский талант. Много говорили хвалебных речей, приятных авторскому самолюбию.
Самым же трогательным стало выступление Чаева:
– Дорогой, Петр Ильич, примите как скромное, но искреннее подношение это стихотворение.
Шел гусляр дорогой,
Гусли под полою,
Встречу удалому
Люд честной гурьбою.
Парни, молодицы
Гусли увидали:
«Заходи в деревню,
Поиграй», – пристали.
Сел гусляр за гусли,
Пробежал перстами…
Словно вешний ветер
Шевельнул листами.
Слышь, щебечут птицы,
Ручейки струятся
И с веселым звоном
Ласточки резвятся.
Вот по небу туча тихо проплывает,
Над дремучим лесом
Молния блистает.
Вот зимою вьюга
Взвыла ведьмой злою…
Грустно, сердце ноет
Будто пред бедою.
Но проснулись струны,
Солнце засияло –
И грозы, и вьюги
Словно не бывало.
Вновь весною веет,
Муравой травою,
Снова даль синеет
Над Днепром-рекою.
Пой, гусляр наш славный,
Радуй многи лета,
И прими с любовью,
Этот звук привета.
– Благодарю, – от всей души произнес Петр Ильич, со слезами обнимая улыбавшегося поэта.
После ужина, проводив Николая, они с Модестом вернулись домой в пятом часу утра – уставшие, но радостные. И тут же уснули как убитые.
На следующий день Петр Ильич проснулся довольный и бодрый. Однако отличное настроение испарилось, когда, войдя в столовую, он обнаружил там бледного и мрачного Модеста.
– Что случилось?
Брат посмотрел на него, явно не решаясь что-то сказать, и от этого сердце замерло в нехорошем предчувствии. Модест открыл было рот, но так ничего и не произнеся, молча протянул телеграмму, которую сжимал в руках. Петр Ильич со страхом начал читать. Лида Генке – их двоюродная сестра – сообщала, что на маскараде Дворянского собрания скончалась племянница Таня.
Он пошатнулся, вцепившись в ближайшее кресло. Как же так? Ведь совсем недавно он был в Петербурге и видел Таню: здоровую и веселую. Что же случилось? Следующей мыслью было: бедные родители! Как перенесут эту новость Саша и Лева, обожавшие старшую дочь? Страшно и подумать…
– Знаешь, – медленно произнес Петр Ильич, – мне часто приходило в голову, что для Тани это было бы лучшим исходом. Она теперь отмучилась. Но… бедная Саша!
Модест кивнул:
– Надо ехать в Петербург.
– Езжай пока один. Я останусь рассказать Ане и подготовить ее.
С первым же поездом Модест отправился в столицу, а Петр Ильич с тяжелым сердцем пошел к племяннице. Страшное известие она восприняла спокойнее, чем он ожидал. Любовь к маленькой дочери поглотила ее всецело, и смерть сестры хоть и расстроила, все же не вызвала того убийственного эффекта, которого он опасался.
Он собирался тоже ехать в Петербург, куда должен был прибыть Лева, чтобы забрать тело в Каменку. Но, несмотря на подавленное состояние духа, в итоге принял решение остаться дирижировать «Черевичками» на следующих представлениях. По крайней мере, утомление не давало надолго зацикливаться на горе и думать о несчастных родных.
Несколько дней спустя пришло письмо от Модеста с подробностями трагедии. Конечно же, виноват был морфин. Стремясь быть на балу бодрой и веселой, Таня приняла слишком большую дозу, и организм не выдержал.
Утомленный тяжелыми переживаниями, на втором представлении Петр Ильич дирижировал с большим трудом. Но, кажется, публика ничего не заметила: встречали его по-прежнему восторженно. Как же горько было принимать овации и поздравления, в то время как все мысли устремлялись к несчастной сестре, племянникам и зятю.
Отслужив по Тане панихиду с московскими родными, он вернулся в Майданово – отдохнуть и успокоиться.
***
Петр Ильич работал над «Чародейкой» с лихорадочной торопливостью, опять уставая до изнеможения. Впереди предстояла такая бесконечная вереница задуманных и обещанных работ, что страшно заглянуть в будущее. Как же жизнь человеческая коротка!
– Пожалте обедать! – объявил Алексей, как всегда войдя без стука.
Петр Ильич поморщился, отрываясь от оперы, и бросил быстрый взгляд на часы. Без десяти час.
– У меня еще десять минут для работы! – недовольно произнес он, вновь склоняясь над нотной бумагой.
– Интересно! – фыркнул Алексей. – Это мне что, теперича разогревать заново?
Петр Ильич раздраженно глянул на него, но ничего не сказал. По-прежнему бурча, Алеша все-таки вышел из комнаты, не забыв хлопнуть дверью. Не сильно, но чувствительно. Петр Ильич только глаза закатил: совсем избаловался парень.
За обедом Алексей сменил гнев на милость: был предупредителен и любезен. Как оказалось, не без тайного умысла.
– А не съездить ли вам, Петр Ильич, в Москву? – спросил он, подавая сладкое.
– Зачем? – опешил тот.
– Да мало ли – дела-то завсегда найдутся. Освободите дом на пару дней: мне надо свадьбу справить.
Алексей недавно надумал жениться на местной крестьянке: симпатичной черноокой и темноволосой девице.
– То есть ты не хочешь, чтобы я на твоей свадьбе присутствовал? – с недоверчивым смешком уточнил Петр Ильич.
– Ясно дело, не хочу! Какое веселье, когда барин под боком? Да и мы вам мешать будем – вам же тишина нужна, – заискивающим тоном заявил Алеша.
Вот ведь шельмец – умеет, когда хочет. Петр Ильич усмехнулся.
– Будь по-твоему: съезжу в Москву – гуляй свою свадьбу. Только чтобы к моему возвращению все было прибрано.
– Да не извольте беспокоиться! – Алеша победоносно заулыбался.
Уже в Москве Петр Ильич узнал, что свадьба не состоялась: невеста сбежала из-под венца. Однако Алексей нисколько не огорчился, и кутеж все равно был.
***
Вдохновленный успехом с «Черевичками», Петр Ильич согласился дирижировать симфоническим концертом в Петербурге. Если концерт сойдет также благополучно, как опера, значит, он сможет личным участием содействовать распространению своих сочинений.