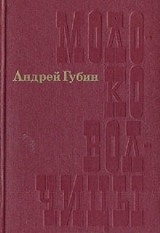
Текст книги "Молоко волчицы"
Автор книги: Андрей Губин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 44 страниц)
– Родная тетушка, ты дозволь закон принять...
Посидели, поплакали, обголосили родные могилки, посыпали птицам зерна и поплелись домой.
Чуть свет началась суматоха. Запылала печь. Полетели в кипящие чугуны паленые куры. Настя замоталась, выдавая припасы.
И такое же идет у Глотовых.
В амбаре Федор с тестем готовят зелье, гостей много. Невесту убирают к венцу. А еще прежде она прощается с родными. Странно и горько жили-жили вместе, а теперь уходи в чужую семью. Федор прочернел в эти дни, но бодрится казак, только чаще бегает покурить за сарай. Настя дала волю слезам и даже девок довела до рыданий.
– Едут! – в три голоса заорали казачата в черкесках и наборных отцовских поясах. Сердце матери запекается кровью.
Смело разрезая толпу, к наряженной невесте идет жених в брачных регалиях – на груди лента, на ней восковой цветок, однородный с венком невесты. Перед Петром вырастает стена девок. Как оглашенные запевают ему в лицо "Не подступай, Литва"... Теперь младший брат невесты должен продать жениху сестру. Семилетний Федька насупился, как на татар, держится за костяную ручку кинжала, и кобура при Федьке, правда, без нагана.
– Медь, серебро или золото? – Выкатились, как полные бочонки, дородные свахи-молодицы, глазами играют, вином прельщают, юбками пол метут.
– Золото! – подсказали Федьке.
Свахи, поставив графины, полезли под юбки за кошельками, оголяя полные ноги и кружева белья. Бросили по копейке в глубокую шапку, которую предусмотрительно дал внуку дед Иван.
– Мало!
Блеснули серебряные монеты.
– Мало!
Наполнили шапку конфетами и пряниками. Казачата смотрят на счастливца. Жених бросил ему золотую пятерку. Федьку толкнули: продавай. Мальчишка сыто сгреб шапку с богатствами и чокнулся с женихом – продал сестру. Девки невесты горько запели:
Да братец-татарин,
Он продал сестрицу за дары,
За червонцы, за горелочку
Пропил братец сестру-девочку...
Федька отступился. Жених обнял невесту, как свое, купленное. Перед крыльцом кони рыли снег.
С и н и й с в е т о т г о р м о р о з н ы х, т и х и х. П о в ы в а е т в с т р е х а х в е т е р о к.
Бережно Глеб внес Зорьке навильник сена и стоит рядом с коровой, раздумался в худом сарайчике – угол светится дырой, тянет оттуда холодом. Зима. Пустыня. Закат. Впереди небытие. А сейчас страх, тоска, одиночество.
И он прижимается к теплому боку коровы, живому красношерстному ковру, нежась теплом дорогого существа, кормилицы. Может, и Зорьке от близости кормильца и палача веются весенние грезы о зеленых лугах и нарядных облаках в воде на стойле.
Так стоят, коротая время, жертва и хищник, заботящийся о ней. Заткнул дыру клоком соломы, и сразу потемнело.
– С богом! – вышли с иконой Федор и Настя.
Тройки понеслись. По пути в Благословенную церковь сани Петра и Марии чуть не обогнал другой свадебный поезд – православные ехали к венцу.
– Гони! – рявкнули старообрядцы, чтобы не уступить никонианам.
Тут случилось маленькое происшествие. Приученные к скачкам кони Петра не давали себя обойти. Но сдуру, что ли, метнулась из переулка к первым саням Нюська Дрючиха, жил с ней Петр года два, ухватилась за грядку саней, пытаясь сорвать с Марии кисейную фату. Молодой дружок Петьки, Алешка Глухов – шашка наголо – толкнул окаянную бабенку. Нюська упала, но пальцев змеячьих не разжала. Тело волоклось за санями, обдираясь о льдистые кочки. Пришлось Алешке сапогом ударить по пальцам. Баба оторвалась. Прямо на нее летела тройка православных.
– Дави суку! – орал Алешка.
Кони шли, как на Большой приз, земли не задевали. Но перед телом умные животные свильнули, сбив ход. Кучер тройки успел вытянуть кнутом проклятую волшебницу, и православные отстали, а через два порядка свернули в свою, Николаевскую церковь.
В старообрядскую вносили гроб. Отпевание грозило затянуть церемонию. Алешка Глухов вошел в алтарь, несмотря на протесты служек, и сунул батюшке под стихарь полуимпериал. Гроб сдвинули – не к спеху. Вздули кадило на цепках, бросили в курильницу ладан. Вошел спешно облачившийся дьякон, поразительная красота которого губила в станице баб и девок, как пожар траву. Начали обряд. На головы Петра и Марии надели венцы кружевного серебра – золото старообрядцы презирали: серебро от бога, злато от сатаны. На черную кожу Библии положили граненый кипарисовый крест. Под ноги Петру незаметно подставили скамеечку, чтобы мог возвышаться над женой.
– Раб божий Петр, согласен взять женой рабу Марию?
– Согласен.
– И дашь ответ на том свете за ее живот?
– Дам.
– Раба божья Мария, согласна стать женой Петра?
– Согласна.
– И будешь бояться мужа?
– Буду.
Священник соединил их вечными узами. Мария несмело надела кольцо на палец мужа, он отдал ей ее кольцо. Выпили из одного стакана святого вина Петров же кагор. Певчие истово пели "многая лета".
На выходе молодых осыпали хмелем, зерном, мелочью – под ногами ползали калеки и нищие, собирая деньги и конфеты.
Тройка понеслась к фотографу Грекову, на заведении которого значилось не по-русски "Moderne Photographie Paris"*. Запечатлели торжественный миг в брачных нарядах. Оттуда два шага до Глотовых, на Генеральской улице, где временно потеснили квартирантов, жить же Петр собирался по-прежнему на хуторе. Там уже великое множество родных и столы накрыты. Благословили молодых иконой, стали усаживаться.
_______________
* "Новейшая фотография. Париж" (франц.).
На самые почетные места, подле новобрачных, посадили старейшего деда Ивана Тристана и Федьку. В обычные дни старика уже мало замечали, стоял он одной ногой в могиле, но каждый, проходя мимо, обязан снять шапку и поклониться. Тут же о нем заботились неустанно, подливали не простого чихиря или араки, а из запечатанной бутылки с казенным знаком. Брат невесты тоже важная фигура. Он даже мог вернуть выкуп, если сестра пожалуется ему на мужа. И цветок Федьке прикололи восковой, как у жениха, у всех остальных бумажные. Братец Антон прислал сестре поздравление "по проводам", чем сильно гордились Синенкины. Братец Александр на свадьбе был, но его сторонились – выпив, он начинал городить такую чепуху, что уши вянут, – о жизни на звездах, о какой-то химии и пшенице размером в конскую голову.
И вот уже дым коромыслом. Началось буйное казачье веселье. Старики подсаживались друг к дружке, вспоминали свои свадьбы, более правильные и шумные. Молодые завязывали узелки будущих свадеб, знакомились, ухаживали. Звон, песни, галдеж. Синеусый казак с бритым черепом в гомоне пытался дорассказать:
– Полковник Невзоров вызвался быть ему крестным отцом, Митьке нашему. На зубок подарил кинжал – расти, казак! Позвал нас с Петровной в гости. Нарунжились мы чик-навычик, приходим. А дом, что под волчицей, весь огнями сияет, музыка танцы бьет, гости одни господа и разговор идет не по-русскому. Ну, думаю, попали. Я-то мог по-французскому поздороваться, адью, говорю, смеются, понимают, значит, а старуха моя ни бум-бум. Посадил нас хозяин. Два лакея становятся сзади – из ресторана нанятые. Сидим. Чай с алимонами пьем. Только я за бутылкой потянулся, а лакей хвать ее и наливает мне в бокал. Ага, соображаю, ладно. Подают пирог с запеченным оленем – шестеро внесли. Лакеи порезали его на куски, и тут уже другой куртаж: каждый сам себе берет ножиком, а ножик – ровно пила. Вижу уроню, а скатертя златотканые. Вилки и у нас дома были, но их не давали, берегли. А хозяин, как на пропасть, приглашает нас с Петровной, как гранд-персон: кушайте, мол, дорогие гостечки. Гадал-гадал я, не уробел. Как поддену пальцами кусменяку, а другой рукой сверху держу. Тут и закричали все – уже по-русскому – браво, браво!..
На другом конце стола со смеху давится Серега Скрыпников, рассказывает, как в детстве нянчил младших братьев и сестер.
– Залезу на печку, а мать мне Гриньку сует, с гад ему было, "На, играйся с ним". А я не хочу. Как отвязаться? Я ему лапу пеку на горячей трубе, он орет как резаный. "Чего он?" – спрашивает снизу мать. "На пол хочет". – "Тю, чтоб его чума забрала!" А то еще так. Мать уйдет на поле, оставит нам с Полькой припасов, чтобы мы маленьких кормили. Мы пряники пожрем сами и кашу ихнюю сладкую и тянем их на загон к матери. – "Вы чего?" – "Орут как бешеные". – "А вы их кормили?" – "Все полопали и орут!"
Казаки хохочут, и вместе с ними злосчастный Гринька – косая сажень в плечах, каменотес артели дяди Анисима Луня.
В темном сарае промеж быков сидит Глеб Есаулов. От быков идет теплый пар, пахнущий шалфеем. В стрехах повывает ветерок. Песни доносятся от Синенкиных – свадьба уже в доме невесты, брачная ночь прошла. Что Мария так сразу согласилась на свадьбу, он посчитал за измену и даже сам хотел в отместку ей жениться. А поскольку она изменила, он старается не думать о ней, иначе боль в сердце нестерпимая, хоть в петлю лезь. И чтобы не слышать песен от Синенкиных, уходит со двора на мельницу, сидит в хате деда Афиногена, слушает были о прошлой войне на Кавказе, но и тут слышны песни и крики свадьбы.
Дух бешеного Терека вселился в казаков. Пляшут и рубятся, джигитуют на улице – свадьба или перестрелка? "Водят медведя" по станице с бубнами и тулумбасами. "Едят кур". Опохмеляются, приходят в себя, и свадьба начинает замирать.
После ста лет жизни у деда Ивана выпали старые зубы и выросли новые. Он снова с удовольствием грыз чурек, сахар, мозговые кости. Но теперь, видя, с какой жадностью, до белого, дед выедает корку моченого арбуза, Федор подумал: час тестя недалек. Иван уже не раз делал себе гроб, но смерть приходила за другими, гроб отдавали. Прошлым летом он снова выстругал себе ковчег.
Ивану стало душно в горнице. Стол с утра свежий – залит вином, сдвинуты в беспорядке грязные чашки и рюмки. Ивану вспомнилось утро его жизни, грозное, лихое, лютое, но теперь казавшееся прекрасным. Он вышел на баз. В голове шумело. Студеный ветер гнал с гор снежинки, ворошил начатый угол стога. Пьяные казаки без шапок проветривались за плетнями и сараями. В сторонке Маланья Золотиха жаловалась Исаю:
– Одна мать прокормит семерых детей, а семеро детей не прокормят одну мать. Никудышние дети стали. Ромашка совсем замечтался, а дочка опять в монастырь ушла...
Исай с крепкими, как у юноши, ногами, поддакивал, обнимал Маланью за грузную талию. Неожиданно жена пророка пошла в пляс.
Ой, бабочки, бабочки,
Да вы скажите, бабочки,
А где старость продают,
А молодость купуют?
Я бы сто рублей дала
Свою старость продала,
Я бы двести заплатила
Себе молодость купила...
У амбара стояли Петр и Мария. Он в шутку намотал на руку ее косы и легонько понукал, как лошадь. Она горбилась и деланно смеялась. Сердце деда сжалось. Он хотел на прощанье приветить внучку, но не посмел мешать мужу. Федор вывел из конюшни коней Петра и уважительно устилал сани соломой. Вот сейчас Мария будет окончательно прощаться с родными. Муж увезет ее в свой дом, где она будет жить по его законам, изредка видясь с родственниками.
Заплакала Настя. Шмурыгает носом Федька, понявший, что торг был не шуточным. Дед Иван, придерживая грудь рукой, поцеловал внучку, перекрестил и с трудом сел на дровосеку. Мария разрыдалась. В глазах деда поплыли золотые туманы молодости, когда и он увозил жену от родных, и было это, казалось ему, славно. Он уже не помнил ее, первую жену. Настя родилась от второй. И все же будто вчера это было. Как один день, пролетела жизнь. Молодые думают, что он много жил. Нет. Он жил столь же мало, как и его братья, умершие в детстве, сто лет назад. И не успели сани с гостями и молодыми скрыться за поворотом, как он упал на снег. Сморщенный, высокий, неожиданно легкий, точно пушинка, – "спрел в середке, как ясень".
Ивана внесли в горницу, еще полную свадебного дыма. Пришел священник и приобщил старика святых тайн, снабдил путеводителем в селения блаженных. После соборования Иван, очнувшись, благословил родных, еще остающихся в грустной юдоли земной, и тихо лежал под образами. Подошедшего Федора не узнал. Показалось, вошел косматый горец, которого дед зарубил на Сунже-речке. Бабы стали обголашивать деда, еще не решаясь выть в полный голос.
Пречистая матерь сошла с горных высот и тихо унесла на крыльях душу старого казака Ивана Франсовича Тристана, а тело его обмыли, одели в чистую справу и предали земле, откуда произошло оно и куда все обратится в конце концов.
ПЛЕТЬ МУЖА
Петр Глотов женился вторично. С бабами ему не везло. Вернувшись однажды с торгов в станице Георгиевской, он обнаружил, что его жена сбежала с каким-то проезжим хахалем. Вот тогда-то он и ушел жить на хутор, дав зарок никогда не жениться. С весны по осень ездил к Белым горам, собирал на альпийских лугах какие-то травы, от весны брал легкость, от лета – вкус, от осени – жар и долголетие и творил отменные настойки, наливки, запеканки.
Он погрузился в тайны виноделия, составляя для брата Зиновея-шинкаря рецепты вин и наливок, овладевал секретами дешевого изготовления спирта. Жил замкнутой, обособленной жизнью среди бочек, баклаг, бутылей, жбанов, выписывал журналы, знался с прасковейскими виноделами. Офицером он стал случайно, отличившись в подавлении рабочего восстания на государственном оружейном заводе, но в кадровой службе не остался.
С весны на хуторе он занимался и пчелами, ловил и рассаживал рои, плодил семьи. У станичников пчелы в плетенных из ивы сапетках, а у Петьки в крашеных сосновых домиках. У всех еще ульи стоят в подвалах, а у него уже пчела работает, носит с полей сгущенное солнце. Потом он качал меды, сливал их в чистые кадушки, где они засахаривались за годы так, что их приходилось рубить топором. Его медовую бражку охотно пили и господа.
Злость на жену-изменницу с годами утихла, хотя Петька с тех пор всех баб называл нехорошим словом. Случилось ему сблизиться с гулящей Нюськой Дрючихой – и снова в жилы влилась сладкая гибель-трава, любовь-отрава.
Нюська с детства бегала спать с взрослыми бабами соседками, слушала с замиранием в крови разговоры о любви и стала усердной жрицей в этом храме. Худенькая, с высокой грудью, остро пахнущая под мышками, она подавала воду у источников и стала сама источником для приезжих прапорщиков, семинаристов, купцов, извлекая выгоду из местного, насыщенного любовью климата. Ее водили в отдельные номера, хорошо платили. Не отказывала она и крепким станичникам, но тут не понимали, что даме надо платить. Невинное детское личико, молочная мякоть больших грудей пленили пожилого сотника.
Не раз Петр был близок к убийству, но трезвый ум пересилил, сумел он отказаться от Нюськиных ласк. И чтобы отгородить себя от случайностей в любви, решил жениться. Тут на глаза ему попалась Мария Синенкина. А злость на первую жену и на Нюську, которых он продолжал по-своему любить, осталась. Злость на женщин вообще.
Когда деду Ивану исполнилось сорок дней, Глотов поехал с молодой женой в лес. Но до места не доехал, свернул в глухую балочку, остановил коней. Позвал жену за собой. Она покорно пошла следом, вся похолодев.
Неожиданно Петр обернулся – и свистнула казачья плеть с медными жилками: за любовь довенечную, за побег первой жены, за распущенность Нюськи Дрючихи. Мария кротко всхлипнула и зажала себе рот, чтобы не кричать. Эта голубиная кротость распалила бешенство сотника. Ишь, голубка, а случись – от мужа сбежит, изменит, раз изменила еще до свадьбы, до знакомства с ним!
С пятого удара ноги беременной Марии подкосились. Упала на колени, зарыдав. Шустрый казачишка дергал свирепо светлые волосы, прыгал вокруг большой красивой жены. Вот теперь он сведет счеты со всеми бабами, блудливыми кошками. Коротко, в ненависти, бросил как на плацу:
– Встать!
Но подняться не дал – невдалеке ехали люди. Когда подвода удалилась, Петр сладострастно запустил пальцы в хрупкое горло жены, стал душить:
– Встать же, курва!
Она уже судорожно икала, помертвев, и пришлось горло отпустить, в дело опять пошла плеть. Обдирая ладони об терновые иглы, не видя белого света, Мария встала на четвереньки – графиня, как явствовало из надписи на ордене ее прадеда.
– Руки, потаскуха! – завопил сотник его величества.
Мария исполосованными руками прикрывала низ живота, куда он метил носком сапога – блуд вышибал.
– Родненький, – захлюпала горячо и молитвенно, – век буду бога молить, бей по голове, в зубы бей... – и упала навзничь от удара, и целовала пыльные, пахнущие дегтем и конской мочой сапоги сотника, цепляясь за жизнь, как все живое, со звериной тоской.
И муж пожалел блудницу и ее будущих детей – не бил по животу, не взял греха на душу, бил по золотистой голове и узким плечам. Вытоптанный снежок кое-где темнел от крови. Кровь шла горлом и носом.
Серыми мокрыми глазами Мария прощалась с единственным из людской стаи, что был рядом, – с Петром. Тогда вдруг пала пелена с глаз Петра. Он увидел ее беззащитные плечи. Шубу он сорвал с нее, платье содрала негнущаяся плеть, и обнажилась тонкая бледная тесемка сорочки и темная родинка на худой лопатке. Эта тесемка и эта родинка так не вязались с грозными понятиями коварства и измены, что Петр содрогнулся насмерть и почувствовал себя малым Петькой в жутком лесу. Кровь текла по груди жены, что отдана ему в руки ее родителями и за которую он даст ответ богу. Всхлипнул, схватил Марию в охапку – не поднять, целовал соленые губы, окрашенные не вином, горячечно спрашивал:
– За что я тебя так, а? Я ведь и кинжал взял, думал, на куски порежу...
Она не отвечала. Лежала, как пласт, на мерзлой земле. С трудом дотащил он ее до саней, бережно укутал романовским полушубком и погнал коней на хутор, не щадя их нисколько. Сам по военной науке помазал раны мазью, поставил компрессы, забинтовал жену.
В тепле и сытости Мария отлежалась. Глаз только попортил ей Петька плетью на всю жизнь, слезился. Отныне муж и пальцем не трогал ее, но и не глядел, был скучный и хмурый. Часто проведывал дочь Федор Синенкин. О многом догадывался, но дочь ничего не говорила и делала вид, что живет хорошо. Раз только и не выдержала, провожая отца за калитку, заплакала.
Летом пришло время. Петр позвал бабку Киенчиху. Роды прошли легко. Двойня – мальчик и девочка. Петра поздравляли. Он будто невзначай глянул на детей и больше не интересовался – Есаулова порода. К жене не подходил, воды не подал, хоть видел, как поблекли и скрутились от жгучей жажды ее губы. Она молчала. Не думала ни о прошлом, ни о будущем, теряла красоту, потому что лицо ее было красиво только в радости, а в скорби тускнело. Глеб временами промелькнет в сознании – девочка Тоня вылитый его портрет, а сын Антон похож на Синенкиных.
Глеб в это время был далеко. Еще ранней весной, когда у волчиц вымотались сосцы, а балки чуть засинели первыми скрипками-синичками, призвали молодых казаков на цареву службу. Отгуляли на проводах, перекинули на седла торока, отслужили молебен, атаман напомнил молодцам о славе предков, о казачьих косточках в чужедальних краях, и вот уже сотня тронулась, и далеко на курганах гаснет песня.
Оставляем, братцы, мы станицу
У Подкумка у реки.
На турецкую границу
Служить едут казаки...
Однако Глеб попал не на границу, а на конный завод в ремонтеры*. Пас, лечил и объезжал коней. Много ездил со своей командой в причерноморских степях, бывал за Волгой, перегонял косяки конские за тысячи верст. Под конец службы ему нашили урядника.
_______________
* Р е м о н т – пополнение убыли лошадей в войсках,
р е м о н т е р ы – лица, занимающиеся ремонтом (франц.).
Звездные ночи, костры. Табуны и травы.
Тоска по станице и хозяйству.
Поднимался Глеб и на службе раньше других – и за это его любили командиры, и ложился позже – стирает, штопает, мастерит. У других казаков – винтовка да конь, а у него три коня, фургон, а в том фургоне и таганок, и тазик медный походный, и даже каталка одежду гладить. Спиртное и табачное довольствие получал деньгами, занимался мелкой торговлишкой, и его в шутку называли маркитантом*, мог он и среди ночи достать вино, прирабатывал и тем, что часто за товарищей нес службу у лошадей. Раза четыре в году отписывал домой про свое житье-бытье, просил мать беречь быков и не переводить помидорный огород на лимане, братьям передавал поклон и кланялся "всей улице".
_______________
* М а р к и т а н т – мелкий торговец, сопровождавший в прежние
времена армию в походе (итал.).
Прасковья Харитоновна угадывала в письмах тоску сына по станице, писала ему ласково, с присказками, сообщала, что жена Глотова родила до срока – от венца, и что дети здоровые, что помидоры, "будь они неладны", сохраняет, Спиридон уже вселился в свою хату, и есть уже невеста, а Михея почти не видно – стал он егерем казенных лесов с Игнатом Гетманцевым, а Сашку Синенкина месяц держали в каталажке за какие-то сборища, а Дениска Коршаков уехал в город Ростов и насовсем стал мастеровым...
Через два года казак вернулся домой.
Со службы привел коней, фургон, сундук барахла.
Сам одет в тонкий бешмет, сапоги хромовые и шапку азиатского золотистого каракуля. Никто не узнал, что часто по ночам стирал казак офицерские исподники, а то и дамское белье за деньги, зато каждый видит, что вернулся казак с похода богатеньким. На загорелом суховатом лице черные усы, станом и выправкой казак благородный, газыри на черкеске серебряные. Только одно огорчало его – катастрофически белели виски, пробивалась ранняя седина, и Глеб иногда замазывал ее сажей.
При встрече Прасковья Харитоновна с удовольствием уколола сына Мария Глотова живет хорошо, и с себя стала лучше, полнее, проворонил сынок жар-птицу, вот вернулся бы, а семья уже готова. Но ему пока не до семьи. В его отсутствие хозяйство захирело, корова осталась одна, овец меньше, огород зарос лопухами да крапивой, сад, правда, ухожен, а быков братья почему-то продали, и денег тех не видно.
И сразу же Глеб взялся за все работы, за все промыслы, даже вершу на ночь в речку поставить не забывал: ночь-то спишь, а утром, глядь, и рыбка на завтрак поспела. Хоть и поздно было, но посадил на яйца трех квочек, а яйца взял и куриные, и индюшиные, и утиные. Подсолнухи и кукуруза давно взошли и кустились, но Глеб посеял их тоже. Люди смеялись: к рождеству вырастут. Потом смеяться перестали.
Осенью Глеб скосил сочный зеленый корм скотине, и Есауловы опять торговали молоком и сливками.
Марию не видел долго. Только раз показалось или померещилось, что на речке из зарослей ивняка, с девчачьего места, глядели на него пушистые серые глаза. Он купал коней. От волнения пресеклась нить дыхания. Пойти к ивняку сразу не посмел, а когда решился, то на месте глаз только вздрагивали желтые, в серебристых листочках веточки. Вернувшись к коням, долго сидел у сине-белой шумящей воды, как подбитый кулик, и открыл страшную правду: Марию он не разлюбил и жить с другой не сможет. И приходили в голову разные мысли – вот Петр бы помер или бы уехал и пропал, а то, бывает, виноделов режут за тугие кошельки...
Гремящая вода остудила его черную со снежком на висках голову. А кони напомнили о делах.
Круговорот времен совершался.
Пахать выезжали по снегу, постом. Пахота – самая тяжелая в году работа, а ели в пост лук, картошку, сухари. Спали в степи, в худых балаганах, под фургонами, кутались в солому и бурки. Поневоле вставали рано – холод донимал. Поля запорошены. С гор ветер, заря лубяная. В балках лают голодные лисицы. Быки скарежатся у крупных, как палки, объедьев. Яно проснутся казаки в воде – ночной ливень затопил. Чтобы не простудиться, умываются холодной водой до пояса и с шутками-прибаутками задирают рубахи над дымным костром – сушатся.
Свято блюлись религиозные праздники – несть им числа. После вознесения – на троицу ходили на взгорье, рвали чобр и устилали им глиняные полы чисто выбеленных и подведенных по фундаменту хат. На спас ели яблоки, качали меды. Убирались на покров, когда полевые работы кончаются, скотина уютно роется в полных яслях, в хате жара, пахнет пирогами. По примеру хороших хозяев протирали окошки перед рождеством. Тогда уже с полуночи, при колючих звездах, по станице ходят христаславщики. Мороз трещит. Сугробно. Парни и девки с торбами стучатся в окна и двери: "Дяденька-тетенька, пустите христаславить!" Заходят в освещенные цветными лампадками хаты, стучат валенками, снимают шапки, крестятся в передний угол и хором поют гимн "Рождество твое, Христе, божие". Потом хозяева одаривают славящих бога. Взрослым стаканчик поднесут, крыло гусиное на закуску, в мешок четвертак кинут. Детям пряники, конфеты, монпансье.
Манна небесная сыплется в эту ночь на хороших певцов – таких, как Спиридон Есаулов. Подобрав команду голосов, уличные регенты в дряхлых черкесках смело стучатся в двери офицерских особняков. Афиноген Малахов в эту ночь нанимал казачонка, чтобы тот следил за ним, – долго ли замерзнуть в сугробе, выпив лишнего, а как тут не выпьешь!
Полковник Невзоров, имевший славу казачьего Суворова, подавал золотую пятирублевку. Растроганный христианским пением, вспомнивший былые времена, полковник становился в ряд с поющими, угощал их коричневой водкой, а захмелев, шел сам по казачьим хатам славить Христа, собирая дань в виде чарки и соленого огурчика из оледенелой бочки.
Церкви пылают стеклами – идет служба. После заутрени можно садиться за стол. Начинается время игр, посиделок, катаний на тройках.
Вьюжит зима. Сковало речку. Кружится каруселью снег. На жаркую влезает печку казак – военный человек. Зимой он словно арестован, свой двор – вот вся его страна, свершив под рождество Христово обряд закланья кабана.
Проснутся до свету. В морозе свет фонаря. Визжит брусок. Скрипят на улице полозья. Заря – зальделый красный сок. Уже наточен длинный ножик. Хозяйка прячется – она убийства выносить не может.
И вот выводят кабана. Под ноги жемчуг кукурузный ему сыпнут из подола. Он чавкает, блаженно грузный. Рука же быстро подала бойцу камнедробильный молот.
А с неба жарит синий холод. Кипит в печи чугун с водой. Все смолкли, как перед бедой. Детишки с котелками тоже – кровь собирать на колбасу.
Повизгивает, насторожен, домашний зверь с парком в носу.
Вдруг визг, смертельный, леденящий. Все враз верхом на кабане, подплывшем кровию журчащей...
В ржаном соломенном огне смолили тушу, чтоб щетина спалилась с кабана дотла...
В утробе медного котла отрадно булькала свинина.
Все моют руки кровяные, трут их о снежные комки. Плывут над базом голубые и аппетитные дымки. Жрет требуху у будки Шарик. Налиты смальцем все горшки. На выжирках колбасы жарят. И моют синие кишки – пшеном вареным набивают, томят их в сале. В меди ступ корицы зерна разбивают.
Отменной брагой запивают горяче-золотистый суп.
В багровом зареве печи сомлели бабы молодые. Пылают комья огневые кизяков, жаря калачи.
Зима. Метельны, коротки, дни вспыхивали песней, смехом.
Стянув пуховые платки, заиндевев бараньим мехом, молодушки набелены, как их сметанные блины. Глядят на виллы с видом важным, где офицеры пьют отважно коньяк, шампанское, чихирь.
Морозно стынет волчья ширь.
Не сладко в куренях казачьих. В долги влезают мужики. И только те, кто побогаче, жгут зимних елок огоньки.
Подходит масленица. Свадьбы весельем озарят усадьбы. Дай бог, не по последней – тост. Потом придет великий пост.
СНЫ ВСЕЛЕНСКОЙ СИНИ
В тот год буйно цвели яблони, и май был бело-розовым. Летом за станицей сочно поскрипывали толстые стебли кукурузы, у солнца перенимали жар и цвет тыквы. В господских оранжереях зрели апельсины и гранаты. В сентябре неожиданно резко похолодало. Дожди перешли в снег. Мокрый, мохнатый, он таял на земле, белыми шапочками оставался на астрах и настурциях, на деревьях с неснятыми плодами. Ночью лужи остекленели. К утру дунул ветер – и осыпались зеленые листья, рассыпались чашечки цветов.
Померзли помидоры Глеба. Шел мимо лимана пророк Анисим Лунь – ходил искать хороший камень на стройку, – увидел на одичавшей плантации несколько кургузых помидорин, с опаской завернул их в лист лопуха и, радостный, носился по станичной площади, высоко поднимая мерзлые овощи:
– Вот они, яйца сатаны! Пробуйте, христиане! Содом-трава!..
На курсу, где был парк и мощеные улицы засажены каштанами, сиренью, жасмином, пахло, как на лугу во время сенокоса. Зеленый листопад. Такое вступление обещало долгую золотую осень. Теперь по утрам звенеть легким морозцам, дни будут синие, солнечные, и долго еще пылать в поредевших, обдутых садах кострам гвоздики дубков. Тишь и теплынь. Курлычут в небе журавли. За станицей, словно в царстве иной природы, снежные балки и бугры, над которыми другой, совершенной белизной высится Шат-гора.
В такие дни задыхаешься умиротворенностью, приятно молодит пиво, дорог уют открытых солнцу шашлычных, хорошо работается.
Наталья Павловна Невзорова проснулась с рассветом. Пока таял голубоватый сумрак в высокой комнате, она нежилась под одеялом лебяжьего пуха, поглаживала сильной рукой ворс текинского ковра на стене, разгоняя кровь для работы.
Каждое утро взор художницы уносился в беспредельную даль на пейзаже любимого Пуссена, что висел напротив. В комнате старые дорогие вещи подсвечники тусклого серебра, греческие вазы, книги, написанные от руки цветной китайской тушью, самоцветные камни, собранные в окрестных ручьях, чеканное оружие отца, пара дуэльных пистолетов в краснобархатном ящике будто бы стрелялись из них Лермонтов и Мартынов.
Наталья Павловна бездумно взяла из позолоченной бомбоньерки дольку засахаренного мармелада. Неслышно вошла прислуга. Люба Маркова, в ослепительном запоне, с кулоном на смуглой полной груди. Пряча солнечные смешинки в живых глазах, спросила, будет ли барышня сегодня работать. Казачке смешно называть работой сидение с кисткой и альбомом – заставить бы ее сено сгребать в жару или воз белья перестирать на речке.
– Да, – строго ответила художница, почувствовав иронию Любы.
Это означало, что завтрак будет ранний и легкий – черный хлеб, соленая брынза и крепкий чай с сахаром.
На дворе Невзорову встретил мирный, успокоительный звон пилы. Перспектива Пуссена продолжалась – волнующая, задремавшая даль, изломанная сиреневыми горами.
При появлении барыни пильщики остановились. Не кланяясь, с суровым достоинством сказали:
– Доброе утро, Наталья Павловна!
– Бог в помощь! – ответила она.
Казаки поплевали на ладони и продолжали пилить ясень цвета старой слоновой кости. Хотя им каждодневно предлагали сытную мясную пищу, они ели свое – редьку с квасом, воблу и сухари.
Религиозной истовостью, стойкостью и фанатизмом особенно отличался старшина Анисим Лунь. Дрова он пилил лишь по знакомству, он каменщик, немало домов на курсу построено его руками, в том числе и д о м в о л ч и ц ы Невзоровых. Крепкий, разбойного вида казак лет сорока пяти. Раскосый, большеголовый, волосы слиты с бородой – густое серебро, какое бывает на лезгинских шашках. Наталье Павловне он сразу приглянулся как модель старого казака. Лунь отказался позировать, с ужасом смотрел на блудницу, которая курила шатун-траву, папироски. Она писала его тайно, из окна. Лучше всего ей удался натуральный портрет; облокотясь на алую скатерть, Лунь сидит в распахнутом нагольном тулупе с пилой на коленях; на столе стакан и початая бутылка вина, – бутылку пририсовала, он и чай считал питьем дьявола.








