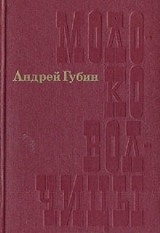
Текст книги "Молоко волчицы"
Автор книги: Андрей Губин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 44 страниц)
Да как же мы теперь будем?..
Да как же мы тебя забудем?..
Да возьми нас к себе-е...
Старухи, окружавшие гроб, что стоял на повседневном столе, изрезанном ножом Насти, ласково смотрели, как мать убивается за сыном. Дьячок читал каноны. Горели тонкого огня свечи.
Без страха проехал Федор по ночным улицам – кто теперь может остановить его? Во дворе сжался от криков Насти. Его уважительно пропустили вперед, кто-то принял коня и ослабил ремни. На шею отцу кинулась черноликая, кричащая на голоса Мария. Внуки потянули деда за карман – он никогда не забывал привозить им гостинцев. Сняв шапку, Федор перекрестился и вошел, как чужой.
– Ни печали, ни воздыхания... – басил дьячок.
Голубоватое в порошинках лицо Антона костисто. Голубоватый оскал зубов.
Увидев дружку, Настя с новой силой заголосила напевным плачем, обращаясь к нему:
Да, Феденька, ты мой родный...
Да посмотри на свово сыночка...
Да как он лежит хорошо-о...
Да ничего он не просит...
Да ничего не говорит он...
Да не спешит никуда...
Да, может, тебе он скажет...
Да, может, все расскажет...
Да спроси его, Федя-а-а...
И бессильно билась в руках соседок, распоряжавшихся чином. Федор склонил голову на гроб, плечи его затряслись. В углу плакал юный красноармеец Федька. Чему-то улыбался дед покойника Моисей. Вытирал слезы Александр Синенкин. Марию держали подруги, она рвалась и кричала:
– Пустите меня! Пустите! К братцу Антону!..
Вошли без шапок Михей Есаулов и Денис Коршак, боевые товарищи Антона. При виде коммунистов нескрываемой злобой загорелись глаза Золотихи, Кати Премудрой, Прасковьи Харитоновны и старух-богомолок – здесь они не боятся ничего, здесь, у врат вечности, их царство, их мир.
На другой день, когда выносили гроб, Денис и Михей первыми подставили плечи. Потом казаки менялись. И только не менялись Федор и Федька – никому не хотели уступить дорогого места.
Самоубийц церковь не хоронит, и нет им места на Кладбище. Но по просьбе родных Денис Иванович приказал новому батюшке отпеть новопреставленного.
Потом распоряжался фотограф. В скорбном молчании встала вокруг гроба родня. Маленьких пустили вперед. Фоля Есаулова, когда фотограф крикнул "Снимаю!", красиво улыбнулась в глазок камеры, похожей на гармонь, и не забыла уронить кудри на лоб, божья мать. Дети Марии, чувствуя себя хозяевами, их дядю хоронят, вертелись, перебегали с места на место, пришлось взять их за руки, а чтобы смотрели прямо, им сказали, что из аппарата сейчас вылетит воробей, – так и вытаращились в ожидании.
Тронулись в последний путь. Впереди казачата вели коня Антона. На алом седле шашка. За гробом шло полстаницы. Следом кавалерийский эскадрон коменданта с черными лентами в гривах. Потом полк Михея Есаулова с приспущенным знаменем. Трубачи играли военные сигналы и "Интернационал".
На кладбище Коршак сказал речь о мировой революции. Полк и эскадрон дали залп. На могиле установили крест с датами рождения и смерти. Многие подивились молодости покойного – тридцать два года. На кресте Михей укрепил пламенную звездочку из жести.
С кладбища шли к Синенкиным на поминки. Хозяйство их отощало, и Денис Иванович распорядился выдать из армейских запасов. Федька, как и Михей, в церковь не заходил – не признавал бога и божеских обрядов. Поэтому и на обед идти не хотел. Но Коршак взял его за руку и повел:
– Давай, Федя, помянем брата – такого у тебя больше не будет!
Вечерело. Столы стояли во дворе. Соседки разливали по чашкам лапшу, следили за очередностью поминающих. Сперва кормили нищих, чужих, под конец близких и тесную родню.
Глеб Есаулов прибыл в дом Синенкиных с провиантом – завхоз. С рушником через плечо обносил гостей самогоном, нищим давал с гущей, чужим – чуть получше, с дымком, своим – первач.
Федор сидел со стариками. Марию отхаживала в светелке подруга Люба Маркова, оставшаяся в девках. Насти за столом не было.
Постепенно столы оживлялись, завязывались тихие беседы, негромкие разговоры. Александр Синенкин при смене блюд просил добавки. Бывшая барыня Невзорова гутарила с казачками и, захмелев, заплакала. Потом запели. На казачьих поминках траур смерти не налагает запрет на песни и вино, нельзя только петь веселые.
Ой, Кубань, ты наша родина,
Вековой наш богатырь,
Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдаль и вширь...
– Спиридона Васильевича песня, – сказал дядя Исай Гарцев, вышедший по старости из войны.
– Где он, Спиридон? – отозвал Федора в сторонку Денис Иванович.
– Он на месте не стоит, был в Чугуевой, – соврал Федор.
– Сдашь оружие, признаешь вину – не тронем.
Так Антон вернул отца в станицу.
Сытые, захмелевшие станичники крестились, вставая из-за столов, Глеб, понимая горе хозяев, не давал расходиться своим, подливал в кружки еще, угощал табаком курящих. Его потянул за рукав сын Антон – зовут. Глеб вышел на улицу. В конце ее маячили двое верховых. Подошел. От Спиридона. За водкой и кутьей. Помянуть славного казачьего есаула, с которым довелось нюхать порох на германской линии. Глеб незаметно вынес бочоночек и чашку святой кутьи из риса с изюмом, наказав при случае вернуть посуду.
Двоюродный дядя покойного Анисим Лунь, насытившись, произнес:
– Говорю вам: не печальтесь, ибо удел его лучший, нежели ваш!
Глеб сменил Любу возле Марии, прикладывал мокрые платки к ее вискам и незаметно поцеловал глаз, попорченный плетью Петьки Глотова.
Наконец все разошлись, и Синенкины остались наедине с горем.
ВОЛЧЬЯ СОТНЯ
В горах объявился какой-то восточный человек в цветастом бухарском халате и белой чалме – знак паломничества в Мекку. Он вербовал охотников в армию шахиншаха. Соблазнял и Спиридона с его казаками прелестями дворцовой службы. Не пошли от родимой земли. Так и рыщут близ станиц и хуторов, трут подковы и амуницию, т о л ь к о в е т е р с в и щ е т в т р а в а х, т о л ь к о т р а в ы к л о н я т с я. И патроны есть, и шашки наточены, а уж не всегда выйдешь из глухомани. Ближе и ближе подходят конники Михея Есаулова, треплют сотню, как волк котенка. На трясинах шепчутся камыши, машут солнцу сухими метелками, а зимние квартиры, волчьи трущобы, набили оскомину еще на западном фронте.
В горечи дозоров и тревог легла на сердце Спиридона злая тень. Обносились, обовшивели его воины. Уже не помогали им богатые хуторяне и колонисты, обрывались связи со станицами, и получила казачья сотня новое наименование – банда. Сотник почти перестал есть. Утром кружка араки и сухарь, вечером две кружки и какая-нибудь вобла, реквизированная в сумке косаря или лесоруба. Лицо бледное, длинное, испитое, в оспинах, как у Прасковьи Харитоновны.
Круги сужались. Уже едва отстреливались от красной конницы. Тут выручили всадники в шапках волчьего меха, с волчьими хвостами на башлыках – волчья гвардия генерала Шкуро, которую он снарядил на золото, добытое в Персии. Есаул Шкуро был известен своей отчаянной смелостью и в числе первых получил золотое оружие на германской. Спиридон слышал о нем, а теперь довелось встретиться.
С гор Приэльбрусья хлынул в кубанские долины интернациональный полк под красно-зеленым знаменем – "исламокоммунизм". Залил кровью станицы, выбив и белых, и красных, и повернул опять в горы. Но это уже не легкая кавалерия – за тюками и хурджунами с добычей и всадников не видать. В зеленой со сквознячком балке полк, полтысячи сабель, остановился. Начали жарить баранов, пить бузу и вино. В обозе с утра шли пять бочек кубанского хлебного спирта, к обеду бочки опустели. Постепенно верх взял сон.
Сотня Спиридона, сто двадцать клинков, подошла леском, спешилась. Окружили бивак. Бесшумно сняли дремлющих часовых. Пластунами вползли в самую гущу полка. Спиридон крикнул кукушкой. Двести сорок клинков – у каждого, кроме шашки, кинжал – вонзились в горла спящих. Сытых, сонных рубили и кололи, как капусту. Били в упор из наганов. Кинувшихся убегать косили пулеметы, поставленные на пригорках. Заржала кобыла, волоча окровавленного седока в женских рейтузах.
Спиридону донесли, что вблизи показался полк Михея, что шел на расправу с "исламокоммунистами". Едва успев схватить трофеи, казаки Спиридона по сигналу тревоги вскочили на коней, но поздно – шестьсот сабель красного полка косили белых, как траву.
Треть сотни бежала до Баталпашинска, теряя портки и оружие. Спасибо, кони оказались свежими, а полк Михея перед боем сделал длительный переход.
На въезде их встретил на белом жеребце невысокий, с плотными плечами человек с генеральскими аксельбантами. Вяло посмотрел на бегущих казаков. За ним волчья сотня – двести пятьдесят человек. Генерал выстрелил из маузера и зычно крикнул:
– Стой! Откуда?
Спиридон Есаулов доложился.
– Встать за моей сотней! С нами бог! Кавказ поднялся. С Дона идет на Москву миллионная армия! Ужинать будем в вашей станице. Завтракать у Кинжал-горы, а скоро пообедаем в престольном граде! И там казаки волчьей сотни получат чин полковника и атамана кавказских станиц! Кличут меня Андрей Григорьевичем.
И грохнули карабины волков, приветствуя пополнение. И грохнули вторично – повалились носом в яр те, кто слишком медлил выполнять приказ Шкуро.
– Дозвольте, ваше высокопревосходительство, нам первым войти в станицу, – попросил Спиридон. – Посчитаться за нонешнее.
– Нет, вперед батьки в пекло не лезь. Первым войду я сам.
В ночь Шкуро выбил полк Михея из станицы, разгромил гарнизоны в соседних станицах, с Кубани подошли войска добрармии – "доброй армии", как иронически называли ее сами казаки.
Белое море надолго, до двадцатого года, затопило Северный Кавказ.
Бесшумные, как туманы, в стремительно медленных днях всадники Апокалипсиса мчатся на черных конях.
Свои библейские угрозы дядя Анисим адресовал теперь белым:
– "Вы, съедающие народ мой, как едят хлеб!.. Растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками... Смерть будет пасти этих овец, человеков... Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору... Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами, и сделает тебя чужим для твоих... И шли они крича: – Меч господа!.. И преследовали их, как делают пчелы..."
Не мех барашка – волчий мех покрыл казачьи шапки.
...Ночь. Ветер. Река неожиданно выходит из берегов, коварно плещется у порогов хат, жадно лижет двери. И какие-то тени неслышно крадутся к спящим хатам.
Ночь. Выстрелы. Истекающие кровью крики...
Михей Есаулов и Денис Коршак ушли с отступавшей армией на Волгу через злые астраханские пески. Рядом с Михеем его жена – Ульяна, больше не осталась в станице, боясь Алешку Глухова.
Долго держались друзья, Михей и Денис, вместе. Потом приказами их разбросало. Денис стал комиссаром в дивизии, а Михея послали в родные места – поднимать народ на войну с белогвардейцами.
В тех балках и над теми кручами, где бедовала сотня Спиридона, пытал свой жребий и Михей с горсткой партизан. Из старых бойцов у него Игнат Гетманцев, Афоня Мирный и два чекиста – Васнецов и Сучков. Пробовал Михей привлечь на свою сторону брата Глеба, что остался хозяйствовать при белой власти, – ничего не получилось. Спасибо и на том, что Глеб не выдал белым, что в горах появились партизаны. Вскоре к отряду прибился Федька Синенкин.
Летом девятнадцатого года белые и сами узнали о партизанах. И хотя сердце России было в огненном кольце белых, затопивших две трети России, с партизанами приходилось считаться. Они налетали с самой неожиданной стороны, жгли обозы, рвали железнодорожное полотно, убивали офицеров, не давали спокойно хлеборобить в степях. На какое-то время у белой власти станицы создалось впечатление, что тут орудует крупный красный отряд. В горы послали парламентера с белым флагом. Михей встретил его, дал понять, что у него действительно в глухих бекешевских лесах два полка, и принял предложение атамана о трехдневном перемирии – созрели хлеба, надо народу дать спокойно убрать их.
В те дни Спиридон Есаулов, подлечившийся в своей семье, встретился с Михеем – без оружия.
Михей из своего отряда разрешил только Федьке Синенкину помогать белой родне косить хлеб. И сам он, отчаянный рубака, близко подошел к хлебам.
Федька прискакал на родовой загон убирать пшеницу вместе с отцом. Федор махал косой. За ним другой косарь – дядя Спиридон. Мария и Настя вязали снопы. Дети Марии и сын Спиридона Васька кашеварят.
– Звезду хоть сыми с шапки, нехристь! – плюнул Федор в сторону Федьки.
Звезду Федька снимать не стал, но покосился: за какое дело браться?
– Запрягай коней, ирод! Снопы вози!
Под вечер Синенкины и Есауловы хлебали в степи кулагу из общей чашки. Федька не лез ложкой раньше отца и Спиридона. Федор и сыну налил кружку дымки – парень растет. Ночью съездил в станицу, привез сыну новые сапоги и теплую одежду – война никак не кончается, а дело идет к холодам.
К балагану Федор вернулся не один – с Михеем, встретившим его на лунной дороге. Федор шепнул Спиридону, и тот вышел к Михею.
Тихо и долго разговаривали братья, сохраняя перемирие. Бабы в балагане чутко прислушивались, но долетали только отдельные слова, фразы.
– Советам теперь не устоять...
– Белые генералы не удержатся... Юденича выкинули в Эстонию...
– А Колчака уже не остановить...
– Это по воде вилами писано...
– Уже известно, кого Деникин будет короновать на царство...
– Не удержится...
– Дай-ка твоего табачку...
На заре к балагану подъехал третий брат.
Спиридон спросил:
– Ты за белых или красных, Глеб?
– Я сам по себе, самостоятельный. Мне всякая власть – нож острый. Шкуро тоже хлебушек подметает подчистую. Опять же мобилизации. И когда это кончится?
– Дело говоришь, Глеб Васильевич, – закурил Спиридон. – Это жизнь райская: ни белый, ни красный – сам себе господин. Да только где же ты такую жизнь видал?
– Верно гутарит Спиридон: на два стула не сядешь, разве что промеж них, наземь. Два и есть только цвета: белый и красный, – поддерживает брата Михей.
– И собирается белый цвет на Москву несметной силой! – говорит Спиридон.
– Вот увидишь, обломают они зубы о рабочие штыки: московский да питерский пролетариат – железный. Два года уже удерживают столицы. И мой тебе совет, от души, не ради агитации: бросай, Спиридон, косу, захватывай верных тебе казаков и чеши к нам в полк – командовать будешь ты, я буду комиссаром.
– Где он, полк? – насторожился сотник.
– Ушлый ты, братец! Приезжай – увидишь.
– Так куда ехать?
– Не хитри, не с бабой, приезжай в любую балку – встретим. Решайся перемирие кончается. Не вернется Россия к старому, попомни мои слова.
– Не могу. Вроде измены получится.
– Нет тут измены для народа. Наоборот, получишь от народа награду.
– Нет, чужой буду у вас... как чужой и тут.
– Поедем, Спиря, – горячо просит брата Михей.
– Я уеду, а Фольку с Васькой повесят.
– Бери их с собой!
– А мать?
– Скроется.
– Поедем, Глеб? – повеселев, спрашивает Спиридон.
– А скотину на кого оставлю? Нет. Воюйте уж вы, командиры.
Спиридон, однако, оседлал своего коня. Михей тоже взял седло и стал ловить свою белоногую кобылу, резвую и норовистую. Она не давалась даже Глебу, коноводу.
Невдалеке послышались выстрелы. К балагану подлетел Федька.
– Дядя Михей, спасайся, за мной скачут белые!
Кто-то нарушил перемирие. Белые всадники приближались. Михей беспомощно стоял с седлом в руках.
– Не судьба, Михей! – сказал Спиридон. – Скачи живо. Брось кобылу. Садись на моего, твоей не уступит. Месяцем зовут!
– А мою Зорька! – Михей вскочил на коня и помчался за Федькой.
Глеб держал своего коня, который мог увязаться за Михеем, а Спиридон уже ласково потрепал гриву Зорьки – кобыла неожиданно присмирела, услышав топот, и новому хозяину далась.
– Кто тут был? – подскакали белые конники.
– Два пацана, станичники, – ответил Спиридон.
– Вот мать иху так! Ночью прибыл какой-то полковник и разматерил атамана и есаула за перемирие – красных, говорит, тут на одну понюшку не хватит, а вы с ними миры заключаете.
– Что за полковник?
– По фамилии Арбелин.
– Эге, – свистнул Спиридон, – знакомая фамилия, служили мы у него в полку. Где он квартирует?
– Наверное, в "Бристоле", а может, и в "Гранд-отеле".
– Это шишка крупная, тут он неспроста, надо с ним повидаться.
– Уже слышно: всем идти на Москву – и больным, и легко раненным, до пятьдесят лет – всем под ружье.
– Всю жизнь казаки шли на Москву – и ни разу не взяли! – говорит Спиридон.
– Ты к чему это, сотник? – покосился волчьей сотни казак. Запорожская Сечь разве не грабила Москву?
– К тому, что теперь непременно возьмем, – опустил глаза сотник.
– Выпить есть? – спросил волчак.
– Вон у хозяина спроси, – Спиридон показал на Федора.
– Ваши бабы? – облизнул губы волчак, видя Марию и Фолю.
– Наши, жены, с левого края моя, а с правого брата.
Услышав это, Глеб направился к Марии и завел с ней разговор. Казаки повернули в станицу.
УЧЕНИЕ О ЧЕРЕПЕ
По причине болезни печени князь Арбелин прибыл в станицу подлечиться целебной водой. Заодно возглавил тощий гарнизон, инвалидную команду. Все боеспособные силы ушли на северный фронт. Наступал самый решительный момент гражданской войны – поход Деникина на Москву.
За последние годы Арбелин почти не изменился, по-прежнему не сделал никакой карьеры и даже чином не вырос. Служил он давно по инерции. Его княжеское происхождение и философия – а он был философом – никого не интересовали. В белой армии была масса офицеров из низов, взводных ванек, и им вряд ли пришлись бы по душе аристократические теории князя.
Белый комендант занял люкс в "Гранд-отеле", свез туда половину курортной библиотеки, запасся винами, толковым поваром и искал хорошее общество. В станице он встретил знакомого Александра Синенкина. Арбелин принадлежал к тому типу людей, о которых сказано, что их сгубило салонное остроумие. Его конек – фраза. Похлебывая из тонкого бокала, в мерцании свечей и золотых корешков книг, князь просвещал станичных собеседников. Кроме Александра, к нему приходили по вечерам новоиспеченный директор курортов, несколько медиков, имеющих частные лечебницы, две-три дамы сомнительной репутации, занесенные сюда ветром войны.
– Господа! Главное: происхождение. Вот и наш уважаемый агроном Александр Федорович утверждает, что все дело в корне. Однажды мы с ним оказались в чужом городе и изучали по книгам древнейшее дно моря, некогда плескавшееся на месте Кавказа. Мы "штурмовали" с ним белые твердыни Эльбруса, "разыскивали" в старых моренах стоянки первых людей и пришли к выводу, что Кавказ – легендарная, оставшаяся лишь в преданиях родина, праколыбель человечества.
Поскольку это был главный постулат новой теории князя, тут станичный философ возбуждался, начинал ходить по яркому ковру, поднимая палец к голове.
– Я допускаю, что цветные расы действительно произошли от обезьяны. Что касается меня и, вероятно, вас, господа, то мы произошли не от обезьяны, а от белого бого-человека, прилетевшего из глубин Вселенной. Богочеловек поселился, естественно, на горах, дал начало горному человеку-гиганту, от которого пошел европейский мир, германцы, отслоившие от себя франков, саксов, бриттов, скандинавов.
Арбелин старался говорить красочно, воздействуя на слушателей своего салона.
– Господа, ясно, как день, нет никакого бога, иначе бы он вмешался в богомерзкие людские дела...
– Но позвольте, ведь хорошо известно из Писания, что господь отрекся от людей и миром правит сатана, – возражали ему.
– Нет, не было и не будет никакого бога, – утверждал Арбелин, радуясь тому, что скажет дальше. – Но, господа, тот, кто отрицает бога, выбивает у людей, идущих в кромешном мраке, последнюю свечу!
С этим были согласны все.
Гости князя с удовольствием поглощали баранину, паштеты и фрикассе, временами поддакивая из вежливости. Они заметили, что к своим обязанностям комендант нескольких городов и станиц относился спустя рукава, и решили, что князь посчитал дело очищения России от большевизма уже решенным, телеграф приносил вести о беспримерном победоносном движении казачьего войска на север. Но князь и телеграммы просматривал вполглаза. Он спешил высказаться, прослыть гением салонным.
– Возьмите жизнь горца, аборигена Кавказа. Сложенная из каменьев сакля, очажный дым из-под котла, привешенного на цепях, выходит через дыру в крыше. Тут же дети, животные, оружие. Ложе – охапка сена. Случается, что тут же и конь, главная радость, нескончаемое богатство горца. Да, женщина у них угнетена. С неприступных круч носит она на себе вязанки дров, возделывает клочки земли, вручную мелет зерно, одевает и кормит всю семью. Горец стыдится сказать ей ласковое слово даже наедине, а она не может лечь спать раньше, чем вернется муж.
– Какие варвары! – томно лепечет дама полусвета, кокетничая сама с собой.
Казалось, князь ждал этого замечания. С победоносным видом обращается он теперь к даме:
– На Кавказе нет ни прокуроров, ни адвокатов, ни демократии. Здесь все решает клинок и могучий инстинкт здоровья расы. Здесь представления о чести и морали просты, как грани кинжала, который носят все. И режут им не только баранов и обидчиков. Мораль горца не наслаждение, а свобода. Европеец не может соединиться с любимой, переживает, говорит монологи, посматривая, слушают ли его, и в конце концов женится на другой – и доволен. Горец в таком случае ставит кинжал на землю и падает грудью на острие.
– Да, это гордый народ, – вставляет директор курортов.
– Одна горянка при людях назвала своего сына лентяем и трусом. Он тут же закололся – от обиды и признания собственной непригодности. Другой не мог перестать пить шайтан-воду. Понимая, что жизнь пьяницы уже наполовину смерть, он, трезвый, вышел к мечети и закричал: "Мой желудок не может жить без водки – пусть он покушает еще и железа!" – и кинжал, вонзенный в живот, вышел со спины. Некий горец взял третью жену. Она утопила его сына от первой жены. Весь аул подошел к сакле джигита. Ждали правосудия, по шариату. Горец вывел преступницу. Надо сказать, он любил ее страстно и не хотел убивать. Он смотрел в глаза стариков – смерть, женщин и детей – еще беспощаднее – смерть. Удар – и толпа разошлась.
– Вы говорите о жизни со слов смерти, – пролепетала дама.
– Жизнь без войны – гнилое болото, плодящее гадов.
– Нет уж, позвольте, князь, – иронически поклонился директор курортов, – это пещерная категория. Война – парад смерти.
– Я знал девушку-горянку. Она полюбила. Мать сказала "нет" – по ее мнению, о н был худого рода. Вот вам Ромео и Юлия. Сколько бы тут накрутили наши российские курсистки – и бунтовали бы, и в аптеку с криками об эмансипации за ядом бегали бы! А горянка вышла и со смехом сказала джигиту, что воровать ее не стоит, она не будет его женой.
– Это рабство, – говорит директор курортов.
– Нет, – рад спору Арбелин, – исторический прогресс не совпадает с нравственным. Я за развитие человека, только в ином порядке – я за граненую этику клинка, за ясность отношений ради здоровья расы, разумеется, расы сильных.
– Но этими кинжалами они убивают и невинных! – в ужасе стонет дама. Возьмут и зарежут нас!
– Вы, князь, хотите все остановить, а все движется...
– Это вы по Марксу, – морщится философ, – нельзя же брать его всерьез!
– Я тоже слыхала, что отец закалывает дочь и ее жениха, если застанет их в поцелуе хотя бы за час до свадьбы!
– Это то, что отличает человечество от публичного дома! Да, горцы могут зарезать нас – и не ради грабежа или газавата. Виной тому их воинский образ жизни. Посмотрите на их жилища – и вы поймете склад их ума. Здесь властвуют вершины. Сильные ставят крепости высоко Не хотите попасть в когти – ставьте свой замок еще выше! И так вечно. Война неизбежна. И слабых щадить нечего, сколь ни прискорбна их гибель для гуманитариев. Щадить надо сильных. Тут не губернская канцелярия, где ложь, навет, взятка проложат вам путь в жизни. Тут решают судьбу ваши личные качества.
– Личные качества ничего не стоят в определенных обстоятельствах! светски поддерживает беседу директор курортов.
– Я буду прям, как апостолы, не уподобляясь нынешним говорунам. Никакой демократии, никаких конституций. Монарх, дворянская каста, священник, крепостное право, государство и частная собственность – все, больше ничего не надо во веки веков. Это и есть м и р о в а я и д е я, ш е с т в и е б о г а п о з е м л е.
Имущество князя помещалось в медных сундуках. В самом маленьком княжеские грамоты и золото. В самом большом – археологическая коллекция, собранная за тридцать лет в горах. Тут были зубы носорога, череп и рог вымершего зубра, челюсть южного слона, раковины третичных моллюсков, останки тюленя сарматского периода. Главная, редкостная находка – череп пещерного человека. По словам Арбелина, пещерные гиганты спустились с гор в прирейнские степи. Гипотеза подтверждалась строением височной кости черепа. Арбелин прилежно переписывал немецкие учебники по краниологии, учении о черепе.
По субботам комендант выезжал в горы с отрядом казаков и приглашенными господами. Однажды в такую экспедицию попал Глеб Есаулов, мобилизованный в конюхи при гарнизоне. Он сокрушался, озирая раздольные пастбища, – сколько скотины можно развести! Этих бы молодцов косить заставить – сколько бы сена наворочали! Арбелин выпил стакан водки, поужинал из общего котла, по-суворовски, и задумался. Щемящее чувство осенней тоски подтачивало мысли о собственной гениальности и роли в историческом процессе.
Казаки стали набрасывать на палатки сено, приваливая его камнями. Арбелин пошел на дальний утес и смотрел на угасающий запад. С востока наступал сумрак и нес на крыльях бледную лампаду месяца. Пронизывал холод вершин.
Горы, теснящие небо. Мерцают голубые льды. В медленном, как ход туч, величии стынут старые морены, кратеры, ложа глетчеров. Как на лунных горах, как на Море Дождей, безжизненно и угрюмо. Горы, как спящие мамонты. Как скифские божества. Оскаленные языки висячих ледников. Жутью веет от этих спин, лбов, клыков.
– Жалок есть человек, – прошептал князь. Ему представилась залитая огнями жизнь мировых столиц, откуда он, по его представлениям, ушел на вершины духа. – Прах и тлен!
Показалось, за спиной стоит некто безликий. Князь резко обернулся. Шорох в кустах, осыпавшиеся камни полетели вниз. Он достал револьвер.
Вошел в палатку. Ветер не продувал сено. Вздул светильник. Лег на койку-шезлонг, пытаясь согреться. Ледяной лунный свет лежал на необъятной горечи вселенной. Светлый холодный ветер трепал полы палаточной двери. Казаки за стеной играли в подкидного и громко смеялись.
Князь достал потайную сумку, отвинтил флягу и отпил наркотической водки. Мир преобразился, встал под радужным углом. Хотелось петь, кружиться, отламывать скалы от гор. И он блаженно улыбался, растянувшись на собачьих шкурах.
Так проводил свои дни Арбелин-князь.
ПОСЛЕДНИЙ АТАМАН
Победоносное шествие казачества на Москву остановилось. Начать с того, что такие, как Глеб Есаулов, вообще не хотели воевать. Дюжего конюха приметили, и когда делали последнюю, поголовную мобилизацию, Глеб дезертировал и спрятался в стогу. Там его и нашли, прокалывая сено клинками.
– Пятьдесят плетей и отправить догонять генерала Шкуро! – сказал станичный атаман.
Генерал Шкуро был уже под Воронежем. Глеб под Воронеж не попал – в пути удалось скрыться. Шкуро в станице ужинал. У Кинжал-горы завтракал. Пообедать в Москве не пришлось. Под Воронежем красные пролетарские полки учинили белым кровавый полдник. А тут главнокомандующий белыми войсками юга России генерал Деникин издал манифест российскому народонаселению.
– "...Земля помещикам, а власть дворянам!" – доканчивает чтение манифеста воинский писарь перед тучей белоказаков на площади маленького воронежского городка.
Тихо стало. Слышно, как лошадь писаря чешет зубами ногу. Оборванные, в грязных бинтах, прочерневшие от многих походов и злодейств, стоят казаки, недавно разбитые наголову. Мелкой рябью покатился шепоток.
– Землю помещикам?
– Власть дворянам?
– Да мы сами паны и атаманы!
– Долой дворян!
Заволновался, загудел казачий сход. Уже Роман Лунь, грамотей, строчит верховному главнокомандующему казачью басму от Терской армии.
В бешенстве рвет ее генерал Шкуро.
Депутацию из стариков перепороли.
И повесили носы казаки, недобро оглядывая автомобиль с украшениями кованого серебра, в котором Деникин намеревался въехать в Кремль и короновать нового императора в Успенском соборе.
Саван Гарцев и Спиридон Есаулов чистят коней. Саван зло ткнул кулаком в ребро маленькой киргизской лошаденки:
– Стой, падла!
Лошаденка тоскливо переминается с ноги на ногу.
– Видать, ошиблись мы, Спиридон Васильевич, что на Москву полезли, власть дворянам! Моего отца, царство небесное, атаманом выбирали не за чин и богатства, а за голову и доблесть!
Спиридон яростно трет железной скребницей Зорьку:
– Передай станичникам: ночью уходим. Будя! Повоевали – на царя, на помещиков, на дворян! Пускай правят хоть Советы, хоть кадеты! Ошиблись мы, Саван, не теперь, а тогда еще!
В полночь снялись – не звякнула шашка, не топнуло копыто. Караулы, стоящие на слуху, ничего не заметили. Когда отъехали десяток верст, увидели других конников, тоже бросивших белый фронт.
Пошли слухи об измене. Заколебалась, дрогнула казачья армия Юга, покатилась под натиском рабоче-крестьянских дивизий мутной волной назад, грабя и убивая.
Больше белые не поднялись – высший гребень волны упал. Генералы спешно грузились на иностранные корабли, покидая родину. Много и рядовых хлеборобов ушло за кордон. Афоня Мирный, попав в белые как пленный и мобилизованный, побежал с ними в Румынию. Прославленная в белой армии волчья сотня осела в конце концов в городе Берлине. Волки пошли служить банщиками, кучерами, официантами, стали киноказаками, прирабатывая на съемках в полной казачьей сбруе. Волчий мех пообтерся. Проступила собачья угодливость, мышиный пот. Шкуро занимал высокие посты у новых хозяев и после второй мировой войны был повешен в России.
Но долго еще после лета девятнадцатого года вспыхивали костры мятежей на Волге, Дону, Кубани и Тереке. Долго носилась по степям поредевшая сотня Спиридона Есаулова, встречаемая огнем в красных станицах за деникинскую службу. Наконец добрались домой, где еще правили белые.
После решительного поражения белых авторитет белой власти пошатнулся. Арбелин решил вернуть в станицы видимость довоенной, мирной жизни, заигрывал с казачьими низами, советовался со стариками. Он не мог простить Деникину его манифеста и при случае говорил офицерам:
– Надо и землю, и власть обещать всем вахлакам и пошехонцам, а потом, постепенно, вернуться к монархии и крепостному праву!
Атаман нашей станицы Усиков по старости попросился в отставку. Арбелин удовлетворил его просьбу. Удостоил беседы рядового хлебороба Федора Синенкина, сказал, что с его сыном Александром они приятели.








