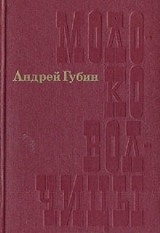
Текст книги "Молоко волчицы"
Автор книги: Андрей Губин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 44 страниц)
Прасковья Харитоновна приняла весть на ногах, не упала, не закричала. Только скорбные складки легли у рта. И великая тоска затуманила очи.
– Не плачь, Маруся! – сказала Прасковья Харитоновна. – Миша мой в начальниках ходит, он бы сказал, если чего. Пока никаких известий нету. Будем ждать.
"Вот железная!" – подумала Мария, и твердость матери в горе помогла ей высушить слезы.
Мария вернулась работать в коммуну, заведовала птичником. Предлагал ей любовь председатель артели Яков Уланов, но она только жалко посмотрела на него – какая ей теперь любовь!
Тайно от всех она ставила в церкви свечи за упокой раба божьего Глеба, заказывала отпевание, ходила на воображаемую могилку в ломках и сильнее тянулась к брату "покойного" Михею Васильевичу.
Михей Васильевич тоже радовался встречам с Марией, вникал в ее жизнь, помогал делом и словом. О Глебе они никогда не говорили. Ульяна, знавшая от Михея о расстреле Глеба, тоже привечала Марию и ее детей. Горе заставило и третью невестку Есауловых Фолю лепиться к Марии и Ульяне.
Зимними вечерами все трое вязали шерстяные чулки и варежки в доме Михея. Фоля побаивалась его, но он редко приходил раньше полуночи. Иногда они гадали на Спиридона и Глеба – оба выходили живыми, но в таком зловещем окружении черных, пиковых карт, что сердце сжималось. Песни в те дни пели невеселые...
Как во тех горах Кавказских,
Там во темном во ущельице
Лежит молодец, шельма он хороший,
Черной бурочкой укутанный,
Камушками закладенный.
Как с-под этих из-под камушков
Ковыль-травка пробивается,
А на той на ковыль-травке
Поверх камушков цветики алые,
Зимой белые снеги сыпучие.
Мелки пташки туда прилетают,
Во ущельице песни распевают:
Ты проснись, проснись, молодец,
Бела зимушка, она проходит,
Весна красная наступает,
Твоя женушка в беседушках гуляет.
Все в беседушках гуляет,
Себе мужа выбирает...
ОБЛАВА
"Святой Георгий" во Францию не дошел – машины поломались якобы.
Высадили наших станичников на мрачном каменистом острове Лемнос. Пыль. Сухмень. Ветра. Вонючую воду привозили на барже и за ней с полночи становились в очередь. В гнилых тростниковых бараках тиф. Кормили прогорклой рыбой. С утра эмигрантов гнали на работу – сортировать камни, складывая их в пирамидки. Такие же пирамидки над могилками.
В сотне Спиридона Есаулова четверо – он сам. Роман Лунь, Алексей Глухов, Сократ Малахов. Командир каждый день ходил в комендатуру острова и требовал, чтобы их отправили во Францию на транспорте с грузом мрамора. Комендант отказывал, ссылаясь на карантин.
Начинался голод. За дольку чурека отдавали кольцо с алмазом. Народу тьма – драки, воровство, разврат. Казаки вспоминали домашний хлеб, куриные шейки, свиные головы, требуху с хреном, сало, рассыпчатую картошку в сметане, моченый чернослив с крепким, как вино, черным соком – казачью кухню.
Еще на службе Игнат Гетманцев научил Спиридона разным шулерским штучкам, и теперь Спиридон играл в карты на деньги. Малахов раздобыл утлый ялик и промышлял рыбой. Потом ялик увели, и Сократ жил на содержании толстой барыни из Саратова, охраняя ее чемоданы от завистливых рук. Лунь прирабатывал на островном базаре тем, что перебелял красивым девичьим почерком прошения правителям иностранных государств на трех языках. Глухов кормился иждивением станичников, став не способным ни к чему.
Карантин затягивался. Они сложили себе из мрамора хату, таскали на грядку землю, чтобы с весны, если придется, посеять лук, а то и ячмень. Ночами лежали под звездами, слушая неумолчный плеск моря.
– Братцы, – говорил Лунь, показывая на небо, – вон наши звездочки, что над горами стоят в полуночи. Вчера троим пришел отказ из Италии. Надо бежать.
– Куда? – поддерживает беседу Спиридон.
– Домой.
– Могилку там уже выкопали тебе! – злится Глухов.
– Нет, братцы атаманы, дело говорю: деды наши бежали из турецкой неволи.
– В станице арестуют и пулю в лоб! – заворачивается в обрывки парусины Малахов.
– В станицу нам ходу нет, но, может, это и лучше, – рассуждает Роман. – Надо уходить от людей, как в древности уходили христиане, становились пустынниками, столпниками, отшельниками, и звери служили им. Чего я говорю, балки наши глухие, укрытные, поселимся хоть в дуплах Новый Афон, благой Иерусалим, монастырь древесный. Положим камень новой веры, догматы я знаю, а тело пометим огненными стигматами – и не тронет нас никакая власть предержащая!..
На постылой чужбине слова Луня радовали. В памяти вставали потаенные балочки, не раз укрывавшие их, наглухо заросшие ущелья, где можно спасаться годами. Да и не только там – велика Россия. И тут же злились на Луня:
– На каком же коне ты доскачешь домой?
У Луня уже был план. Знакомый шкипер согласился переправить казаков к контрабандистам. Но контрабандисты потребуют огромные деньги. Предложили Малахову ограбить барыню. Сократка отнекивался. Спиридон, картежник, честно метнул карты – кому выпадет. Выпало Малахову.
На барже плыли три дня. Лежали в трюме под канатами. Туманной ночью моторно-парусный баркас греков-контрабандистов высадил их у берегов Грузии. Расплатились николаевскими червонцами саратовской помещицы.
В Сванетии устроились на золотые прииски старателями, не имея никакого представления о работе, надеясь на казачью сметку. Какое-то акционерное общество им выдало аванс, снаряжение, указало высокогорные ручьи, где находили самородки.
Зима отрезала их от мира, продукты кончились, ручьи замерзли, золота они и в глаза не видали. Кормились грушами, засохшими на деревьях. На теле Луня проступила стигматы нервной болезни. Малахов заявил, что уходит вниз. Глухов боязливо держался за Спиридона, как тень, жалкий, липучий, угодливый.
Тогда Спиридон, помнивший со службы старые ориентиры, повел сотню через Главный хребет. Саввы да Варвары дни урвали – середина декабря. За короткий день проходили не много. Встреч с людьми избегали. Выискивали пропитание, ничем не брезговали, в поле и жук – мясо.
Неожиданно из-за поворота показался весь Эльбрус, с подошвой и снеговой линией. Вблизи Грива Снега не та ослепительно белая двугорбая гора, что видится с равнин. Здесь патриарх Кавказа похож на исполинский бриллиант в работе, огранка которого далеко не закончена, некоторые грани отшлифованы, сияют тонко, другие корявые, черные, бесснежные.
Через перевал прошли в ясную тихую погоду – здесь триста солнечных дней в году. В просветах между могучими соснами открылись ледники – белые исполины ящеры, распластавшиеся мордами вниз. Белые ленты воды падают отвесно. Ниже снег зимний, тающий.
Благую пустынь, Новый Иерусалим, решили основать в Чугуевой балке нелюдимо, станица в десяти верстах, тут прятали лишнее оружие, оно пригодится от зверя и лихих людей, хотя более лихих, чем они, в той балке не бывало. Думалось и с родными наладить связь – ходят же сюда за дровами и барбарисом.
Приглянулась им нора-пещера, вход малозаметен, через расщелину векового дуба. Судя по перегрызенным костям, тут спасался медведь или волк. Но две стреляные гильзы говорили о пребывании человека. Серебряная с чернью лошадка заставила задуматься Спиридона. Такие лошадки были и на поясе Глеба.
Падал снег. В горном урочище тишина. Ночами выли волки. Казаки лежат в натопленной землянке, подкидывают сушняк в каменный камелек. Топили только ночью. Трубу из прелых стволов бука вывели низом, в чащу. Стоять в рост в землянке нельзя, зато на полу ковыль, листья. Лучины вдоволь. Заместо табачку лист и конский навоз, собирая который Спиридон припоминал Зорьку – и она тут ходила.
Откопали один клад – наган, три кинжала, австрийский штык и граната. Был и другой – пулемет и пять тысяч патронов – его не трогали, кончились бои, только проверили: надежно ли укрыт от глаз и сырости.
Удавалось поймать силками зайца, куропатку. Глухов, тайно ходивший в станицу к тетке за хлебом, увел у коммунара Колесникова общественного коня – долго ели конину.
Ждали весны, думали, куда податься. Лесной монастырь не радовал. У Малахова открылась на коже экзема. С Лунем случались припадки падучей.
Ходил в станицу и Спиридон. Фоля была верной, истязала себя религией, красота ее блекла. После летних встреч в цветущих балках Фоля ходила вторым. Она сказала, что ее часто "тягают на допросы" – где муж? А недавно пришла она на мельницу смолоть оклуночек пшеницы, и Оладик Колесников кричал:
– Не пускайте ее – она жена минигранта!
Братец Глеб сгинул, говорят, убитый он. Правит станицей Михей Васильевич. Он взял с Фоли подписку, что она сообщит о муже все, что станет ей известно. Под зиму она посеяла. Корова стельная. Васька-сын осенью пошел в школу.
Прощаясь, Фоля с плачем умоляла Спиридона быть осторожнее, ведь братец Михей при народе поклялся отомстить за смерть Дениса кровью Спиридона.
Осторожным Спиридон был и все же не миновал встречи с братом.
Дело шло к весне. С утра пуржило. Спиридон пошел на рыбную ловлю, а может, и косолапый попадется. Он приметил в Подкумке теплую впадину, где сбивалась рыба, и ставил там вершу.
Поставив, поднял голову. С того бока речки неподвижно смотрел всадник, лесник Игнат Гетманцев. Вместе в детстве рыбачили, потом по девкам бегали, служили на границе, вместе прошли германский фронт. Потом пути разделились. В расколе сотни Игнат пошел за Михеем, в полку которого кончил службу, – его демобилизовали за провинность.
Игнат признал тоже бывшего сослуживца, заторопился снять винтовку. Но Спиридон опередил его, поднял наган:
– Назад! Не оглядываться!
Пришлось леснику поворачивать коня. Крепкий, в шитой по талии шубе, Игнат оглянулся, но Спиридона и след простыл – шмыгнул в яр балки, под заиндевелые кустарники. Метель кружила белую карусель. Лесник поскакал в станицу.
Выслушав Игната, Михей расспросил его: не видел ли он раньше людей в лесах. Нет, давно не видел. Стало быть, Спиридон появился в одиночестве, от силы с ним два-три казака. Позвонили Быкову. Решили прочесать леса и балки. Понятно, Михей Васильевич вызвался быть в экспедиции. Чекисты пойдут небольшим числом, человек десять. Зато призвали все население на облаву, как для отстрела бешеных собак.
Станица вышла воскресным днем, с собаками, ружьями, свистками. Больше молодежь и солдаты расформировавшегося здесь батальона. Они ожидали отправки по домам, но Михей Васильевич умышленно затягивал время, видя, что красноармейцы приживаются в станице. Сначала они ласкали хозяйских ребятишек на постое, баловали пайковым сахаром, помогали бабам по хозяйству и, не видя конца ожиданию, осели, стали мужьями и отцами вместо убитых на войне. Почти каждый вечер Михею приходилось бывать на свадьбах, и он радовался прибавлению рабочих рук в станице.
Особняком от всех шла, задыхаясь, Прасковья Харитоновна с красно-белыми волосами, с крестом, выпущенным поверх шубы. Шла спасать сыновей – Михей не утерпел, сказал ей, что Спиридон объявился неподалеку и его идут ловить, чтобы предать смерти за контрреволюцию.
Больше шума, чем дела. Стреляли дробью по зайцам и воронам, перекуривали, жгли костры, аукались и к вечеру потянулись домой. Днем вытащили из копны двоих неизвестных, в мешках барахло, видно, краденое. Привели субчиков в милицию, которая существовала пока при ЧК. Один Гришка Очаков, но его не узнали, отпустили.
Отряд Быкова стал на ночь привалом в Чугуевой балке. Решили не возвращаться в станицу, не взяв Спиридона. Пошел снег. Побелели кони, шинели, фургон. Чекисты выставили караулы, поставили палатку, калили жестяную печурку, сушились, ели всухомятку.
В уголке на соломе примостились молодожены Васнецов и Горепекина. Фроня уже оставила суровую службу и военный наряд, пекла милому пышки, стирала портянки, шила, готовясь, пеленки. Тусклые с ржавчиной глаза влажно потемнели добром, приветом. Ночами ей еще снились расстрелянные враги – генералы, атаманы, казаки. Но дни наполнялись сладкой домашней суетой – опара, куры, ожидание мужа в обед и вечером. Васнецов согласился осесть в станице, но попросил отпуск съездить на родину, на реку Каму, что течет в пермских лесах. Горепекина собралась ехать с ним, представиться свекрухе. В последней операции от мужа Фроня не отстала, хотя донашивала последний месяц.
В палатку втиснулся начальник с котелком снега. От матроса в Быкове остался уголок тельника под расстегнутой гимнастеркой. Быков поставил котелок на огонь, тронул за плечо Васнецова:
– Толя, дай трофейную.
– Хороша? – заулыбался Васнецов, роясь в сумке.
– Век бы брился! Ведь что бритва? Вторая жена! Иная, как сучка, по волосам прыгает, а эту будто медом намазали, не оторвешь!
– Потому германская, золинген, самоправка, у беляка взятая! – гордо оглядел бойцов владелец чудесной бритвы.
– Как это – у беляка? – жестко спросил Сучков, огромный казак-чекист с забинтованным горлом. – Мародерствуешь, Васнецов?
– Это под Астраханью было, – тихо говорит Васнецов. – Сначала тот беляк пулю мне загнал под кожу, а потом я его достал пулей. А бритва и выпала у него из кармана. Лезвие у нее в золоте.
– Ага! В золоте! Как же ты мог не сдать драгоценность? привязывается Сучков.
– Сколько тут золота, – должно, миллиграмм какой!
– Все равно золото, и оно принадлежит народу!
– Ты что, Сучков? – спросил Быков. – Чего мелешь языком? Нашел мародера! Бриться и нам надо!
– А у него борода растет? – уколол Сучков в самое больное – Васнецову двадцать один год, а борода никак не вылезает, только что слава – бритву имеет!
– А у тебя и спина в шерсти! – нашелся Васнецов.
– Скоро придется тебе сдать бритву!
– Куда? – деланно поинтересовался Васнецов.
– В коммуну, все будет общим.
Васнецов нахмурился, хотел возразить, опустил голову. Сучков, радуясь, что досадил человеку, просветлел лицом. Васнецов посмотрел на товарищей, честно сказал:
– Для коммуны сдам!
Быков приспособил осколок зеркала, намылился от руки и бреется в свете рыжих лисиц, пляшущих от огня в палатке. Отставил ногу в шевровом, стертом донельзя сапоге. Васнецов смотрит на сапог и начинает канючить не в первый раз:
– Дело говорю, товарищ начальник, давай меняться!
Он обут в мягкие яловичные ботинки со скрипом. Быков скосоротился, губу выбривает, молчит. Невзначай сдул соломинку с голенища и нехотя посмотрел на толстокожие ботинки с двойными подошвами, свинченными железом.
– Меняться люблю – медом не корми. Но тут факт. Я, моряк, комендор башни, буду, как Дунька, в обмотках топать.
– Посмотри, ботинки какие! – просит молодой чекист. – Понимаешь, я бы не приставал, если бы не в отпуск. Ну приеду в свою деревню. Где воевал? На Кавказе. А чтобы верили, вот они, казацкие сапоги!
– Пехота, не пыли!
– Тебе их только выкинуть, сапоги, – разгорался Васнецов. – А я сапожник, у меня и кожа есть, пол-листа. Я, брат, с мальства привык в сапогах, натура такая.
– Натура дура! – желчно сказал забинтованный Сучков. – Мужики в сапогах не ходили, лаптежники!
– А я ходил! – со слезой доказывает Васнецов.
– Ну и дурак. Сапоги формой были! Теперь революцией всем разрешено! гневался чекист-мизантроп.
– Казаки все контры! – выпалил Васнецов.
– Чего ты сказал? – поднимается Сучков, загораживая свет.
– Ну, петухи! – строго прикрикнул Быков. – На гауптвахту захотелось? Что за политическая близорукость, Васнецов! И ты, Сучков, хорош, поедом ест парня, а за что, и сам не знает...
– Дак как, Андрей Владимирович? – просит Васнецов. – Уезжаю ведь на днях.
– Чудак-человек! Неделю проходу не дает! К тому же учти; хоть мы и красные бойцы, но субординация есть. Представь себе такую картину: комэска предложит комбригу или начдиву сапогами меняться! Какая же это армия? У морских пиратов и то была дисциплина на их летучих кораблях!
– Так я не по службе, – запинается Васнецов.
– Вот я и говорю: припрется рядовой к командиру – давай шинелями или там конями махнемся!
– И между прочим, эти ботинки мне дал комиссар дивизии Денис Иванович Коршак!
– Дал – не поменял!
– Придачи дай, – посоветовал Васнецову Михей Васильевич. – Не устоит! Он ведь эти сапоги у Антона Синенкина выменял на шинель! Самые что ни яа есть сапоги казачьи, офицерские!
– То была братская мена, – смутился Быков. – От души, ради дружбы менялись, чтобы побрататься.
– Хочешь бритву? – выскочило у Васнецова, сам испугался – хоть борода не росла, но бритву держал из гордости – хорошая вещь дураку не достанется.
– Бритву? Вот репей пристал!
– Бери, начальник! – оживился отряд.
– Дети будут бриться! – вновь запылал Васнецов. – Память обо мне останется. Вернешься к себе в Ростов-Дон, станешь бриться и вспомнишь: мол, был такой боец Васнецов, службу нес исправно, от пули не бегая, за Советскую власть стоял насмерть, как тогда под Астраханью или под Ставрополем...
Нежилым холодом повеяло на бойцов – Васнецов говорил о себе в прошедшем времени. Все смолкли. Васнецов поскучнел:
– Как хочешь, начальник.
А Быков уже опустил бритву в нагрудный карман:
– Раздеваешь ты меня, Толя, меняться люблю, проклятый!
Снял сапоги – вместо подошв фанера. Отдал и портянки – куски бархатных портьер. Чертыхаясь, надел ботинки, смотрит с видом обворованного.
Васнецов спрятал ноги под себя, достал из сумки сапожный припас, засветил свой огарок и к утру поставил сапоги на новый ход. Фроня прикорнула за спиной.
ДОБЫТ ПОД ПЕСНЮ
Дорого стоили мне старинные казачьи песни, много потратил я вина трезвый казак ни за что не запоет, слов не помнит, а выпьет чарочку-другую – и слова на волю запросятся. Я собирал их в тускнеющей памяти старых песенниц, былых запевал, чудом уцелевших в бурях времени. Разыскивал в пепле прошлого, как стершиеся и растерявшиеся золотые монеты, – не видно уже изображений царей, знамен, орлов, но звенит золото и во тьме пламенеет.
Главные песни казачества – военные. Но не чужды казакам и исторические воспоминания, как и бытовые, обрядные. Много песен начинается "с гор темных" и "лесов дремучих" – рядом они, горы и леса. Нередки начала с "белой зари" – рано начинался казачий день. Длинные, с повторами и возвращениями, тягучие, как скрип колеса арбы, – долго едет казак, и надо, чтобы песни хватило на всю дорогу.
Я сказал: трезвый казак не запоет ни за какие деньги – ему и стыдно петь без пирушки. Но, случалось, и вино не брало. И тогда спасала песня и пели так, что деревья роняли листья, а воины опускали оружие.
После встречи с лесником Спиридон приказал уподобиться волкам ходить бесшумно, бесследно, забыть голос, стать в снежном лесу привидениями, тающими при первой опасности. И все-таки сам опять напоролся на человека, опять на казака своей сотни и опять у воды. Пил лежа у ручья – хрустнула веточка. В тот же миг на хруст поднял наган.
– Васильевич, – окликнули шепотом. – Я Гарцев...
Сколет, обтянутый кожей, – куда и живот делся!
– Откуда?
– Я тут с осени, в Терновой балке спасаюсь. Ты один?
– Наших трое.
– Беда. Облава. В степи тыща народа.
– Пошли.
Привел Савана в землянку. Банда насторожилась: Саван видел чекистов на фургоне, с собаками, в отряде Михей-председатель и лесник Игнат.
– Ну, дети, готовьтесь, – сказал Спиридон. – Нас ищут. Да и пора уже в атаку – вши заели совсем, от судьбы, видать, не спрячешься.
Перед светом в карауле стоял Сократ Малахов. Утром его не обнаружили.
– Бежал, стерва, – сказал Глухов. – Прощения хочет вымолить, сюда приведет чеку.
– Я тут знаю тайное место, никакая собака не возьмет, – сказал Гарцев. – За мной.
Зимний лес. Почти отвесны склоны гор. Пустынно свищет ветер. Дрожит неопавший лист. Деревья враждебно поскрипывают. Лесные гиганты изогнулись, как для прыжка. Порой чудится звук вражеского рожка – птица кричит. Чистый лес, буковица, ясенник, дуб сменяется зарослями кустарникового кизила, орешника, а крутизна – не приведи бог.
В полдень густо лепил снег. Пылающей паклей чекисты осветили ходы в скалах – гулкая тишь, пепел старых костров, бычьи кости.
Громко крикнув, к отряду подошел Малахов. В немецкой каске, в конской шкуре, на пальцах экзема. Пахнуло гниющей затхлостью давно не мытого тела. Пересохшим голосом попросил хлеба. Ел, и красные пятна рдели на мякише десны разваливались. Снял каску – на мослатом черепе три волосинки довоевался. Сдал австрийский штык.
Больше при нем ничего не оказалось, кроме горсти мерзлого кизила. Он показал, что банда здесь, он поведет.
Землянка была пуста.
– Начальник, – просит Быкова Малахов, – ты запиши в протокол, что я сам сдался, это должны учитывать...
– Тебе и без протокола высшая мера! Показывай!
Еще два дня прочесывали балку, оцепив лес пикетчиками. Следов людей не обнаружили. Стали сомневаться в показаниях Малахова.
Сократ сказал правду. Только люди, о которых он говорил, стали волками. Они ходили по ручью, отсиживались в тайной пещере, скрытой серебряным полотнищем незамерзающего водопада. Собаки отряда пили воду рядом, но банду не почуяли.
Больше искать нечего – все прочесали. Однако не привидение же видел Игнат Гетманцев. Решили оставить трех пикетчиков на буграх, вернуться в станицу, выслать сменный отряд и искать, дежурить по очереди, пока волки не будут выловлены.
В мокрой пещерке едва различается свет, проходящий сквозь толщу падающей воды. Волки дрожали в ознобе. Сверху капает. Под ногами вода. Еды никакой – желудки как сморщенные летучие мыши, висящие в пещере вниз головой. Настал предел. В волчьих душах вскипала злоба. По какому праву им, родившимся здесь, не дают жить даже в лесу? Ладно, война не кончена, будут принимать бой. Отроют "максим" – пулемет – и пять тысяч патронов к нему.
Отрыть пулемет не сумели – близ тайника разбит бивак отряда. Тут Гарцев донес, что чекисты все сели на фургон и, похоже, направляются в станицу, на выход из балки. Тогда Спиридон разработал план, объявив сотне, что с этой минуты он становится полковником, и сам же, не унывая, пояснил:
– Нынче полковник, а завтра покойник!
Чекистам не миновать узкой горловины дороги, стиснутой отвесными скалами на выходе из балки. Понятно, что фура будет двигаться только по дороге. Тут и метнуть на отряд сверху громадные камни, ударить гранатой и бичь из наганов.
– С богом! – встал полковник.
Четыре угрюмые тени с мутными, тупыми, болотными лицами поднялись на скалу и залегли в валунах, нависших над узким проездом. Прикрылись последним рваньем. Тепло покидает их тощие, волосатые тела. В бородах шишки репейника. Ногти приобрели форму первобытную – когти. На руках и лицах ссадины, синяки, царапины – следы возвращения в пещеры.
В безжизненном небе ледяной бестелесный свет. На кусте шиповника сиротливо краснеет одинокая ягода, сморщенная морозами. Снежные буруны, косогоры, гребни, бугры. Саван Гарцев жевал корешок и говорил:
– Истинно, будет нам пожива у проклятых басурман – и хлеба, и спирта, и одежи добудем вволю...
Ими уже двигало одно, древнее, звериное – убить добычу, вонзить зубы в сочную мякоть, насытиться.
– К чему бы это, братцы, сон я сейчас видал – ни в сказке сказать, ни пером описать, – гутарит Роман Лунь. – Не доводилось такой красоты видеть, и ровно бы плакал я от счастья...
– Плохо, если хороший сон видал, – скрипнул зубами Алешка Глухов. Бабка наша рассказывала, будто есть у каждого человека свой ангел-хранитель. Бережет он нас от смерти и зла. Под конец злой гений побеждает ангела, и ангел тогда посылает человеку сон, что дает блаженство, не бывшее явно. После сна ангел отступается, и налетает черными крылами демон зла.
С ужасом посмотрели станичники на Луня, от которого отступился ангел-хранитель. И каждый помолился про себя своему ангелу.
– Расскажи, – прохрипел Спиридон.
– Слушайте, господа офицеры, слушайте. Будто едем мы все и еще Чугуев, царство небесное, верхами по этой самой балке. Только не зима стоит – майский полдень. И по всем буграм чудные цветки расцвели, по колесу большиной, красные, синие, желтые. В небе облак белый простерся, схожий с ликом боговидца Моисея, и такая стоит синева, аж глаза ломит. И прошу я вас остановить коней, цветков тех нарвать. А вы скачете. Спешился я и рву их, рву, в руках не помещаются. Бежу от бугра к бугру, а там еще больше. Лес кудрявый, зелень, трава пахнет до одури. И так хорошо мне стало – упал в цветки и плачу... Поднял очи, а вас уже нет, господа. Облак почернел, лик сатану явлен, молонья без грома прыщет. Жутко мне стало. Конь потерялся, пеши бежу, кричу вам, туман лезет с горы, букет мой рассыпается, бежу, а бечь некуда...
– Некуда, – повторил Спиридон и оглянулся на хруст в кустах – еще поредела его сотня, нету Алешки Глухова, не выдержал, бежал, ведь отряд уходит, чего переть на рожон.
Но преимущество на стороне малочисленной сотни. Сами невидимые, они уже отчетливо слышат далекий, особенный пристук военной фуры. Отряд обречен – грозные камни, граната и пули похоронят чекистов.
– Кажись, Глебовы колеса, с его арбы, – догадался Спиридон и клацнул курком. – Вставляй!
Лунь вставил в гранату запал – хранил на теле от сырости. Саван продул ствол пистолета.
Отряд продрог. Жмутся на фуре, бегут рядом, остервенело бьют прикладами по замерзающим в мокрых портянках ногам. Молчат. Устали. Правит конями Васнецов. Пиликает на губной гармошке. Любуется суровой красой зимнего леса, скалами, где к ночи нахохлились пернатые хищники, былинными крутоярами, огненным комом лисы, бегущей в снегах. Очарованный возница на миг остановил исхудавших вороных.
Смолк стук колес. В ясной тишине плывет тихая мелодия. Бойцы прислушались. Нет, это не губная гармошка. Родник подо льдом рокочет. Запечалились бойцы, раздумались – служба их кончается, скоро и они возьмутся за плуг. Впивают сладкую грусть ручейка, слезы сырой земли. Сучков раскурил две цигарки и одну подал в рот Васнецову. Парень благодарно улыбнулся, чмокнул на вороных, поехали.
Но песню хотелось продолжить, счастливую сказку о мире и тишине, о беспечальном и трогательном.
Мушка нагана Спиридона прицелена на серую фигурку Михея. Ну, что ж, посмотрим, кто кого раньше. На семьсот метров бьет наган. Но вернее ударить с двадцати.
Возницу посадил на мушку пистолета Саван.
"Лимонка" в руках Романа. Позеленевшие в лишаях валуны уже сдвинуты с места, осталось чуть толкнуть.
– Чего зажурились, казаки? – встряхнулся на фуре Васнецов. – Давай нашу, военную! – и сам запел:
Рано Машенька вставала,
Рано пашенку пахала,
Шли солдаты
Эх, шли солдаты!
Молодой, худой, как палка,
Маше стало его жалко,
Молодая
Эх, молодая!
Ты постой, постой, служивый,
Давай сядем мы у нивы,
Сбоку речки
Эх, сбоку речки!
Солдат видит: баба дышит,
Рубашонку грудь колышет,
Печет солнце
Эх, печет солнце!..
Не поддержали. Не та песня. Но души растревожил.
Время Малахова истекало. С каждым поворотом колеса приближался он к трибуналу, к смертной казни. Вдруг он высунулся из конской шкуры, глянул на темнеющую склянь неба и страстно, прощаясь с жизнью, запел:
Как на Линии было, на Линеюшке...
И замолк вдруг, как оборвался.
Михей Васильевич подумал о чем-то, может, вспомнил, как певал эту песню брат Спиридон. В гражданскую войну казачьи песни, как и казачья форма, стали чужими, потому что их пели белые сотни. Но ведь сложены они безвестными солдатами в трудных походах российских. И война уже кончилась, и песня хорошая. Обтер губы и всю душу вложил:
На славной было на сторонушке...
И дружно подхватили чекисты-казаки:
Там построилась новая редуточка...
В той редуточке команда казацкая...
Все донская команда казацкая...
Волки насторожились. Чистые солдатские слезы разливаются над вечереющим небом. Самим давно не доводилось петь. И завидки берут Спиридона, и досада – не так поют, вот так бы надо.
Грустно дрожит звонкий подголосок Горепекиной. Васнецов слов не знает и смотрит на губы жены и тоже подтягивает:
В той командушке приказный Агуреев сын...
За неделюшку у Агуреева сердечушко не чуяло,
За другую стало сказывать,
Как за третью за неделюшку вещевать стало...
Извечная тоска по родимой земле. Ком подступил к горлу Спиридона ожесточение против Михея таяло. Саван перестал жевать, слушает, слушает.
Наехали гости незваные, непрошеные,
Стали бить и палить по редуточке...
И повыбили командушку казацкую...
Фура вот-вот въедет в горловину ущелья. Собаки отстали. А волки тонут в воспоминаниях. Под эту песню их баюкали матери в бедных казачьих хатах. С этой песней плыли их деды по бурному морю. Ходили на дальние заставы. И возвращались в станицы.
Все прошло, пролетело. Ни песен, ни родных, ни отечества.
Вы сами, ребятушки, худо сделали:
Не поставили караула – спать легли...
Кровенила душу песня, вливая вместе с тем странную безмятежность. Душа поднимала навстречу песне сломанные крылья. Окунувшись в прошлое, вспоминая мирные рощи, бег станичной реки, звон благовеста, они держали оружие наготове. Вороные кони достигли намеченной волками черты.
Командир молчал.
– Пора! – напомнил Саван.
– Сейчас, успеем, – шепнул Спиридон, – последний куплет...
И лучший охотник мира бессилен перед королевской дичью русских лесов – глухарем: не подойти и на триста шагов, длина пяти охотничьих выстрелов. Но когда эта птица поет перед зарей любовную песнь, плотно закрывая глаза и уши, можно стрелять рядом из пушки – не услышит, так увлечен пеньем. Потому и говорят до сих пор охотники об убитом глухаре не иначе: добыт под песню. А иначе этого многоцветного полупудового петуха и не добудешь.
Не бывать вам, ребятушки, на тихом Дону,
Не видать вам, уряднички, своих жен-детей,
Не слыхать вам, казачушки, звона колокольного.
Черные овчарки залаяли со спины волков, хватая их за ноги. Возница хлестнул коней. Лунь растерялся, уронил очки, гранату уже не добросить, и с камнями опоздали. Только Саван Гарцев выстрелил.
На дорогу выбежала нелепая старушечья фигура с поднятыми руками. Прасковья Харитоновна. Все дни она неотступно следовала за отрядом, собаки к ней привыкли, ночевала она, как зимняя птица, в снегу.
Кинулась к Михею, открывшему пальбу.
Бойцы уже рассыпались и оцепили скалу. Волки не сопротивлялись, упустив момент. Вяло подняли руки, сожалея лишь об одном – что песня до конца допета. Вот если бы ее начать сначала!
Собак от них отогнали. Лунь пристально смотрел на мать Есауловых. Его первого спросили, есть ли еще люди и оружие. Он ответил:
– Я на прямом проводе! – Сошел с ума.
Саван Гарцев не промахнулся. Васнецов лежал на синем снегу, глядел в безжизненное небо, дергался, пытался говорить, но захлебывался черной кровью. Когда таяли последние лучи жизни в тускнеющих зрачках, ему с усилием удалось прохрипеть склонившемуся Быкову:
– Сапоги возьми, брат... – И вытянулся, как на параде.
– Кто стрелял? – спросил начальник ЧК.
– Я, – вышел Гарцев. – За отца. Атамана.
Быков выстрелил ему в сердце.
Ожесточение Михея, рванувшегося к Спиридону, передалось и Спиридону. Он прыгнул ему навстречу – зубами перервать глотку. Уже не могли остановиться. Уберегла их старинная песня. А тут Быков, сбив Спиридона, вцепился в Михея:








