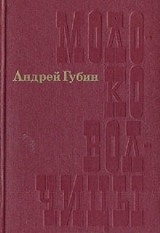
Текст книги "Молоко волчицы"
Автор книги: Андрей Губин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 44 страниц)
Глеб тоже не праздно пил за столом – составлял список контрибуции, что причиталась ему с Советской власти, Список получился длинным. Атаманский писарь, змееглазая девка-сербиянка, вычеркнула коней, трактор, Зорьку, посуду, мебель – перечеркнула все и написала с некоторыми погрешностями в русском языке: "владеться домом". И то хлеб! Ляпнулась тевтонская с имперским орлом печать.
И день второй пришел. Большой день Глеба. В нем нет запаха скошенной травы, журчанья вод, волнующей скачки коней. Он не томил чарующей неизведанностью далей. Он весь страх и пустыня, которую надо пробежать. Поначалу шел не спеша. Тело после вчерашней выпивки гудело, нервное и бессильное. Пустыня ширилась. Приходилось поторапливаться. Чуть не раздавил курицу, что купалась в горячей золе на дороге.
Улица стала старинной. Вновь обозначились дома-сундуки, дома-лабазы, с болтами на ставнях, с глухими стенами на фасад, с воротами, крытыми кирпичом и тесом, с битым стеклом на стенках. Ржавели на купецких табличках имена сгнивших хозяев, даты постройки домов, бойцовские петухи из кровельного железа. Неистовый собачий телеграф сопровождал путника. Изредка мелькнет во дворе человек, увидит идущего и тут же скроется в трущобах владенья. Осадное положение самостоятельной жизни. Мираж блаженной страны двоился, струясь колокольными звонами Николаевской церкви. Глеб уже шел увереннее, как деды на Шамиля, пошевеливая пиками усов. Ветерок раздувал космы волос. У последнего поворота стал диким и патлатым, как бог языческих времен.
Острыми бугорками бурунов бежит синий Подкумок. Осыпанные птичьим пухом, спят кудрявые берега. В переулке дебри крапивы, развалины стен. За ними редкие кривые деревья. Равнодушная синева неба. Древние, вросшие до окон в землю хатенки, крытые камышом. Горечь. Тишина. Д о м в о л ч и ц ы. Всего год не видел его хозяин, а так отощали сосцы бронзовой матери! Облупились карнизы. Зарастает лебедой гранит парадного крыльца. Жемчуг улиток. Изумрудный мох. Грусть давних дней.
Как Одиссей после плена, бурь, жажды, вернулся он на родовое подворье. Шатаясь, подошел к хозяину седой немощный пес, лизнул руку. У Глеба горох по спине посыпался – Фингал, отпрыск волкопесьих собак. Узнал через десять лет или ласкался к каждому? Шкура в струпьях, глаза затянуты пленкой. Все рассыпается прахом. И заторопился хозяин в дом – воцаряться, выкидывать мужиков и евреев, обрастать салом, заводить, бог даст, семью, родить наследников, ковать копейку.
День стал сереньким, легкооблачным, предосенним. Хозяин поднялся по искривленной лестнице с провалами на месте сгнивших ступеней. Постучал в сухую филенчатую дверь. Не отвечают. Потянул медную в краске ручку барыня Невзорова заставляла прислугу чистить ее ежедневно. Обдало нежилым сквознячком. Комнаты пусты. Валяются бумажки, разбитый стакан, детская скамеечка, эмалированный таз с мыльной водой, этажерка из гнутого бамбука. Видать, жильцы отступили, бежали в чаянии грозного суда.
Скрипнула половица. Вошла полная в коротком бордовом платье девка. Прямые черные волосы. Испуганные, как под ножом, глаза. Поманила вниз и пошла первой. Спустились в полуподвальную комнату, бывшую кухню, Там еще одна девка, разительно похожая на первую носом и скулами, только волосы лунный пух одуванчика. В углу, в окружении рваной обуви, чеботарил худой мужчина с нездоровыми пятнами на щеках. Сидел он на складной скамейке с полотняным сиденьем. Острыми коленками сжимал сапожную лапку и ловко вгонял дубовые шпильки в подметку из автопокрышки. Вытер руку о жесткий фартук, но Глеб не стал замечать руки мужика.
– Насчет обувки? – спросил чеботарь.
– Погутарим, сапоги разваливаются.
Девки поставили ему стул. Присел на краешек. Скатерть на столе накрахмалена – как лист тонкого серебра. На дородных розовых подушках кружевные накидки. Некрашеный пол выскоблен до желтизны. На стенах вышивки крестом, гладью, аппликацией – парусные кораблики, замки с подъемными мостами, аркадские пастушки, котята и птенцы – жалкий, трогательный уют человеческого гнезда. Это непредвиденный оазис в пустыне его дня. Он не душегуб, не изверг, но пришел с топором на эти пальмы и паруса. Тут хотелось остаться. Пить холодный квас, что стоит в деревянной бадейке. Неторопливо беседовать с чеботарем, нежась в лучах девичьих глаз. Колоть дрова с сиреневыми узорами и запахом сирени. Скирдовать сено. Считать гусят. А когда звездный хмель закружит голову, лежать высоко на стогу, чувствуя рядом дыханье темноволосой девы... По-человечески жить...
Недостижимо это. Потому что в стене комнаты, со стороны подвала, спрятано золото. Всего несколько монет древней чеканки, кажись, семь штук. Да верный сторож дремлет, синий маузер. Чеботарь, не вставая, может дотянуться до золота, только стену пробить ломиком. Не знает, заколачивает гвозди в каблуки. И Глеб почувствовал нежность к старому дому, что, должно быть, хранит хозяйские тайны.
– Вы заказать что? – прервал молчание сапожник.
– Сапоги бы мне надо в аккурат.
– Товар какой – брезент, сыромятина?
– Брезент! Что я, мытарь, злыдарить буду? Хромовые надо, шевро!
– Шевра теперь и на погляденье нет, брезента не достать! – стучит молотком мастер.
– Хозяин я, – помрачнел Глеб. – Вот документ на дом.
Жилец понял. Отложил работу. Набил трубочку зеленой крошкой. Положил парусиновый кисет перед хозяином. Глеб достал длинную пачку французских "Рококо", постучал заскорузлым ногтем по раскрашенной коробке.
– К жизни то есть приступаю. Так что выкуривайтесь с площади.
– Сколько сроку даешь?
– Не гоню, – косится на здоровых девок, – но и время не ждет.
– Семья у тебя?
– Весь тут пока.
– Дом один занимать будешь?
– Хочешь, снимай. Жакту сколько платил?
– Десять рублей.
– Значит, одну марку. Места тут лечебные, пользительные, живи за двадцать марок – двести рублей.
– Дорого, подвал ведь!
– Ради бога, не держу!
А душа рвется – цел ли тайник? Сапожник задумался. Хозяин понимает пусть подумает, поднялся, пошел осматривать владенье. На пороге обогнала его светловолосая, с ведром, к колодезю идет. Чем не жена? Конечно, черная приятнее.
– Скажи отцу: пятнадцать марок! – спустил цену бывалый торговец.
Девушка беспомощно улыбнулась, промолчала.
– Сестры, что ли?
Уходит, не оборачивается, будто не слышит.
– Заплачу, хаты выбелите?
Молчит, только ведро позванивает у ноги.
– Гордые, черти! Мужитва сиволапая!
На подвальной двери ржавый замок. Вышла черноволосая.
– Как звать тебя? Оглохли, что ли? Подвал отомкните!
– Чего спрашиваешь? – показался сапожник.
– Подвал, говорю, отоприте! – Молчание девок бесило, а третье сердце зашевелилось сухими алыми лепестками – эта черная такая домашняя, ручная, а хозяйка Глебу нужна – теперь он не будет кланяться Марии. – Я тебе цену сбавил, а вы косоротитесь! Вот тебе срок: до темноты выбраться отсюда! Понаехала матушка-Расея на казачьи хлеба. Хватит – попили кровушку. Я с вами как с людьми, а девки морды воротят – жаль с дармовым добром расставаться! Вы его строили, этот дом?
– Не кричи на них, хозяин.
– Хватит мне рот затыкать!
– Они не слышат.
– Как?
– Глухонемые.
– Вот оно что! За грехи родителей, стало быть. Так бы и сказали сразу. Чудны дела твои, господи! – отмяк Глеб. – Такую красоту дал, хоть в плуг запрягай, а языка лишил.
Тут же подумал, что шансы его возросли – калека без памяти рада будет выйти за самостоятельного человека, с домом. А ему что – руки-ноги и прочее, видать, в сохранности. Оно и вообще бабам язык ни к чему – все равно путного слова не скажут.
Или зачем, к примеру, язык работнику или азиату какому? Да, вот работника нанимать надо, дела предстоят большие. Ванька Сонич живет у Михея, его и брать.
И Глеб подобрел еще:
– Слышишь, чеботарь, десять марок плати, а там видно будет, может, и за так будешь жить.
– Договорились, хозяин.
– По батюшке как?
– Николай Трофимов Пигунов.
– Трофимыч? Это каких же Пигуновых?
– Мельника, что первую мельницу держал.
– Трофима сынок? Господи! Да я с твоим папашей пуд соли съел! В работниках у него ходил, скотину пас, мирошничал. Вот был человек, царство небесное! Так вы тот самый Колька-матрос, что сбежал из дома?
– Тот самый.
– Вот так сурприз! С батюшкой вашим я жил душа в душу, давай и с тобой друзьяками быть. Девок как звать?
– Черная Маша, белая Роза. Они по губам имена понимают.
– Ишь ты, Маша, Маруся, Маня, Мария Николаевна. Ласковая, должно быть, слова поперек не скажет.
– Не скажет, – усмехнулся Коршуновыми глазами сапожник и подал хозяину ключ от подвала.
– Стало быть, внучки Трофима. Я ведь вашу сестру хроменькую сватал, да заяц дорогу перебежал. Ты девкам скажи, с душой, мол, я к ним, не в обиде, славные девки, чистые кобылицы!
Отец позвал дочерей, сказал пальцами. Девки улыбнулись.
– Чего? – ощерился улыбкой Глеб.
– Смеются, что кобылами обозвал.
– Ежели по правде судить, кони – это божьи ангелы, посланные нам на подмогу. При нэпе, царство небесное, была у меня слепая кобыла, тоже Машкой звали. Слова, как и девки, понимала. Сколько хочешь наклади – не заноровится, вывезет, себя не жалела, а полевой травой питалась. С ней и приобрели этот дом, хлебом торговали. Не дали мне жить с конями и коровами. Потому и прожил без смысла, как татарин. На этом дворе жеребенком бегала Машка. Подойдет, бывало, голову на плечо мне положит и смотрит, смотрит – оторопь берет, насквозь пронизывает. А в революцию ослепили ее картечью. Все перевели – и людей и коней. – Провел ладонью по увлажневшим глазам, достал из кармана бутылку немецкой водки. Употребляешь?
– Не по карману теперь – пятьсот монет четвертинка.
– Обмоем новую жизнь. Приготовь закусить, Маша.
Обошел двор – конский щавель, хрен, конопля. Заглянул в колодезь родник бил, камни держались, положенные прадедом Парфеном Старицким. От амбара синеют одни стены. Как застывает время! В углу, где стоял "кабинет" Глеба, в зарослях купырей и зачем-то попавшего сюда миндального деревца, еще с тех годов висит ведерко дегтя на ржавом тележном шкворне, вбитом в стенку. Деготь стал камнем, ведерко – ржавь; Но все-таки Глеб повесил его сюда. Снимали верх, отдирали ясно струганную обшивку амбара, ломали лари и полки, а дегтем не соблазнились. Вилы-тройчатки валяются – его. Пристально всматривается в бесформенный обрубок деревяшки – угадал, каталка Прасковьи Харитоновны, которой раньше гладили белье. В подвал идти страшно – вдруг там дыра? И придумывал разные дела, дергал бурьян от порога – жители! выбирал камни, какие годные в кучу. Фингал ковылял за хозяином, пытался таскать бурьян, но челюсти уже не держали.
– Чего, Маруся?
Она показала на дом, поднесла воображаемую стопку к сочным вишневым губам. И пахнет от нее хорошо – укропом и каймаком.
Сели за стол. Глеб налил и девкам. Они радостно переглянулись – вот чудак! – и отрицательно замотали головами. Сапожника это обрадовало – чего зря товар переводить! Выпил, "как за себя". Глеб, захмелев, искоса поглядывал на квартиранток. Думал, с дракой придется выгонять, полицию звать, а господь бог послал ему мир. Лица свежие, с печатью отрешенности, неразумности. Захмелел и Пигунов, достал из кармана мятые бумажки денег, послал Машу за самогоном. Пришлось еще посидеть. Потом девки солили огурцы в подвале. Глеб только проверил швы тайника и поехал в каменный карьер за пожитками.
Приехал на другой день. Фингал не встретил его – дохлый лежал за амбаром. Девки объяснили Глебу, что пес ночью выл и царапался в дверь, искал хозяина. Глебу стало стыдно, что он толком и не приласкал собаку. Взял заступ и закопал падаль в задах. Закопал и подумал: фунта два мыла бы вышло. А о мыле думал с утра. И обмылка нет в продаже, нечем помыться. Как и хлеб, мыло давали по карточкам, а теперь и карточек нет.
Свечи Глеб варил, а мыло не приходилось. По в детстве видел, как промышляли мыловарением мужики Бочаровы, что жили на краю свалки. Они ловили бродячих собак, забирали после живодеров околевшую скотину, тащили махан в котел, дымили банной трубой и продавали бедному люду бруски серого сырого мыла. Их ненавидели все. Когда в станице появлялась их телега-клетка с жалкими понурыми собаками внутри, с плетеным саком и крючьями в крови, казачата возбужденно вопили, вызывая взрослых.
– Палач – красная рубашка!
– На том свете сам гореть будешь! – выходили взрослые.
– У, сука! – матерились казаки на жену мыловара, правившую лошадью. Пироги с собачатиной жрешь, ведьма!
Мирон Бочаров в толстых рукавицах, весь в заплатах и шрамах от зубов и когтей, заходил с сетью на рыскавшую без призора собаку. Толпа с ненавистью смотрела на его действия, хотя понимала, что он очищает станицу от заразы и бешенства. Когда он бросал на собаку сак, его толкали, кричали под руку, загораживали собаку, давали ей путь. Горький это был хлеб. Особенно враждовали с собачниками мальчишки. Не раз удавалось и Глебу выпустить собак из клетки, пока собаколов гонялся за добычей. Однажды рассвирепевший мыловар погнался за казачонком, подняв сак. Глеб завизжал. Мирона перехватил мощной рукой Касьян Курочкин, известный тем, что в праздники пьяным подходил к дому полковника Невзорова и кричал: "Я сам есаул!", хотя был строевым казаком.
– На кого хвост поднимаешь, лапоть? На казачьих детей? А этого не нюхал? – Касьян поднес здоровенный кулак к носу Мирона. Вокруг посмеивались казаки, будто невзначай поправляя отточенные кинжалы на тонких серебряных поясах. И телега-тюрьма со скрипом потащилась дальше.
Будучи всегда на стороне собак, Глеб вспомнил теперь Мирона почему-то с теплотой. Помнил он и Касьяна. Мария, прислуга Невзоровых, рассказывала, когда Касьян кричал под окнами барина, полковник отмалчивался. Наутро "есаул" с поникшей головой шел к особняку "Волчица". Его долго не принимали. Старшая горничная брезгливо морщила ноздри, обходя стороной "есаула" в смазных сапогах. Потом барин томил часа два сентенциями и ругательствами тонких кровей – хам, выродок, недоносок, пока Касьян не пускал слезу. Под конец казаку давали чарку водки, ломоть хлеба с желтой сазаньей икрой и отпускали с миром. В праздники все повторялось.
Утрамбовав захоронение, Глеб подумал, где ему взять кутенка на воспитание, да такого, чтобы со временем люди перестали ходить мимо Есаулова двора. На глаза попался ржавый чугунок с известкой. Подсучившись, Глеб попробовал белить комнаты – все не мог спуститься в подвал, стена цела, а за стеной, может, пусто. Посмотрели Маша и Роза, как он белит полосами, взяли рогожные щетки, отстранили хозяина. А ведь в старину Глеб умело не отставал от баб в побелке – укатали сивку крутые горки.
От девственной белизны девичьих ляжек кружилась голова – глухонемые стояли на высокой решетовке, видны широкие резинки на чулках выше колен. Нечаянно Маша оглянулась, замычала, закрывая ноги, – уходи! Пронизанный сладкими токами алкоголя – с утра похмелился, и токами предстоящей встречи с вожделенным златом, наконец спустился в подвал.
Один угол мерцал звездочкой света – камень вывалился. На дворе зной, август, а тут почти зимняя прохлада, и ледник не нужен. Сколол ножиком швы. Вынул влажную плиту. В дыру угла заглядывали травы. Как ядом, молочай налит жирным соком, которым станичные девчонки натирали соски, чтобы груди скорей выросли.
Дремотная полутьма. За стеной сапожник бьет молотком. Пальцы скользнули по красивому булыжнику – прозрачно-желтому, с хрустально-синими жилами. Булыжник понравился Глебу еще в молодости. Вынутый из речки, он потускнел, но парень принес его домой на гнет для бочки с капустой. Потом камень годами лежал у порога, расцветая в дожди, и пригодился на заделку клада.
Подступила подслезная дрожь – нету! Тут же радостно вспомнил: тайник не прямо, а влево, с правым загибом. Обдирая локоть, лез в темное логовище...
Есть, тут, слава тебе, господи!
С шелестом вытянул тяжелый сверток в овчине, стянутый ременным гужом. Изъеденная временем овчина отрывалась клоками. Сгнило красное сукно. Истлела шелковая тряпка – от блузки Марии. Промасленная бумага цела, только жестко скрипит. А в ней, залитый нутряным кабаньим салом поверх заводской смазки, чудесный слиток – пятнадцать человечьих смертей вобрала граненая рукоять. В резиновой соске короткая золотая сосиска монет, когда-то найденных под полом нищей Дрючихи. Пересчитывая монеты, Глеб некстати вспомнил поговорку брата Михея:
"Ах, злато! Сколько в тебе зла-то!"
Выходить не спешил. У разрушенного угла снаружи бурый гниет чернобыльник. Лезет заразиха-трава. Каким-то образом между ними затесался горный мак. Свирепые сорняки загнали его в подвал. Искривленный, почти белый, тянется он вверх, но уже по эту сторону стены, во мраке.
Пыльная горечь праха. Подземельная тишина. Все источено бренностью. Позеленел красный гранит. На железных балках-рельсах мохнатая ржавчина. Но, смазанный классовой ненавистью, маузер не поржавел. Не потускнели лики арабских царей на золоте.
Поднялся на чердак, осмотреть крышу. Поправил бронзовый символ, волчицу, прикрутил медной проволокой к решетке конька. Очистил маузер от смазки – и почувствовал, что жизнь укрепилась вдесятеро, возросли честь и достоинство – синий товарищ дозволял быть смелым и гордым. Шведский "Бофорс".
Обливаясь потом от раскаленного солнцем цинка крыши, шарил по углам. Окаменевшая курага, черепки, паутина. В тлеющем хламе отыскал тонкий витой подсвечник – потом выблестил битым кирпичом. Две сосновые доски-сороковки... Быстрая худенькая девочка с яркими глазами, на ногах цыпки от навоза... Тонька, дочка... Вот, значит, какие это доски – их сестры давно стали трухой на детских костях. А он все елозит по своему владенью – откупился, что ли, от смерти? Доски сгодились на починку лестницы.
Ссохшаяся переметная сума, что должна быть всегда снаряженной по царскому велению. Царей нету давно. И торока посекла моль. Кожа как кость. Шашель точит сухари. Сахар пожелтел, изъязвился. Чай – сенная труха. Черви съели овес. Надел рубашку – вся в дырах. Е м у е щ е б ы с б о к у ш а ш к у и – в И с т о р и ч е с к и й м у з е й, г д е ч е р е п а е г о д р у з е й, сподвижников по каменному веку, по самостоятельной жизни – волков, кочевников, фараонов.
ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ ГОРКОМА
В первый день войны Михей Есаулов был готов – кольт, бурка, сухари. В военкомате попросил комиссара не мешкать. Не взяли комполка, отвоевался, подбила его нелегкая жизнь. Михей плюнул на врачей, но на больное сердце не плюнешь. И вместо фронта Михей угодил в санаторий, Подлечившись, заступил на пост – избрали секретарем городского комитета партии вместо ушедшего на фронт.
Просыпался ни свет ни заря, ждал позывных радиостанции Коминтерна. Рабочий день кончал в полночь, прослушав гимн. Время нерадостное. Оккупирована Белоруссия, Украина, Черное море кипит чугунными галушками бомб. Враг у ворот Москвы.
Секретарь вспыхивал румянцем, когда в сводках информбюро скупо проскальзывали сообщения о терских казаках под Москвой, гвардейцах генерала Льва Доватора, громивших немцев бок о бок с легендарными панфиловцами. Приказал ударить в колокол – созывать народ, прослушав Указ Верховного Совета СССР о посмертном присвоении звания Героя Советского Союза Есаулову Василию Спиридоновичу, племяннику.
На митинге Михей сказал:
– Генерал Доватор поставил задачу отдельному эскадрону задержать немцев на огневом рубеже. Эскадрон задачу выполнил. Подбив шесть вражеских танков, уничтожив до семидесяти единиц пехоты, Василий Есаулов погиб, защищая столицу Родины. Действовал Василий гранатами и пулеметом.
Да, не клинок – орудия, танки, самолеты господствовали на поле боя. Опираясь на костыль, Михей призывает жену и требует всю наличность, знал: она копила деньги на черный день – и он настал, черный день. Деньги секретарь передал управляющему госбанком в адрес танкового завода. И на Урале с конвейера сошел танк "Денис Коршак". Экипаж гвардейского танка увековечил еще раз имя Коршака, уничтожив несколько "пантер". Зимой след танка затерялся.
Прошумел первый весенний ливень. Секретарь проверил посевы колхозов. Поднялся на линейке на Седло-гору и посмотрел вокруг. Дымно мерцал Большой Кавказ – неужели и горы не остановят немцев? Враг форсировал Дон, бомбы вспенили Кубань и Волгу. За хребтом – Турция, немецкий союзник. На Дальнем Востоке – Япония, азиатская Германия.
В рыжих травах лежала река – кривая казацкая шашка. Нержавеющий клинок плавно загнут навстречу врагу – с юга на северо-запад, где скоро год пашут пушки, стрекочут в хлебах пулеметы, перемалывается человеческая пшеница. Зимнюю серость гор прикрывал белый войлок тонкого тумана. Фигуры скал – монахи, грифы, лемуры – темнели на пустом и бледном небе. Страх вползал в душу Михея.
Неужели враг дойдет сюда? А здоровье никудышнее. Чует казак вечную разлуку с милыми балками. И земля накидала ему красок, которые оказались под рукой в тот неяркий день. Солнце скрылось за горами. В небе розовая стая облаков. Пролетело черное облако – воронье. На восточных склонах последние лежбища снега. На северо-востоке острые Синие горы и первая Кинжал. Позади неправдоподобно высокие палатки Эльбруса, командира всех европейских гор. На вершине алый флаг. Если что, поднимется туда Михей, осуществит мечту детства, и ляжет с кольтом, встречая незваных гостей. А на всякий случай взял горсть земли и ссыпал в бумажник рядом с партбилетом – если доведется умирать в чужих краях, чтобы тело присыпали по обычаю дедов.
– Чего нашел, Михей Васильевич? – спросил кучер, туберкулезный Иван Сонич.
– Рубль неразменный, поехали...
Ранняя весна отыскала след танка. "Денис Коршак" погиб под Ленинградом. И тогда Михей вспомнил тихий хмарный денек, когда из Петербурга вернулся в станицу Денис, член РСДРП, и помог Михею повернуть казачьего коня на правильный путь. Так дважды погиб знаменитый казак нашей станицы Денис Коршак.
...До последней минуты Михей Васильевич руководил эвакуацией. Железную дорогу отрезали внезапно. Эвакуировались через горы на мелком транспорте и пешком. Сам отступал с женой и Иваном на горкомовской линейке. Проехали верст двадцать, и секретарь упал в беспамятстве – сердце останавливалось. Случившийся рядом медик сказал что-то по-латыни и развел руками: протянет лишь до утра. Ульяна вырвала у Ивана вожжи, повернула коней назад. Михей не кончался и не приходил в себя. Дежурил при нем Иван, поил отваром корня девясила – "девять сил в нем".
Михей открыл глаза. Тикают ходики. Жужжит шмель. Мирно качаются ветки в саду – тени на стенах. Далеко над плоскогорьями кусочек лазури, как кромка манящего моря. Бархатной лапкой умывается котенок – к гостям. Михей погладил восковыми пальцами полную руку Ульяны. Повернулся. Лопатки заострились, как у мальчишки. В лице явственней проступали очертания черепа – не жилец. Провел рукой по голове, удивился – пальцы легко прошли в белом пуху, как дудаки сквозь редкую, битую пшеницу. Вдруг вспомнил все, застонал:
– Немцы где?
– Лежи, лежи слава богу, отдыхал, думала, овдовею.
– А не лучше было тебе овдоветь? – с ненавистью посмотрел на растерянное лицо жены. – Почему домой вернулась?
– Лечить...
– Для немецкой виселицы? Ступай вон...
Медленно, опираясь на Ивана и костыль, по-стариковски вышел в сад.
"Ягуар" с длинным хоботом, своротив краснокорую яблоню, стоит одной гусеницей в изумрудно-светлой реке. Яблоню Михей посадил в день своей свадьбы. Молодые, загорелые танкисты сочно пожирают яблоки и фотографируются на фоне Синих гор. В сознании шевельнулось сравнение танка с каким-то ползучим зверем, панцирным гадом.
За рекой на лугу занимаются вольными упражнениями рослые, с могучими мускулами солдаты в особой форме. Альпийские стрелки корпуса генерала Рудольфа Конрада, гордость немецкой армии. Из Тироля, Баварии, Скандинавии, отлично вытренированные спортсмены, студенты гитлеровского университета, охотники на тигров и носорогов, прошедшие с орлиным пером на кепи и цветком эдельвейс на знамени Норвегию, Югославию, Французские и Итальянские Альпы. Многие штурмовали пики смерти в Гималаях. Оставили следы альпенштоков в Андах и Кордильерах. Они уже вкололи черный цветок свастики в алмазный берет Эльбруса. Одетые в добротное сукно, фланель, шерстяные свитеры и меховые ботинки на шипах, оснащенные, помимо оружия всех родов, альпинистским снаряжением, они легко преодолевали траверсы горных вершин и, по мнению командования, были непобедимы в горах. Поставленные на особый паек, включающий коньяк, шпик, какао, семгу, пластинки лимонного сока, имеющие спортивный распорядок горного лагеря, они и впрямь выглядели белокурыми гигантами в штормовых костюмах военного образца.
Михей видел на лугу всего восемь человек. Но когда они построились и запели, чеканя шаг, мороз прошел по его спине. Слов песни он не понимал, но железной силой веяло от стрелков дивизии "Эдельвейс", чьи груди так и просились под Рыцарский крест. Безупречной выправки матерые горные волки, они полны решимости водрузить нацистский флаг на вершинах Памира и Тибета, то есть пешим порядком взобраться выше авиации.
Неделю назад Михей видел дивизию генерала Быкова, бывшего чекиста и партийца. Они отступали на перевалы. В серых шинельках, необстрелянные парнишки-горцы, задумчивые украинцы, застенчивые армяне, молчаливые грузины, терпеливые русские – все тоскующие по дому, увидевшие винтовки чуть ли не накануне боев. Дивизия называлась просто – Пятая стрелковая. Форма офицеров не отличалась от солдатской. Они нуждались в боеприпасах, сухарях, портянках, ели конину, собирали в лесах дикие фрукты, чтобы не умереть с голода. Взять много продуктов в городе не могли – не было транспорта. Даже минометы и пулеметы – несли на спинах. Командир дивизии шел пешком. Документы штаба навьючены на ослов.
Как признавал фюрер, судьба войны в те дни решалась на юге России. Там она и решилась. Кутузов пожертвовал Москвой, Россия – Кавказом, лучшим алмазом своей короны. Война называлась Отечественная – защищали Родину. Поэтому наряду с тенями великих революционеров прошлого в строй встали святой Александр Невский, князь Дмитрий Донской, царь Петр Первый, полководцы Суворов и Нахимов. Священники служили молебны о победе русского воинства и пели, как и триста лет назад, "даруй, господи, одоление на агарян и филистимлян". Но сокрушили врага живые люди, осененные великим знаменем новой России.
Немцы уже неделю в станице. Михея не трогают, но дорога каждая минута. Быстро перебрал в памяти активистов оборонных кружков, которые по годам должны быть дома.
– Иван, много немца в станице?
– А черт их знает! Вот чего много, так это раненых. Аксютка наша, дурочка, как работала в "Горном гнезде", санитаркой, так и осталась. Говорит, полковники да генералы на лечение прибыли. Близко не подойдешь собаки, охрана. Наши летчики бомбят станицу каждый день, и все по краям, уже три коровы убило и пацана.
– Сто палат в "Горном гнезде", ежели и по одному в палате, а там люксы, то чуешь, сколько гробов! Ты вот что, Иван, расспроси Аксютку обо всем подробно: как они завтракают, обедают, где собираются, словом, как проводят свой санаторный отдых. И позови мне сейчас Кольку Мирного, что в сад к нам лазал, черешню еще сломал, сукин сын, и Крастерру Васнецову, рыжую медсестру, знаешь.
Колька, сын красногвардейца, а потом эмигранта, скоро пришел.
– Здорово, Николай Афанасьевич! – сказал Михей пятнадцатилетнему пареньку. – С родней не знаешься, ты ведь мне внуком по Мирным доводишься. Просьба у меня к тебе, выполнишь?
– Какая? – спросил Колька, тихий, в дешевеньком костюмчике, палец неудержимо тянется к носу.
– К Сталину я тебя посылаю.
– К Сталину?
– Ага. Помнишь, в войну мы играли, в зеленых и синих? Но таких-то на свете нет, есть только белые и красные, то есть немцы и русские.
– Чего вы мне толдоните – это понятно, – ковырнул в носу Колька. Как я туда попаду?
– Ты для начала перейди фронт и повидай любого самого главного командира нашей армии и отдай ему письмо от меня.
– Как же я от мамки уйду? Она хворая, и Манька еще маленькая, кормить надо, я быка поймал, тачку делаю.
– И ведь парень ты геройский, похлеще отца будешь, а приходится тебе объяснять, хоть и сам понимаешь: немцу скоро каюк.
– Хороший каюк – без боя чешут, а у наших только пятки мелькают! Не могу. Манька ночью боится, мать кричит во сне.
– Вот ты, Николай Афанасьевич, опять за рыбу деньги! Через месяц-два наши войска будут входить в станицу, и кто с ними впереди, на коне, едет? Под знаменем! Да Колька Мирный!
– Вы мне сказки не рассказывайте! – ухмыльнулся Колька.
– Ты пионер?
– Комсомолец, – тихо ответил парнишка.
– Тогда и говорить нечего – собирайся.
– Письмо отнести?
– Письмо, пакет боевой.
– Чего ж вы мне голову морочите? Вы когда-нибудь сами в гражданскую пакеты носили?
– Приходилось.
– Когда пакет дают, должен тот боец знать его содержание – налетели белые, пакет съел, а суть в голове!
– Так это ты меня морочишь! Значит, слушай на словах, если пакет съешь. Надо одну хорошую бомбу кинуть на госпиталь "Горное гнездо", знаешь?
– Мать работала там, полы мыла, а я в кино туда ходил, в клуб.
– Нарисовать можешь, как мы тогда местность рисовали?
– Чего?
– План нарисуешь, чтобы летчику объяснить, куда бомбу бросать?
– Могу, улица Анджиевского, за углом.
– Молодец! Но, Коля, летчики не все в нашей станице выросли, откуда им знать улицу Анджиевского?
– Ее все знают – там главные санатории стоят.
– Не все. Вот смотри, я тебе нарисую, а ты запоминай. Вот станция, вот труба лечебницы, тут парк. Нарзанная галерея, а вот тут Лермонтов... смекаешь?
– Ага.
– А за Манькой с матерью мы посмотрим.
– Вас уже не будет...
– И так может случиться, потому и прошу: передай мою последнюю просьбу.
– Ничего не получится! – взялся за нос Колька. – "Горное гнездо" с начала войны в маскировке – там вода на крыше туманчиком разлетается.
– Не мне тебя учить! Об этом и скажи летчикам да проверь нынче же, какие на крыше изменения.
– В газете зимой писали, что партизаны навели самолеты на объект так: ночью его не видать, днем тоже скрыт, так они установили какой-то красный фонарь, не видный с земли...
– Тебе, Николай, не Маньку с быком охранять, а полком командовать надо! Семилетку кончил?
– Весной. На "отлично".
– Напишем тем летчикам: опознавательный знак ночью – красный сигнал с миганием.
– А кто же его поставит?
– Это не твоя забота. Так писать или на словах передашь?
– На словах.
– Ну, вот, задачу ты понял. О Василии Есаулове слыхал? Звезду Золотую отхватил под Москвой. И тут пахнет не меньше. Сам посуди: на фронте можно пять лет воевать и живого генерала даже своего не увидеть, а тут сразу, в одном гнезде, до сотни высших чинов Германии наберется. Тут их и "подлечить" нашей целебной водичкой!








