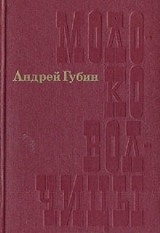
Текст книги "Молоко волчицы"
Автор книги: Андрей Губин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 44 страниц)
Скажи нам, Учитель, когда это будет
Когда мир судить ты придешь?..
...И многие люди тогда соблазнятся
Прольют неповинную кровь...
Стучали колеса. Рядом проносились, уносились навсегда прохладные леса Кавказа. Поворачивались то одной, то другой стороной – смотрите! смотрите! – Синие горы. Белые лежали неподвижно.
Несколько дней Михей был недвижным, отходил. Его не трогали. Только Глухов присылал вестового узнать о здоровье. Потом приехал немецкий врач, сделал укол – и Михей поднялся. Утром его погнали в казачье правление.
На площади уже торговали самостоятельные хозяева лошадьми, арбами, хомутами. Настойчиво заглядывал коням в зубы Глеб Есаулов. Плотники сооружали то ли ставок для ковки животных, то ли виселицу – они похожи. Правление расположилось в стансовете – до революции тут тоже было правление. Уже нашлись прихлебатели у новой власти. Резво бегали они по улицам, стучали в окна:
– Казаки или мужики живут?
– Мужики.
– Укорот дадим!
– Казаки.
– Милости просим, господа, на сходку!
В коридоре правления, пыльном, немытом, толпа стариков слушала Спиридона.
– Слава богу, жив остался, – сочувствовали страдальцу. – Теперь заживем по-старинному, на землю сядем, станем вольным Войском Терским.
– Пока надо наладить колхозы, – сказал атаман. – Отличишься, Спиридон Васильевич, крест заработаешь!
– Крест, он не уйдет! – смело пошутил Спиридон.
Глеб увидел, как повели в правление Михея, и сам поспешил туда.
– Кому остатние колхозы принимать? – спрашивал Глухов.
– А вот, – предложили гласные, – Глебу Васильевичу, талант у него, он скотину понимает.
Глеб поблагодарил за честь, но сделал отвод:
– Я в темное время бежал от колхоза, а вы меня опять записываете!
– Не неволим, не коммуна! – рокотал Алешка в русской одежде.
Наступила тишина – в коридор ввели Михея на костылях. Он глазами поздоровался с братьями. Атаман повел Михея в кабинет – Михей работал в нем, когда был председателем стансовета.
– Срывай! – кричал из-за двери Глухов. – Рви ему бороду!
– Напрасно стараешься, Глухов, – кашлял Михей.
Послышался удар, стук тела об пол, стон. Спиридон и Глеб побледнели и вышли из коридора.
Глухов с плетью в руках вывел Михея с окровавленным синим лицом. Сели на линейку. Митрофан свистнул, и поскакали, как на шабаш. Мелькали новые старые названия улиц. Интернациональная стала Германской, Советская Староказачьей, Комсомольская – Николаевской, Девятого Января Генеральской...
Поезд уже подошел к противотанковым рвам, вырытым населением в первый год войны. Евреев выстроили, пересчитали и повели длинной черной лентой в готовую гигантскую могилу. Детей отделили, отвели в сторону. Как заправские маляры, два немца мазали им рты сладким вареньем, макая кисть в банки. Сами маляры в противогазах. Рты слипались. Яд проникал внутрь. Дети корчились на земле в предсмертных схватках.
Страшнее смерти стояли бульдозеры с опущенными плугами. Они уже попробовали грунт с одного края рва.
Особая рота СД с ирландскими боевыми догами окружила ров. Неслись крики, вопли, душераздирающие стенания. Люди цеплялись за брустверы, не хотели уходить под землю живыми, приходилось сталкивать их ногами и прикладами. Особенно напористо лез изо рва крупный, горбоносый мужчина в немецком же мундире. Бандит Гришка Очаков. Он появился в станице вместе с немцами, был полицейским. Старые люди, немало пострадавшие от Гришки, вспомнили, что отец Очакова еврей, а дети числятся по отцу. Сказали Жорке Гарцеву. Тот сообщил дальше. Гришка прошел тщательную проверку и был подвергнут дезинфекции. Оказалось, что он все-таки был обрезан, как иудей.
Вперед вышли пулеметчики, мастера массовых операций. Заняли секторы окружности – ров круглый. Офицер кивнул головой. Многоголосый стон потряс небо. Пулеметы строчили сразу все. Потом попарно – с противоположных радиусов. Аккуратно следили, чтобы не получилось перерыва. И так по замкнутому кругу. Потом строчил один, свежий, подбирал еще живых. На крыле ослепительной "Татры" офицеры СД подписывали акт о проведенной операции "Украина". На полыни еще дергались дети, захлебываясь ядовитой слюной. Глазам убиваемых предстало последнее небо. Небо их родины. Гулкое, качающееся небо. Небо, по-библейски обрушившееся свинцом. Пулеметчики в синих беретах остановились и, веря в свое мастерство, закурили, не глядя в ров. Раненые и контуженые приходили в себя. Рота СД давала короткие очереди, не слишком разбрасываясь боеприпасами.
Мощно заревели бульдозеры, засыпая могилу.
Михей не сразу понял слова Глухова.
– Помогай! – дышал водкой атаман. – Закапывай коммунизм.
Молодая девушка выскочила изо рва, каталась по земле, как перееханная колесом, рвала на себе платье, залитое кровью. У Михея от ее кружения потемнело в глазах, он упал.
– Копай, Есаулов! – пинками поднимал его атаман.
– Отойди, от тебя мертвяком воняет!
– Шевелись, гадюка! – ожег его плетью Глухов. – Завтра будешь бросать в известку коммунистов, послезавтра – жечь током, такая тебе программа, генерал Арбелин придумал. Расскажем в газетах, что от коммунизма ты отрекся и лично расстреливал евреев.
Бульдозеры свезли плугами в ров детей и заравнивали землю. Земля дышит. Не скоро успокоится.
Домой Михея привезли на грузовике.
Кинулась к нему Ульяна, а он – ничего, молчит. Отстранил жену, нехорошо поглядел, лица на нем нет, ноги не держат. Знаками показывает – в сад, к воде. Тут пришел немец-врач продлевать жизнь. Сделал укол и ушел. Михей, как к материнской груди, припал к ранке на руке и высосал, выплюнул лекарство. Иван заботливо перенес легкое тело на лавочку. Михей сполз на траву, подремал минут пять, сказал:
– Иван, отходил я по белу свету.
Чудно стало Ивану, сроду таких слов не представлял в устах Михея Васильевича. Да и слух прошел, что немцы не тронут секретаря – дружба так уж дружба! – даже лечат, это верно.
– Документы я закопал в яслях конюшни, справа. Придут наши – сдашь в горком. Топи баню, ставь самовар, давай чистую рубаху.
Ульяна стояла рядом и вскинулась голосить. Пронизал ее взглядом смолкла, пошла за рубахой.
А Иван уговаривает:
– Вы лечитесь, дядя Михей, у немца, а потом тягу зададим!
– Нет, Ваня, я нынче такое видал, чего не было от сотворения мира. Я думаю, что я сошел с ума. Жарь баню.
Вскипятили Михею Васильевичу котел мягкой, дождевой воды, накалили булыжную каменку, развели самовар. Иван парит хозяина слегка – Михей еле дышит. А хозяин ругается:
– Дюжей, Иван, дюжей!
Два дубовых веника измочалил Иван по спине Михея Васильевича – пахло, как в Дубровке. И сердце останавливалось, не выдерживало пара. А это и требуется Михею. Ему недолго и вены бритвой открыть – нельзя, будут говорить: покончил с собой секретарь, испугался возмездия или потому, что ошибки признал, а Арбелин некролог сочувственный напишет, и будет жизнь Михея залита вонючими чернилами продажных газетчиков. Но крепка порода Есауловых.
– Бычиное, что ли, у меня сердце! – ругался Михей.
Говорят, чай крепкий вреден для сердца – давай его сюда! Здоровому сердцу ничего не вредно. Бывало, за ночь ведро водки выпивали, утром лечились рассолом и ничего, работали. А теперь густой чифер погнал смертный пот на челе Михея.
В забытьи он услышал трубы духового оркестра. Медная музыка знакома только где, когда слыхал он ее? В жизни ни один оркестр не играл такую, а он все-таки знал ее. И сильное, цепкое сознание вернуло Михея в прекрасный, не погибший в душе день: ослепительный снег по колено, синева ледяного неба, музга – улица над речкой в ледяном панцире, Михей, мальчишка лет шести, несет на плече оклунок муки, рядом отец, высокий, веселый, в ярких сапогах, каракулевой шапке, в белом башлыке, они идут с мельницы, мальчишку переполняет радость от близости отца, и он горд поручением – нести муку. Весело зыркает глазенками на самого дорогого человека. В кузне бухали молоты, тонко колоколил молоток ручник, и в этом звоне послышались яркие медные звуки... Потом Михей голубятник различал их в зобах воркующих голубей, тоскуя на чердаке по отце, одежду которого тогда же, в детстве, однажды привезли казаки.
Музыка повторилась, когда Михей сам вернулся со службы и пытался хозяйствовать с младшим братом и матерью, а из Петербурга вернулся Денис Коршак. В те дни Михей просыпался рано с радостным чувством пахаря, которому предстояло пахать будто по небу или по алым от лазориков буграм, вести борозды к синю морю. Будто ждала необычная работа – зажигать праздничные костры. Утра были обычными, росными, теплыми, мать, встающая еще раньше, гремела в чулане подойником, гоготали гуси, мычали коровы, перекликались пастухи и бабы. А у него душа ширится, золотой колокольней звенит в неведомой выси, охватывает волнующе светлое чувство вечности бытия, и будто поет полковая труба в каменном жерле колодезя... нет дальше, и надо бежать, искать, не потерять ее, и он резво спешил на берег речки – не в роще ли пела труба? – вертался назад, к Глебу, худобе, или шел на станичную площадь, где пьянь, голь и отребье уже стучалась в шинки и чихирни. Этим горемыкам уже недоступен звонкий хмель Михея, когда э ф и р н о ю с т р у е ю п о ж и л а м н е б о п р о т е к л о*.
_______________
* Ф. И. Тютчев.
Глеб начинает день с обхода двора, проверяя птицу, животных, ухороны и закрома. А Михею дороже брата сейчас ученый дурачок Сашка Синенкин, что хотел обнести кольцом садов Синие горы. И Михею видятся эти цветущие сады, холмы, величавый полдень, темно-синяя вселенная (словечко Сашки) и бегущая – и зовущая бежать за ней – даль горизонта, за которым сразу чудится море. Рядом хаты, молоко, навоз, чугуны, телеги, кони, жаркий огонь в печке, а Михею будто наслано свыше иное, и он даже любит послушать витийства дяди Анисима – не станичные, не каждодневные слова, рождающие тревогу, зовущие в край не нынешний, не нашенский.
И целый день ходит сам не свой. Забудет, займется делом и вдруг опять полоснет по сердцу: поет труба, рисует не то, что перед глазами. И Михей мрачнел, грустил, забывал о хозяйстве, блажил.
Зимний день мальчишки с отцом – святыня Михея в воспоминаниях. И потому так хотелось самому быть отцом, но жизнь не дала ему этого.
Михей Васильевич застонал.
– Чего, дядя Михей? – наклонился к нему Иван.
– Сон я видал хороший, еще с тех времен, казачьих, когда со службы вернулись, он и тогда мне снился, только наяву, и сейчас привиделся так ясно, так близко, и мать приходила. Кабы такие видения всегда... Пора мне, Иван, заморился я... Дай-ка еще чаю покрепче да водки туда влей, погорячее...
Послышался тихий, дальний звон. Михей Васильевич увидел какую-то воду, в ней отражение коня, поплыли цветы, быстрее, быстрее...
Перед смертью, утверждал Иван, Михей Васильевич прошептал, как бы в беспамятстве:
– Я удерживаю Линию...
КАЗАЧЬИ ПОМИНКИ
Чуть свет прикатил атаман. Спиридон и Глеб уже тесали брату гроб. Глухов распорядился открывать кладовые, тащить вино-пиво, рубить головы уткам и курам, варить обед, поминать хлебосольного хозяина, чтобы в станице не косились, что Глухов, вернувшись к законной жене, не уважил закона погребения. Он же сказал: тело предать земле не на казачьем кладбище, а на скотском могильнике за речкой Капельной.
Спиридон недобро усмехнулся на слова атамана.
С Крастеррой он встретился сразу же после беседы с братом. Расспросил ее о "Горном гнезде". Перебрали по косточкам нескольких русских, работающих в госпитале у немцев, профильтрованных в десяти водах. Похоже, что работали сейчас действительно немецкие прихвостни, связаться не с кем. Сигнал летчикам надо установить в трубе. И тут Крастерра вспомнила: кочегаром в госпитале остался Терентий Гарцев, сын богача Архипа, племянник Савана, внук атамана. Насколько она помнит, Терентий к Советской власти относился ровно – кормился, и все. Но как-то выбирали его председателем месткома, и он неплохо вел профсоюзную работу. Любил выпить на чужбинку – свою копейку зажимал. Дети у него на фронте.
Поздно вечером Спиридон постучался к Гарцевым. Открыл сам Терентий, высокий, костлявый кочегар – от него и пахло мазутом. Спиридон представился – белый полковник, друг его дяди Савана, председатель немецкого колхоза "Воля". За бутылкой водки разговорились. Терентий сдержан, неразговорчив. Спиридон пояснил цель визита, выдумывая напропалую:
– Когда расстреляли твоего отца Архипа Никитыча, дядя Саван сумел прибрать его золото – пять тысяч николаевских десяток. Деньги Саван закопал в Чугуевой балке, перед смертью указал мне место.
Терентий слушал благожелательно. В семье Гарцевых передавались версии о золоте отца.
– Один советский офицер, – продолжал Спиридон, – предлагает мне установить в трубе госпиталя фонарь за большие деньги. Мне едино: для чего этот фонарь, а деньги упускать жалко. Входи в половинный пай, а потом найдем и поделим деньги твоего отца. Немцы рано или поздно уйдут. Это как пить дать.
– Бомбу кинуть хотят? – прошептал Терентий.
– Должно, бомбу.
– На мою голову?
– А ты, как поставим фонарь, заболей, не ходи на работу.
– Сколько денег?
– Двадцать тысяч.
– Значит, по десять?
– Ага.
– Сам я ничего делать не буду, только пущу к трубе.
– Точно.
– Аванс какой?
– Три тысячи.
– Когда?
– Хоть сейчас.
– Давай.
Спиридон подал ему пачку денег, перетянутую резинкой. Терентий медленно пересчитал и спрятал деньги. Слегка застеснялся:
– Деньги это для порядка, я и так против немца...
– А чем люба тебе Советская власть?
– Ничем, работал, и только.
– А мне и на Советскую, и на немецкую власть начхать – я работаю ради хорошего заработка.
В назначенный час Спиридон и Крастерра спустились в парке в канализационный люк, прошли по зловонной трубе. Иными путями в госпиталь не пройти – охрана. Кочегар открыл им люк в кочегарке, помог выбраться и спрятал их за котлами. Форсунки котлов погашены – запас горячей воды был. Ход в дымовую трубу из кочегарки. Внутри трубы железные скобы – лестница.
Вдруг Терентий затрясся – оказалось, что подсоединять фонарь будут к электросети кочегарки, и он в страхе пошел на попятный.
– А ты что, так хотел получить денежки? – помрачнел Спиридон и шевельнул рукой в кармане.
– Я сейчас закричу! – громко сказал кочегар.
– Не успеешь! Дал слово – держи!
– А может, я тебя проверял этим словом?
– А может, я тебя!
– Уходите, как пришли, я вас не знаю!
– А помните, Терентий Архипович, как вы знамя на Первое Мая несли? спросила Крастерра. – У меня и фотография есть. Только показать немцам!
– Носил, потому как сильного человека брали, знамя, оно тяжелое! голосил Терентий.
– И сын у вас командир Красной Армии.
– Чего вы привязались ко мне? Христом-богом прошу...
Терентий попался на ту же удочку, что и многие, – Спиридон сразу располагал к себе, внушал доверие, вызывал симпатию. Но Терентий понял смертельную опасность, грозившую ему. Кинулся к двери – не успел, Спиридон уже свалил его в угол.
Было два часа ночи. Шумел дождь. Открыли боковую заслонку. Крастерра полезла вверх по трубе, задыхаясь от горячего воздуха. В своей жизни Спиридон овладел многими ремеслами. И теперь как опытный монтер незаметно подсоединил провод к электросети. Проверили – фонарь мигал, невидный с улицы. Тщательно скрыв провод, они спустились в люк, тихо закрыли за собой крышку.
В углу за котлами висело длинное тело кочегара – будто повесился на своем поясе.
Стругая гроб Михею, Спиридон прислушался. Полдесятого утра – обычное время налета советских самолетов на станицу и город.
Грохнули взрывы – опять на окраине. Но вчера уже был и ночной налет. Только бы фонарь не подвел.
Когда стали обряжать тело, оказалось, у Михея не было перемены верхней одежды – свои гимнастерки и галифе отослал на фронт вместе с валенками и сапогами. Завернули покойника в старенькую, выгоревшую, пробитую пулями бурку, казачий домик.
– Докоммунарился – похоронить не в чем! – ругался атаман.
К дому подъехала машина с вещами – вселялся новый муж. Вещи были самые разные, в том числе два ковра и настенные часы Гулянских.
Гроб, чтобы не мешал вселению, вынесли в сад, на легкий речной сквознячок. Соседский мальчонка отгонял абрикосовой веткой желтых бабочек, норовивших сесть покойнику на глаза. Бабы-соседки варили обед.
Тучная Ульяна с проседью в тяжелых косах сидела в светелке. По широкому монгольскому лицу катились слезы. Новый муж запер каморку Михея, свалив туда все, оставшееся от покойника – в основном, книги. Ульяна часто подносила к губам оранжевую каменную чашку с орнаментом – пила горьковатую калиновую воду. Только из нее пил чай Михей Васильевич.
Спиридон похоронил Михея на старом кладбище – атаман спорить не стал. Голосила Мария Есаулова. Тронули желтоватый тлен материного гроба.
Глеб волновался необыкновенно – от близости родимого праха. А может, золотые зубы в черепе не давали покоя. Хоть бы открыть, глянуть, но это открыть родовую тайну, и он лишь метался у ямы, как ужаленный.
Вновь посадили старые кусты сирени. Привалили могилу родовым камнем, на котором зеленый лишайник заточил несколько имен. Церковь в похоронах не участвовала. Ульяна хотела тайком заказать заупокойную службу, но Спиридон запретил это попу, зная волю умершего.
Родия и дружки атамана – для них это свадьба, великое множество станичников, старухи богомолки, кормящиеся поминками, сели за столы под деревьями сада, выращенного Михеем. Хватили по большой. Глухов, выпив, для эффекта бросил стакан в Подкумок. Старухи крестились, глядя на него.
– Горько! – кричала атаманская свита. – Невесту на выход!
Под конец свита перепилась, эмигранты ломали деревья, били посуду, осквернили двор нечистотами и песнями не к месту.
Что ж ты ходишь,
Что ж ты бродишь,
Сербияночка моя?
Пузырьки в кармане носишь
Отравить хотишь меня...
За отдельным столом в темноте сидели Есауловы с ближайшими родственниками.
За порядком следит Иван, последнюю почесть Михею Васильевичу отдает разливает вино за столом Есауловых, с неприязнью обходит тетку Ульяну. А Мария ему как мать родная. Он хотел зажечь лампу, но Глухов чуть плетью не огрел – маскировка!
Мчалась вода, которую уже не видел Михей. Бабы мыли в ней тарелки. Там и сям бубнили пьяные голоса. Глухо роптали вековые, от сотворения станицы, дубы и вербы – вершинами доставали высокий ветер.
Из-за Красной горки поднимались светлые ресницы луны. Речка на перекате чешуйчато заблестела спиной – и Спиридон почему-то вспомнил виденных в Московском зоопарке кайманов с тупыми и сонными мордами. Глеб тоже смотрел на засверкавшую речку – и ему виделись миллионы зря проплывающих золотых монет.
Новый хозяин прошел в комнату жены. Пьяно засмеялся мелкими, искрошенными пеньками зубов. Неспешно стянул ремни с оружием, кряхтя стащил сапоги, своротил гору подушек на постели, взял за косы венчанную жену и шумно, со слюной задул светильник.
В небо взметнулись длинные палаши – лучи прожекторов. Самолет, как муха, попался в их сети, резко пошел вниз. Палаши заметались, рубя небосвод, но самолет смолк, исчез. Завизжали бомбы. Спиридон в волнении вскочил. Пламя встало огромным бурым медведем за парком, в курортном городке.
Оказалось прямое попадание – в клуб "Горного гнезда", где выступал с киноэкрана Гитлер. Пятьдесят гробов с останками немецких офицеров похоронят в Английском парке. Так выстрелила из могилы рука секретаря горкома партии.
Поминки продолжались допоздна. Спиридон и Мария пели плач о гибели казацкого войска.
Из-за лесов дремучих
Казаченьки идут
И на руках могучих
Товарища несут.
Носилки не простые
Из ружей сложены,
А поперек стальные
Две шашечки положены.
Шнурочки с пистолетов
Украсили бойца.
Мы молча относили
К могиле мертвеца...
ВСТРЕЧА В БУДУЩЕМ
Стояла ранняя осень. На товарной станции немцы раздавали одежду, снятую с расстрелянных. Глеб побежал туда, но только постоял рядом, побогател мысленно – залитую кровью одежду брали уголовники. Лишь день зря потерял. А ему надо наверстывать время, упущенное в кладбищенской спячке.
Вновь возродилась старинная мечта: стать хозяином свечного или канительного заводика – при нэпе начинал, не дали, а теперь уже и здоровье не то, и сумраки разные лезут в душу.
...На желтом жнивье сидел он в санях. Бежала к нему собака, мордой потянулась к нему, он испужался, жестко стал ее душить, она покорливо не противилась, наконец тело длинно дрогнуло и ослабло, понял: кончилась, и пальцы отпустил. И удивился: рядом уже не собака, а маленький человечий выкидыш, но белый, как юное тело...
Проснулся, подумал: собака во сне хорошо, к другу. Но до обеда муторно на душе было, будто с перепоя.
Он уже купил Яшку, осла, смастерил хомут и ездил на купленной колеснице плуга – колеса разновеликие. В его памяти хранились желтые быки, заработанные в дни пастушества, белые кони, потерянные в революцию, кобыла Машка и азиатский верблюд. Глеб откровенно завидовал верблюдам – неделю идут по песку без воды и еды. Тяготила телесная оболочка, подверженная болезням, голоду, похоти – стать бы чистым, бездумным духом! Убыточным временем он считал сон, праздники и сузил это время до предела. С работниками оказалось туго. Позвал Ваньку-приемыша, а ему, черту, к Спиридону в колхоз идти приспичило – при немцах в колхоз!
– Зажирел, сатана! Распустила их Советская власть! Обленился – мыша не поймает! Кол-хоз!..
Возвращаясь с товарки, встретил бабушку Маланью, узнал, что продает она пару колес с осью, а это большой дефицит. Золотиха повела в сарай. Заскрипела дверь. Солнце упало на пыльную рухлядь ушедшей эры.
Еще от древности, когда и ржавый гвоздик и веревочка ценились переселенцами, в казачестве ничто негодное не выбрасывалось. Изнашивался на нет сапог – его не бросали, не отдавали старьевщику – кидали в катух, на чердак, в сарай. Разбился горшок – туда же, вдруг и пригодится когда. Случалось, наследники возами сжигали это добро, везли на свалку, но сами копили такое же. Отец Золотихи был мебельщиком, помер лет тридцать назад, передав науку красного дерева Ваньке Хмелеву, а паутина все оплетает турецкие кресла, рассохшие винные бочки, столы мореного дуба с потерянными ногами, останки гитар и сундуков, внутри которых не молк скрип жуков-пильщиков и древоточцев.
В хламе, собранном Маланьей и ее мужем дядей Анисимом, Глеб без труда угадал колеса его арбы – фамилия жигалом выжжена. Замуравленные битым скарбом, погружались они в ночь ночей. Много спиц выпало, как зубы из старческого рта. На ранах-трещинах железные бинты, положенные разными кузнецами.
– Дебелые еще, – сказала мало постаревшая Золотиха и запросила пять тысяч советскими – нешто немец устоит против русского!
Советские Глеб уже поменял на марки. Маланья марки не брала. Призналась, что-к вечеру ждет еще покупателей колес. Пришлось отдать две золотые монеты, но выклянчил придачу – хомут, коней все равно приобретать придется. Положено купцу ставить магарыч, но поставила бабка. Она еще молодится, напомнила Глебу, как им пришлось мыться в бане вместе, когда Глеб жил в кизячном скирде. Старая карга – туда же! – в гости вечерком приглашала!
Подремонтировал хозяин арбу, перебрал в памяти дороги колес – и фиалки мяли, и в реке купались, и под лафетом ходили, и хлебом на них торговал, и крутились на свечном заводике – тогда еще Оладику руку помяло, не лезь в машину! И в колхозе, видать, побывали, и на похоронных дрогах были, откуда, по словам Золотихи, попали к ней в сарай. Грузовая была арба, сто пудов подымала. И быки ее таскали, и слепая Машка, а ныне, в годы старости и оскудения, впряжен в арбу ишачок ростом с хорошую собаку.
Поутру поехал Глеб Васильевич в Чугуеву балку – оглобли новые вырубить. Серый, как мышь, пузатый ослик деликатно семенил ножками. Колеса еще сохраняли тот особенный пристук, который позволяет узнать своих за версту. Возница сидит на передке, сбивая пятками кочки. Погромыхивает топор. В сумке ком брынзы, лепешка и бутылка с квасом – Маша налила.
На аэродроме согнанные бабы, инвалиды и дети роют траншеи. Их охраняет коротконогий ефрейтор в пятнистой накидке. Немец раскурил трубку, взятую в кармане убитого араба в Африке, и завыла сирена – воздух! Бабы мигом легли в мелких траншеях. Дети выглядывают, куда полетят бомбы. Сиганул и Глеб в укрытие, прихватив топор и сумку, – не сперли бы еще в суматохе!
Три краснозвездных самолета развернулись. Черные чушки оторвались от самолетов, как поросята от матки. Нарастает ужасающий, пронзительный свист металла. Покуривает трубку старый ефрейтор – грудь в крестах.
Взрыв! Взрыв! Взрыв!..
С немца сорвало фуражку, глиной запорошило нарукавную пальму. Ефрейтор спокойно выколачивает трубку о кованый каблук – табак вырвало. Добродушно смотрит на мир. Сытый победитель. Ягуар, прошедший три части света. Нордическая раса. В бомбежку и ему неуютно, но славяне не должны этого видеть.
Самолеты ушли, догоняемые пухлыми зенитными облачками разрывов. Глеб взобрался на арбу, дернул вожжи из чемоданных ремней. Проезжая мимо ефрейтора, обнюхал немца. А пора сказать, что носом Глеб видел лучше, нежели глазами. Когда-то вожделенно обонял священный запах нафталина всех скряг бальзам и фимиам, знал запахи бедности, беспомощности, сиротства, одиночества, богатства, запах золота, ведомый лишь ему. Почему-то от немца пахло паленой шерстью, что настораживало. На всякий случай Глеб приложил два пальца к папахе и выложил весь запас немецких слов:
– Зер гут!
Как, эта свинья еще радуется бомбежке? Ефрейтор в упор наставил ствол автомата на осла. Яшка дрожью кожи отгонял мух и не обратил внимания на близкую смерть. Зато хозяин взмолился. В штанах искусно спрятан маузер, но не будешь же бить в немца!
Натешившись, ефрейтор сменил гнев на милость. Отвинтил фляжку и выпил из горлышка горячительного. Черт возьми! Разве не в этом солдатская услада: пить вино, горланить маршевые песни и брюхатить женщин. Выпив, приземистый, с брюшком и штыковым шрамом на коричневом лице ефрейтор стал многоречивым. Вероятно, этот русский скот не имеет представления, что на солдатской груди ефрейтора есть офицерский орден, что он любимец Германии, что его физиономия еще без шрама украшала пачки дешевых сигарет, что он живой дух старой нации, старейший ефрейтор армии, – будто и фюрер некогда служил под его началом и даже получил взыскание, что, как показало время, пошло на пользу и фюреру, и Герман "и. Конечно, фюрер не упомнит всех своих бывших командиров, но командиры помнят солдат! Наговорившись по-немецки, ефрейтор отпустил дровосека.
Чугуев лес еще внушителен, в пределах старых границ. В нем, конечно, есть и зверь, но держится потаенно. На пригорке греются потомки динозавров – серые юркие ящерицы. Они шипят и, если их дразнить, прыгают на людей. Море ковыльное – и каждая ковылинка шепчет о прелести одиночества.
Из травы показались конские морды, потом спины, подвода. Брат Спиридон на своих серых скакунах. Интересно: из лесу, а пустой! Поздоровались, покурили, вспомнили старину.
– Клады, что ли, разыскиваешь в лесу? – показал Глеб на лопату в телеге Спиридона – на лезвии подсохшая земля.
– Корни лечебные искал! – спрятал Спиридон лопату под сено, звякнув о что-то железное, тронул коней. – Бог в помощь!
Глеб спустился в балку. Это его страна. Тут ему хорошо, без людей. Тут думал когда-то хижину выстроить, душу спасать наедине с птицами и облаками. И ничего не основал, не построил, даже деньги, привезенные из Средней Азии, дуром разошлись. Опять начинать сначала.
По дороге ползла желто-зеленая змейка страшной убойной силы, медянка, размером с карандаш. Глеб с лаской пощекотал ее прутиком, понимая, как беспомощны перед человеком и не такие твари – киты, слоны, медведи.
Лес дарил ему ягоды, прохладный шелк тени, россыпи золотых монет на мураве, а Глеб угощал его словом, дальним, из пропавших, досоветских станиц. Что все меняется, уходит, он знал. И лишь в старину было все прочным, долговечным, неменяемым. И все-таки сердце забилось – а вдруг? И поспешил в густые заросли лопухов и лилий, к скале в бархатном плаще... Звон будто слышится, но жив ли тот родник?
И душу покрыла радость – вот он Сладкий Колодезь, кристальный ключ, бьющий из-под скал. Лет, почитай, двадцать не доводилось пить из него, а в детстве и юношестве Глеб даже дружил с этим замечательным родником, была промеж них любовь несомненная: Глеб выкладывал озерцо родника цветными камешками, а родник дарил ему в самый зной лучшие свои струи.
Долго пил Глеб Васильевич, свернув стаканом свежий лист лопуха. Вода осталась прежней. Только узнал ли родник своего друга?
За жизнь притомился. Прилег под роскошным кизиловым кустом в рубиновых опоясках ягод. Раздумался о прошлом, о нынешнем. В станице некогда предаваться мышлению, а в шорохах лесной глухомани мечтается. Вон нарядная сойка-красавица, небось тоже дом имеет, птенцов вырастила. Одному все же тяжко, волки и те стаями ходят. А ведь и он был в стае. Имел братьев, мать, любимую, детей, дом – и ничего не осталось. Только память хранит многое. Вот ясень – под ним, в зарослях чистого барбариса, обцеловывал милые плечи и лицо. И послышались мирные выстрелы дальнего дня, вспомнилась молодецкая медвежья охота...
Долго грезил, не хотел открывать глаз, а когда открыл, то подивился творящей силе воспоминаний – перед ним стояла Мария. Высокая, изможденная, в юбке из мешковины, с топором, веревкой и корзинкой. Как двадцать лет назад. Предлагал на похоронах Михея сходиться – отказалась. А дрова на себе таскает! Его опять кольнуло виноватое чувство силы, превосходства перед ней, у него уже наметился кусок хлеба, а ей и при немцах не сладко.
– За дровами? – спросила Мария, чтобы не здороваться.
– Ага. И ты? – встал Глеб. – Подвезу, ишак добрый.
– Спасибо, донесу.
Глеб посмотрел на бутыль из-под молока в корзине Марии. Еще не успела сполоснуть – зеленое стекло в тумане.
– Себе брала, – заметила она его взгляд. – Едешь на день – хлеба бери на неделю!
Ладно, это его не касается. Вот и братец Спиридон с лопаткой поехал не иначе оружие выкапывал! Глеб политики избегает. А жить хочет с ней, с Марией. Встал повыше на склоне, прочерченном десятками овечьих дорожек. Она вроде стала повыше Глеба ростом.
– Помнишь, говорили мы тогда, избушку тут сплесть? – Проникновенно спросил Глеб.
В самую точку попал. Много ночей мечтала она в молодости о жизни с Глебом вдвоем, в лесной глуши среди цветов, пчел, родников...
– Может, пришел наш час? – уговаривал он ее.
Мария со страхом отодвинулась – неужто быть еще четвертому роману? Никогда. И твердо ответила:
– Не помню, не говорили!
– Короткая у тебя память. А я ровно привязанный к тебе. Недаром присушивала ты меня, колдовала.
– Дура была – и присушивала. В дом вселился?








