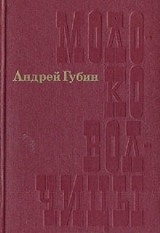
Текст книги "Молоко волчицы"
Автор книги: Андрей Губин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 44 страниц)
Деловые люди наконец проникли к целебным источникам и начали быстро возводить жилье.
Мотивами местного зодчества были уютные замки, игрушечно отражающие силуэты романских и готических твердынь средневековья. Отвлеченные башенки, купола и зубцы – вздохи и мировая тоска. Символизм колонн, замкнутость слуховых, таинственных окон, поэзия балконов, вброшенных в звездное небо, стрельчатые арки пародийно передавали облик рыцарской крепости, выродившейся в кирпичный доходный домик среднего буржуа. Деловым людям ни к чему мировая тоска и грезы интимного мирка спальни под стеклянной крышей, пропускающей свет снега и звезд. Но деловые люди шли в ногу с временем, когда типическим в архитектуре, как и в искусстве, философии и политике, стала эклектика – смешение великих и героических стилей.
Здесь строили дома-причуды с решетками-грезами и храмовыми пристройками. Как вина в одном стакане, мешались в одном здании египетский лотос, римская арка, крепостной мотив Ассирии, мощь романской башни, призыв и дематериализация узких соборов. Из всего этого под конец родился стиль рококо – внешне скромные серые стены скрывали чудовищную роскошь серебряных залов, голубых и розовых комнат, обитых шелком и бархатом, искусственных руин и фонтанов с неизбежными греческими богами. Поскольку реальный мир сужался, в комнатах рококо ставили зеркала под тупым углом создавалась иллюзия бесконечного расширения пространства. Такие дома строили аристократы, боящиеся черни, улицы, революции.
Однако и здесь, в городке, под заборами – крапива, пыль, навозные лепешки, по улицам бродит скот, проезжают не только нарядные экипажи, но и возы с соломой, золой, и кричат разъезжающие в кибитках торговцы солью, керосином, лавровым листом и мылом. Тусклые фонари лишь у домов самых влиятельных лиц. А снежные сугробы зимой уравнивали станицу с городком.
На зажиточных казачьих хатах пели железные петухи. На виллах господ орлиные гнезда, арфы, тигры, химеры. Господа приезжали на воды только летом. Зимой аристократические кварталы странно цепенели, безлюдные, заваленные снегом, с погашенными фонарями. Чуть струились дымки сторожек. Случалось, в город забегали волки. Были и постоянные жители – военные в отставке, купцы, нажившие миллионы торговлей льном, салом, мехами, а также дельцы, сделавшие своим доходом курортный промысел – сдачу особняков.
Улицы курса мостили булыжником, заливали бетоном, сажали деревья, парки. Фантазия местных тузов и просветителей налепила на каждом шагу орлов, львов, змей, но бронзовую пару коней, открывших источники, не поставили до сих пор. Попадая на курс, казаки таращили глаза на дивные хоромы, ибо в станице господствовали саманная хата под соломой, грязь, навоз. А мужиков полицейские чины просто гнали с курса, хотя были мужики и бедные, и богатые.
Архип Гарцев стал первым богачом в станице. Служил он на турецком кордоне и там украл жену по любви, дворянку грузинских родов. За ним гнались, но лихих коней припас казак. Архип не взялся за плуг, а поехал в шумный город Баку, притворился нищим, обходил с сумой богатых купцов, нефтепромышленников, подавали ему щедро, жил в Черном городе, питался акридами, деньги клал в банк. Вернувшись, застроил на курсу пятиэтажную гостиницу "Метрополь" на сто номеров, там, где улица уже одевалась ювелирными да мануфактурными магазинами.
Руки у Архипа отбелели, сапоги со скрипом, черкесское оружие, денег куры не клюют, жена одета: дунь – полетит. Приехавших убивать Архипа грузин – вырос мститель – встретили музыкой, ковер на всю улицу постелили, был бал, речкой текло шампанское – "сто рублей бутылка".
Глеб Есаулов, бывший на этом празднике кучером третьей тройки, видел своими глазами на этажерке черного дерева дырявую суму нищего, над которой хохотали знатные гости.
Занятия строительством Архип продолжил. На паях с Владикавказской железной дорогой построил театр, еще две гостиницы – "Донскую" и "Бристоль". Брал подряды на лечебницы, виллы да галдареи. Одна лечебница в античном стиле до сих пор считается лучшей в Европе. Проект делали в столицах, а работали местные артели, как – дяди Анисима Луня, мастера каменных дел.
Людей Архип уже замечал мало, с генералами якшался, наказные и войсковые атаманы подавали ему два пальца, в гости к нему захаживали приезжие тузы, а родня в навозе ковыряется, даже отец-атаман не имел большого зажитка, хотя держал атаман ссыпку, торговал зерном.
Перед революцией курорт-курс шагнул ближе к станице – местные просветители выстроили на станичной площади, близ церкви Николая Угодника, ресторацию "Дарьял". В нижнем зале – для простонародья – дым, чад, пахнет луком, мокрицами. Тут старинные песни, соленая речь, кабацкие бочки. Казаки равнодушны к знаменитой минеральной воде, предпочитают чихирь, водку. Без зависти смотрели на верхний зал, направляясь в мрак "Дарьяла", где рекой лилось дешевое вино, за копейки давали мензурку солдатского спирта и кусок проперченной баранины.
В верхнем зале – благородная публика. Сновали вышколенные официанты, под волосатыми пальмами играла музыка, на стенах – ковры, декоративное оружие, рога, упитанные купидоны. Туда заходили знакомиться с пряностями Кавказа отдыхающие на водах берлинские профессора и философы, открывшие, что "мир – это я", московские поэты, положившие начало поэзии, отрицающей реальное, петербургские гвардии офицеры, мнящие себя наследниками поручика Лермонтова, который в бронзовом сюртуке навсегда остался жительствовать здесь. Подкатывали на фаэтонах прекрасные дамы, знаменитые артисты, знатные старухи в бриллиантах. В отдельные кабинеты проводили старичков, действительных статских и тайных советников.
Прислуживали гостям казаки. Хозяин ресторана Архип Гарцев замостил площадь подкумским цветным булыжником. Но в дожди открывались, как старые раны, мочаги, и в них блаженно хрюкали супоросые свиньи. Советская власть аннулировала Архипа Гарцева.
Легкая бурка председателя стансовета мелькала в те дни повсюду. "Невежество – вот твой главный враг" – гласил плакат на площади. И Михей боролся с невежеством, открывал школы, добывал буквари и задачники, керосин для ламп, сам строгал палочки для счета. Ловил беспризорников, направляя их в коммуну. Работал как член бюро укома партии. Разбирал тяжбы станичников. Его главной заботой были дети, молодежь. Для них-то в первую очередь и решил он создать клуб. И вынес соответствующее решение: всем станичным активистам явиться в бывший ресторан "Дарьял". Активисты явились. Пришел Михей с отрядом первых комсомольцев, сказал речь о неизбежной мировой революции, засучил рукава, и в ход пошли швабры, веники, тряпки, вода, карболка, известь, краска. Нашлись маляры, печники, художники. Ульяна Есаулова, Катя Премудрая, Люба Маркова, Мария Глотова, Горепекина выбелили клуб снаружи и чисто подвели фундамент красной глиной.
В этом станичном клубе начали работать кружки – гармонистов, певцов, оборонный, школа для взрослых, агитпункт, общество охотников и рыболовов. По вечерам народ охотно шел в клуб. А дети даже дрались за места, крича: "Мое место!" – "Твое место на могилках!" Жестокий юмор казачьего детства. Часто с беседами выступал там Михей Васильевич. Одна его беседа оказалась роковой для клуба – станичники перестали ходить и детей не пускали. Беседа, как обычно, сводилась к рассказу Михея о будущем станицы.
– На всю станицу будет один кашевар, баб от печки освободим, чтобы могли те бабы культурно развиваться...
Казаки похохатывали. Михей Васильевич распалялся:
– Работать будем по часам – от и до. Черную работу станут выполнять машины, пар, электричество...
– Как же ты быка будешь паром пасть? – спросил дедушка Исай. – Или, к примеру, корову доить?
Ответ Михея, несколько сбивчивый, утонул в хохоте. Михей и сам рассмеялся. И тут все испортила ядовитая Катя Премудрая:
– Михей Васильевич, как же вы освободите баб, когда у каждой семеро по лавкам бегают – дети?
– Детей будете сдавать в ясли! – ясно и серьезно сказал он.
Казаков так и свело набок. Все, значит, правильно: скотину, хаты, чашки-ложки – все в кучу малу. Но и этого мало – и детей сдай в коммуну! Слушатели редели, шли к выходу.
– Граждане! – испугался председатель. – Ясли это не такие, как у скотины, одно название, это домики такие, вроде больницы...
Еще лучше сказал – больница что тюрьма! И толпа расходилась, громко опрокидывая лавки. Шутка дело сказать: детей в ясли! Нет, товарищ председатель, ты ею сперва спороди, выкохай, а потом поглядим – отдашь или нет в ясли! Казак жену бросит или там в коммуну сдаст на общее пользование, а дитю цены нет. Корова – отыми у нее телка – неделю не пьет, не ест, мычит, плачет.
Классовые враги сражались в клубе и около. Сторожа не было. Свежую известку на стенах побили камнями, углем писали нехорошие частушки, на ступеньках сквернословили подростки, тянули сивуху станичные калеки, случалась поножовщина. Жестоко избили Федьку Синенкина – он в клубе учился на тракториста.
Первые комсомольцы разбили сквер из фруктовых деревьев, установили в нем гипсовый бюст Маркса. Деревца безжалостно сломали вражеские руки, бюст разбили, а под монументом нищие считали выручку. Председатель не отступал. Трижды по весне сажали деревья. Скот, мальчишки, жара сокрушали насаждения.
Площадку перед клубом залили бетоном с гранитной крошкой – и ломы станичников осклизнулись. Плакаты вешали не бумажные – железные. Начался смертный бой между клубом и церковью. С гневом отказался Михей Васильевич от посадки яблонь и вишен. Осенью посадили в сквере крепкие тополя, живучие акации, быстрорастущие клены. Обнесли деревья железной оградой, поставили сторожа.
– Станичники, – умолял председатель, – неужели плохо в жару посидеть в холодке, у фонтана?
– Дюже сладко, верно гутаришь, – соглашались казаки, но деревья и ограду сломали.
Операцию повторили. С вечера наряжали комсомольские патрули. Частенько и председатель заступал в ночную стражу, дослав патрон в ствол. Деревья растут медленно, а караульные ночи длинны. Коротая время, председатель рассказывал комсомольцам о будущей жизни, в которой не будет такого, чтобы один ел, другой слюни глотал. Он рисовал им новую станицу в электрических огнях, с прямыми улицами, трехэтажными домами и даже мечтал запрудить речку под Белым Углем, чтобы и море было в станице, с парусами и флагами.
В звездном мерцанье лицо председателя светится. Желтую бурку он накинул на самого маленького комсомольца. Молодежь тянется к нему. Дома моления, ругань, голод, попреки, а дядя Михей говорит о такой жизни, что голова кружится, и идет за эту жизнь везде, хотя из-за угла в него стреляли уже дважды.
На вокзале артелью Анисима Луня сложен памятник погибшим коммунистам. По рисункам Невзоровой каменных дел мастер высек там несколько профилей Дениса Коршака, Антона Синенкина, а одно лицо Анисим высек без рисунка, сам, и оно странно напоминало лицо Михея. Суеверные люди считали, что Михею, таким образом, не долго гостевать на белом свете. Сам он не обращал на это внимания, да и сходство только кажущееся. Еще не высохли слезы матери Дениса Ивановича, а уже Коршак стал легендой. Михей – товарищ Дениса, его друг. Поэтому блеск легенды падал и на строгое лицо второго председателя нашей станицы.
Долго тянется караульная ночь – так и деды стояли на пикетах.
Шумит речка Березовка. Не скоро поворачивается Батыева дорога в кебе. До смены далеко.
Утро председателя начинается встречей с конем. Путь им обоим ведом а коммуну. В горы. В прекрасное одиночество трав и ветра. По дорогам Лермонтова, под "Казачью колыбельную" которого матери по-прежнему баюкали детей. И конь, и всадник лечились тут – конь травой от зимней бескормицы, всадник светом и синью от станичных дел.
Из-за изумрудного кряжа Кабан-горы растекается озеро света. Солнце еще за горами. Внизу плывут и клубятся туманы. В ущельях прохлада, журчанье быстрых речушек, сторожевые горы в росах и цветах, крутые, как башни, скалы, за ними синева дальних вершин, над которыми высятся вечной прелестью остро белые пики снежного хребта, и кажется, рядом, можно потрогать ладонью, проскакав полверсты, гигантский Эльбрус, Грива Снега, Шат-гора, корона Европы.
Прасковья Харитоновна бежала, задыхаясь, к дому старшего сына. В руках то ли уздечка, то ли шлея с железными бляхами.
Михей во дворе окапывал яблоньку, посаженную в день своей свадьбы.
– Когда я отмучаюсь от вас, ироды? – с калитки закричала мать. Олухи царя небесного, никак не дождетесь, когда закопаете! Ну теперь уже недолго ждать! – и налетела на сына с ремнем. – Еще чего не хватало! На всю станицу ославил – теперь ни на базар, ни в церкву не пойди! Мужичье семя! – и продолжала хлестать председателя стансовета.
Наконец Михей утихомирил мать и расспросил, в чем же все-таки дело? Оказалось, Маланья Золотиха (Луниха, но звали ее по отцу) зашла к Ульяне Есауловой за арбузными семенами – "да так и сомлела":
– Стоит, милые вы мои, Михей-то Васильевич, грозный наш атаман, и постелю прибирает, а Улька перед зеркалом с утра морду наводит румянами!
Этот позор – казак убирает постель – достиг Прасковьи Харитоновны. Едва на ногах устояла. Удушиться – и конец.
– Ну, думаю, я ж тебя, подлеца, выучу! Я тебя сделаю казаком! Или не помнишь – "сам наутро бабой стал"?
Долго смеялся Михей, утирая слезы, и погостил мать сливянкой своей выделки и отборным медком. И домой нагрузил ее разными припасами, так что назад Прасковья Харитоновна шла не спеша, а шлею или уздечку в мешок спрятала.
НОЧНЫЕ ГОСТИ
Глеб наконец посватался к Марии и ушел несолоно хлебавши, "чайник ему навязали". Против замужества сестры неожиданно выступил Федька, он злился, что Глеб "вышел в кулаки", дом под волчицей приобрел. Сын Антон тоже разревелся и заявил, что сбежит шпановать по станциям, если мать пойдет жить к дядьке Глебу. Но Марии скоро опять родить, она не против стать мужней женой. Дело испортил сам жених. Узнав, что Федька и Антон кочевряжатся, он гордо заявил:
– Гольтепа несчастная, босая сила коммунарская! И без лысых проживем!
И гуще замешивал опару хозяйства, пускал животворный корень в неподатливую целину. Хотелось ему не только скотину водить и хлеборобить, думалось заводик бы какой наладить – свечной или мыльный, власть вроде не против. Мыслями о заводике утешался в разлуке с возлюбленной.
Родившегося в двадцать третьем году у Марии сына покрестили Дмитрием – в честь князя Дмитрия Донского назвал священник. Крестным отцом вызвался быть Михей. К купели он, понятно, не подходил, но подарок на зубок сделал. Ульяна не рожала, а Михей без памяти любил детей и завидовал брату.
У брата плодилась и скотина. Ожеребилась кобыла Машка. Грунька, свинья, принесла поросят. В банкетном зале птичий базар – вылупливались гусята, утята, индюшата. За всем смотрела мать Прасковья Харитоновна, не отставая в работе от сына и работников. Она работала со старческим рвением, как бы упрекая молодых за ленцу и отдых. "Дом не велик, а сидеть не велит", – говаривала она. Спешила сделать все и ничего не истратить в этой жизни. По двадцать лет не изнашивались ее юбки. Даже в церковь норовила пойти "абы в чем", скупость одолевала, юбки замыслила сохранить для внучки Тони – моды тогда не понимали. На гостинцы внукам она не скупилась, зазывала к себе, кормила. Фоля, невестка, встретила свекровь и поругала за нищенскую одежонку, дала Прасковье Харитоновне юбку в серую клетку. Сама Фоля ходила чисто, медоволосая, тонконосая, с божьими глазами. Подаренную юбку Прасковья тоже положила в сундук, пересыпав табаком от моли. В новом доме Прасковья жить не захотела – "мужиками воняет!" – и осталась в старой хате. Сын был против – две печки топить!
Фоля у Прасковьи как родная дочь. Обе они крепились, горе не показывали, ждали Спиридона. Но не в двадцать первом, не в двадцать втором, а только в двадцать третьем году прослыхали они, что сын их и муж отбывает наказание в городе Москве. И тогда шестидесятилетняя Прасковья приказала себе: жить – ведь когда-нибудь Спиридона отпустят. С Ульяной Прасковья тоже ладила, но как-то с холодком, не близко. Вот уж с кем близко, так это с Марией. Мать часто напоминала Глебу о голубиной душе Марии, заставляла его пойти на поклон, уговорить Синенкиных отдать Марию. Сын и сам хотел того, но гордость не позволяла, и он кричал на мать.
Если это случалось с утра, Глеб понимал: предстоит бесполезный, ненужный, небарышный день – ныло сердце, манили бугры и рощи. Он седлал Машку, уезжал в балки, впитывал синь неба и шум дубрав, как в золотые дни пастушества, которые стали казаться самыми лучшими, самыми счастливыми днями жизни. Под вечер спешил в подпольную чихирню Маврочки Глотовой, Утром вставал в поцелуйных следах, еще более жадный за пропущенный день, что прошел ширкопыткой, вкось и вкривь, через пень колоду. Исподтишка покусывала совесть: у него кусок есть, а Мария, дети – ели они нынче или нет?
Прасковья Харитоновна не смотрела на сына, назло ему приносила от Синенкиных Митьку, выпаивала его первыми сливками. Она перенесла на бойкого внучонка свою мудрость и нежность, свою старинную в песнях и присказках душу. Харчи у Синенкиных были, но Мария видела, что Митьке лучше у Есауловых. Так он и жил с Прасковьей Харитоновной, рос истым кавалером, навек привязанным к коням, горам и синим речкам.
Лежит в тайнике золотой подсвечник. Не ржавеет. Не убывает в весе. Хлеба не просит. Однако и пользы от него как от козла молока. А пусти его в дело – процент пойдет, прибыль. Высшая мечта – своя фабрика – пока не получалась. И часть золота Глеб превратил в пять племенных коров разрешали держать и больше, нэп. Пас их отдельно от станичного тощего стада Ванька-приемыш. Прасковья не хотела брать сироту – какой он работник, только хлеб переводить! Мать Ваньки, Сонька, сестра Оладика, в голодуху померла, отец неизвестен, так что, может, Ванька и казак. Числил его Глеб не работником, а сиротой на воспитании. Выправляя документ, Глеб дал Ивану отчество Спиридонович, а фамилию свою, казачью. Но отчество привилось другое, по матери, Сонич.
Мальчонка оказался понятливым и честным. Глеб никогда не бил лошадей – не гони кнутом, а гони овсом. Выжимая из работников все, он хорошо их кормил, одевал – сам бывал в работниках. Ваньке он преподал полевую науку, как пасти, поить, лечить, на каких травах держать утром, а на каких вечером. Ванька из кожи лез, чтобы коровы больше давали молока. Хозяин отметил это усердие. Из чулана старой хаты пастуха перевели в горницу, клали в сумку сало, бутылку молока, хлеба вволю.
Два раза за лето Глеб оставлял Ваньку дома, за руку водил, как сына, в церковь, давал мелочи на ребячьи игры. Но во второй раз уже с обеда Ванька стал нудиться, снял новые сапоги, взял шестиметровый кнут и погнал коров в степь. "Вот черт!" – радостно изумился Глеб и навсегда полюбил работника. Решил ежегодно откладывать толику положенного Ваньке заработка, как в банк. Встанет на ноги – сам хозяиновать начнет или в долю с хозяином войдет.
Работникам у Есаулова нелегко – хозяин первым подставлял горб, и тут отставать нельзя. Небольшую передышку давала зима. Управил скотину и набок. А хозяину и зимой работа. Сидит в кабинете, где жарко топится чугунок кизяком, мозгует, счетами щелкает, каракули в амбарной книге выводит: приход – расход.
С некоторых пор преследует его тревожная мысль, словно утеряно нечто дорогое, а вспомнить не может. Ежели это крест, что подарен ему крестной матерью, так Афоня Мирный еще не вернулся из эмигрантов. Да о кресте он помнит. Тут что-то другое. Листал долговой гроссбух – все выдачи вроде записаны. Вдруг среди дела останавливался, как в столбняке: какой же долг не получен? Многие поминают его в молитвах, многим одалживал, животы спасал. Может, пойти объявить по хатам? Куда! Только в одной улице Воронцова-Дашкова до двухсот дворов.
Сковало речку. Железо за руки хватается. За голыми ветками карагача, по вечереющему небу быстро, боком проносятся галки. У амбара, поодаль от кобеля, стоит заметенный снегом станичник. Хозяину не надо объяснять, чего он тут ждет час или два. Идут в житницу со стругаными стенами. Отмерит станичнику отвейков, чиркнет крест в кондуите, попросит должника при случае подсобить в работе – рук не хватает.
Начинается вечерний обход. От Оладика с Ванькой пар валит – таскают корм коровам и коням. Помогает и Глеб. В теплой конюшне хозяин задержится, погладит нервную слепую Машку, которая знала его шаги и тихонько ржала, чуя хозяина. В сарае почешет за ухом новую любимицу Зорьку, корову. Он сам раздаивал ее после отела, бабам молоко не пускала. Морозно – подкинет соломы кабану. Хрустит под ногами снег, а месяц с неба еще морозом жарит.
Работники уже хлебают ужин в хате Прасковьи Харитоновны, а хозяин все проверяет, досматривает, поправляет. Вот арба серед двора брошена Оладиком. "Ванька!" – И Ванька является как лист перед травой, понимает без слов, хватается ручонками за тяжелые ледяные оглобли. У матери спросит, сколько взяли яиц нынче, даст совет подкармливать кур мясцом, а держать в хате – все равно печка горит. Раз пять заглянет в свой кабинет, всякий раз отмыкая и замыкая каморку. Таясь от взоров, спустится а подвал. Засветит коптилку. Отметит, сколько чего взято за день. Понюхает соленый бычий хребет. Наберет к столу яблок – сад шафранный давно родил. Задует коптящий огонек, ощупает цементные швы тайника, постоит с минуту, как в почетном карауле у гробницы.
Советская власть не трогает хозяев, даже продает им молотилки, тракторы, а тревога в душе не проходит. Что, чего – непонятно.
Страхом, отчаяньем, непоправимостью сдавит сердце. Да, надо идти на поклон к Синенкиным, делать богатый презент Федьке, детей примолвить, брать в дом Марию – без хозяйки какой дом! И натопишь, а холод. Дворянским звоном поют в доме часы – за круг жмыха выменял. Сундуки, иконы, кровать все есть. Закрома полны. Всего запасено. А на сердце лед. Одиночество. Исправдом.
Трехфунтовый замок-гирька стиснул железные челюсти на дверях подвала. Собаки спущены с цепей. Ворота и калитка на запорах.
Ночь. Тучи снега песет над станицей ветер. В свисте ветра чудятся Глебу песни Спиридона – где он теперь?
В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой темной лестницей,
С завешенным окном.
Там огонек, как звездочка,
До полночи светил
И ветер занавескою
Тихонько шевелил.
Никто не знал, какая там
Затворница жила,
Какая сила тайная
Меня туда влекла...*
_______________
* Я. П. Полонский.
Песню эту певали со Спиридоном и Мария, и Сашка Синенкин дишкантом.
Не спится ему, не лежится на пуховой перине. Встал, оделся, тихо вышел в снежную коловерть, стукнул в окошко Синенкиным, соврал:
– Митька приболел, мать послала, как бы не кончился...
Мария ахнула и побежала за Глебом.
– В доме он...
В доме благость, жарынь, лампада негасимая перед нерукотворным образом Спаса. Пахнет ванильными куличами, ременной сбруей, воском.
– Где?
– Вот, – задул свечу и обнял возлюбленную.
Под утро ветер стих, в комнатах посветлело от месяца. Лежали, гадали, как свадьбу делать, намечали сроки, высчитывали гостей. В дверь постучали.
– Мать, что-то неладно, – встал Глеб.
– Воры, – шепнула мать с Митькой на руках.
Глеб припал к решетке окна. Трое саней. Человек десять. По одеже милиция. Они толкали ворота. Наконец один перемахнул через стенку и снял засов. Собаки – дивное дело! – молчали. Тройки въехали во двор.
– Открывай! – застучали в двери.
Вот какая это милиция! Глеб повис на запорах. Прасковья Харитоновна молилась. Ванька и Мария замыкали внутренние ставни. Воры стали бить в парадную дверь, но она медным листом обшита.
– Открывай добром, сам в гости звал, это я, Очаков!
Глеб молчал, не зная что делать. Со звоном разлетелась стеклянная дверь веранды. Следующая опять медная. Несколько раз ударили прикладами. Спасибо плотнику и каменщику – дверные коробки как влитые. Потом шаги удалились. Стали слышны удары во дворе. Глеб вылез через круглую комнату на крышу.
Оладик спросонья открыл двери амбара. Его отпихнули, стали выносить зерно. Два бандита сбивали замки с коровника. Глеб не выдержал, вылез на крышу, вскочил на волчицу и закричал на всю округу:
– Караул! Убивают!
Бандит выстрелил с колена по четкой цели – на лунном небе человек в белье. Пуля попала в волчицу, обожгла колено хозяина.
– Грабят! – кричал Глеб мертвой станице.
Руки Марии стащили его вниз и захлопнули люк.
Бандиты уехали. Рассвело. По улице прошли люди. Тогда открыли двери, но топоров из рук не выпускали. Глеб закрыл ворота. Обошел двор. Забрали хлеба пудов сорок, зарезали четырех коров, Зорька чудом осталась, кровищи, как на бойне. Собаки сбились на заднем базу, лежали, уткнув морды в лапы. Виновато и ласково смотрели на хозяина. Оладик сбежал домой.
Подходили люди, в ужасе крестились, смотрели на прочерневшего за ночь хозяина. Прикатила и настоящая милиция.
Нет, не с руки нынче хлеборобить. Хлеб может не уродить, скотина подохнуть, или ее бандиты порежут. Надо ставить завод, хоть кирпичный, хоть мыльный. А коня покупать железного, что кормится керосином. А всего безопасней деньги давать под процент, это верх всех промыслов. Кадеты ли, Советы у власти, цари вовек одни: деньги, золото.
– Тетя Маруся, – сказал Ванька Сонич, побывавший на улице. Коммунарам повещали собираться у Масютиных. Вас с Федором тоже выкликали.
– Ну, я пойду, – робко заторопилась Мария, словно бросая Глеба в несчастье.
– Куда?
– К Масютиным.
– Чего время тратить надурняк, решили же!
– Решили – это одно, а из коммуны я не вышла, я птичником заведую, у меня и ключи.
– Сдай их, проживем и без коммуны.
– Нет, я и так уже уходила.
– Мужу ты будешь подчиняться?
– Теперь равноправие – никто никому не подчиняется.
– Эге! – как от заразной, отодвинулся Глеб. – Рано пташечка запела! Рада небось до смерти, что меня пограбили!
Мария обняла его:
– Ну, чего ты? Ведь договорились же ночью, как будем. Я тебя же в коммуну не зову, я сама буду, а ты единоличником. Разве нельзя так?
– Тю, малахольная!
– Любишь ты меня, Глеб?
– Ну и что с того?
– А то, что вечером приду, жди.
Глеб даже присвистнул от такой картины – он, значит, будет работать на жену, а жена – на коммунаров!
– Вот тебе мой сказ: бери Ваньку, подводу и перевозись сюда насовсем, а коммуны чтоб и в помине не было!
– Нет, перед Михеем Васильевичем стыдно, мы ему обещались.
– Ну и иди... с богом... отсюда! Баба с воза – кобыле легче! Коммунария! – И пошел прочь.
Мария постояла, оглянулась, встретилась с ледяными глазами Прасковьи Харитоновны и побрела со двора, полная смятения и боли, – при троих детях как откажешься от Глеба, но она не умела отказаться и от коммуны, которая, по словам Михея Васильевича, выведет бедняков к счастливой жизни.
В ЧУГУЕВОЙ БАЛКЕ
Печенка курицы, которую съела бабушка Маланья Золотиха, показывала верно – недород повторился. Весной Глеб, еще поистощив тайник, справил две пары быков, широко занялся хлеборобством – один засеял чуть меньше коммуны. Дунули суховеи, яровые свернулись, озимые держались. Потом хлынули дожди – хлеб гнил на корню. Но, слава богу, ливни остановились. Пшеница дала колос, спела. Уже готовили серпы и косы, прикидывали, какой возьмут урожай, и от белой гряды гор что-то отделилось, или сами горы поднялись в небо и плывут на станицу. Стало сумеречно, беспокойно попрятались куры. Подошли темные облака с белой опушкой по краям извечная примета града. Гром погромыхивал непрестанно – будет град, вторая примета. И началось. Молнии зажигались одна от другой, ломались деревья, трескалась черепица на крышах, Подкумок кинулся в улицы, смывая прудки и кладки. Град выпал в пояс и растаял лишь на пятый день. Ни листочка, ни травинки не уцелело.
Многие тогда опять уверовали в бога. У коммуны, что пела безбожные куплеты, хлеб погиб, нивы как перепахало. А клин Глеба за Юцой уцелел град шел полосой. Основные посевы побило и у него, но хоть себе да на семена осталось. У коммунаров смыло все огороды, погибла картошка, а у Глеба осталась картошка в Чугуевой балке – прихватило и ее, но она уже отцвела и поправилась.
Артельный двор выглядел сиротски. В длинной, дырявой конюшне горы навоза. Две клячи, облепленные слепнями, уже не отмахиваются. Солнце чуть не в обедах, а коммунары только собираются на поле, митингуют, разыскивают инвентарь.
Поселок коммуны у Голубиного яра – там и впрямь водились колонии диких голубей. Балки, дубравы, родники, Синие и Белые горы. Коммуна, как в старину редут, огорожена. Рано начинает работать один председатель артели Яков Михайлович Уланов. Поначалу он и швейцаром был: кто ни проедет, ворота бросает расхлебененными, и однажды Яков подсчитал: за день закрыл ворота тридцать восемь раз. Домик правления запакостили бумажные крысы, бухгалтер и счетовод, прокурили табачищем. Коммунары жили в поселке и в станице. Якову приходится по утрам выгонять станичников на работы.
После града стояла засуха. Синее до черноты небо. Сушь. Пылюга. Зной. Ни щенка, ни гусенка. Птицы покинули станицу. В хатах, побитых градом, как пулями, варят лебеду и крапиву. Чахлые акации с желтыми надрубами осыпались в июле. А надо сеять озимые. Сердце Якова обливается кровью. Вот Люба Маркова и подружка ее Мария Глотова, не надо их просить – идти на загон – первыми идут. Только говорят председателю:
– Пеши не дойдем, Яша, подвези, голова кружится.
– Я вас на огороды отвезу, там чуть морквы уцелело, будете полоть, полите и ешьте, она пользу дает большую, морква.
Часть коммунаров разбежалась. Председатель стансовета Михей Васильевич отобрал у всех документы, запретил выезд из станицы, стал самовластным единохозяином артелей. Без его визы не регистрировались браки и поп не венчал. Молодой артельный плотник полюбил дочь единоличника, уходил из коммуны в зятья.
– Документ нужен, дядя Михей, – робко просит парень.
Михей Васильевич долго не отвечает, пишет. Прежде чем приложить перо к бумаге, долго трясет пером, руку разгоняет. Не глядя на парня, спрашивает:
– Для какой такой надобности?
– Расписываться с Дуськой пойдем.
– Сперва Дуську запиши в артель.
– Она на сестру учится.
– Будет заведовать артельным медпунктом.
– Его нету в артели.
– Создадим. Ступай.
Зиму еле пережили. Литые штыки весенних лучей прокололи сугробы. Зазеленел чеснок, а петрушка и под снегом была зеленая. Весна штурмом брала завалы снега, проползала ручейками под снежными глыбами и к вечеру размывала их. Зима отступала в леса, в теневые балки.
На синей, промытой высоте летит турман. Следом за ним мальчишки запустили бумажного змея с мочальным хвостом. Это Федор Синенкин, взрослый казак, склеил змея, потому что пролетела над станицей стальная птица с красными звездами на крыльях. Низко-низко летела, саженей на шестьдесят, летчика видели, от страха падали старухи, срывались с цепей кобели.








